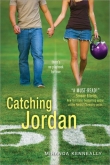Текст книги "Пляжная музыка"
Автор книги: Пэт Конрой
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 52 страниц)
Мы с мамой кружились в лучах солнца под аплодисменты гостей, Ли снимала нас на камеру, а я напевал слова песни своей прекрасной партнерше. Я закрыл глаза и, прислушиваясь к ритму мелодии, представил себе, что на моем плече лежит уже не рука матери, а рука Шайлы и под ногами была уже не трава, а как много лет назад – деревянный пол дома Миддлтонов, раскачивающегося под натиском танцующих вместе с нами атлантических волн. То было время, когда наша любовь только зарождалась и нам еще предстояло достичь согласия, а смех Шайлы на фоне испуганных криков одноклассников был своего рода залогом достигнутой договоренности и обещанием, что все еще впереди. В ту ночь Шайла каждым брошенным на меня взглядом писала песню любви. Шайла разожгла огонь в моей крови – огонь, подобный тому, что Прометей украл у богов. Любовь к Шайле отличалась от чувства, что я испытывал, танцуя с мамой, и все же их роднила чистая энергия, возникшая в моей душе. Мысленно соединяя женщину, что подарила мне жизнь, и женщину, что подарила жизнь моей прелестной Ли, снимавшей нас на видеокамеру, я чувствовал священный трепет. Что может быть прекраснее, чем танец сына с матерью, первой красавицей маленького городка?! Вот о чем я думал тогда, пытаясь пойти дальше в своих размышлениях. Мне повезло, что я мог любить Люси чистой, неиспорченной любовью, потому что лицо ее было лицом моей матери и другой у меня никогда не было и не будет. Слово «мама» применимо только к одной-единственной женщине на земле, и мне вдруг стало больно оттого, что когда-то эта женщина постеснялась выразить мне свою любовь, вынудив стать беженцем. На примере Люси с ее невероятно сложным характером я понял, что матери могут являться нам в самых разных обличьях. И тут неожиданно меня кто-то похлопал по плечу, оторвав от грустных мыслей. Обернувшись, я увидел Далласа, который тоже хотел потанцевать с матерью, а за ним уже выстроились в очередь Ти и Дюпри. После, потанцевав с каждым из нас, Люси имела право осчастливить остальное мужское население Уотерфорда. Я осмотрелся по сторонам и увидел, что отец, переходя от одной группы к другой, взял на себя роль неофициального распорядителя. Сыновья не спускали с него глаз и, поделив место торжества на квадраты, руками подавали друг другу сигналы, когда отец менял дислокацию. Насмотревшись за свою жизнь на отца в состоянии опьянения и зная, какой непоправимый ущерб он может причинить своим нетрезвым вторжением, я постепенно начал понимать, почему во время войны караульных, уснувших на посту, расстреливали. На моих глазах отец погубил с десяток вечеринок не хуже этой.
Но на празднике в честь матери отец умудрялся держать себя в руках, хотя его сыновья предлагали ей вычеркнуть, от греха подальше, его имя из списка приглашенных. Но Люси лично пришла к нему в офис и собственноручно передала приглашение. Как по секрету сказала мне Люси, они тогда проговорили больше часа и судья был потрясен доверительностью разговора, который стал своеобразным подтверждением совместно прожитых лет.
– Сынок, твоя мама – просто конфетка, – произнес отец.
– Только попробуй надраться – убью, – ласково ответил ему я.
– Как я могу надраться на званом вечере собственной жены?! – воскликнул отец, исполнившись праведным негодованием.
Но он держал слово и переходил от одной группы к другой с достоинством церемониймейстера. Одетый в безупречный белый костюм, судья был само очарование и любезность, при этом он старательно обходил стороной то место, где разворачивалось основное действо и где принимали гостей Люси с доктором Питтсом.
– Какой красивый мужчина! – услышал я чьи-то слова, обращенные к Ледар, и заметил, что Ли снимает дедушку всякий раз, как тот попадает в поле ее зрения.
Когда «Ред клэй рамблерз» запели песню Берта Кемпферта «Wonderland by Night», братья посмотрели в сторону исполнителей, подумав то же, что и я: кто-то явно заслал деньги в оркестр. Под эту мелодию наши родители всегда танцевали медленный танец, и я затаил дыхание, увидев, что судья направляется к моей матери.
Он низко поклонился, и мама, стоявшая рядом с доктором Питтсом, присела в реверансе. Отец спросил у доктора разрешения пригласить на танец его красавицу жену, и тот только добродушно махнул рукой. И судья, немного позируя, легко и размашисто закружил маму в танце, ставшем его собственным прочтением обычного вальса. Гости расступились, чтобы дать им место, а я не мог заставить себя посмотреть на братьев. Целых две минуты, пока эта пара кружилась по безупречно подстриженной лужайке, я был не в состоянии говорить. Меня тронуло до глубины души то, что они так красиво и слаженно танцевали, а еще больше потрясло воспоминание о том, какой катастрофой обернулся их брак. И мне захотелось опуститься на колени перед моими родителями. Я провожал каждое их движение, понимая, что этот танец значит для них не меньше, чем для их сыновей.
Когда танец закончился, отец подвел Люси к доктору Питтсу, и мужчины обнялись под аплодисменты Люси и всех присутствующих.
Майк с Ледар подошли ко мне, и мы стояли рядом, положив руки друг другу на плечи, а «Ред клэй рамблерз» играли классическую пляжную музыку, и, когда они дошли до «Sixty Minute Man», толпа взревела.
– Моя песня, моя песня! – обрадовался Майк и, задергавшись в шимми, поманил Ледар за собой, и Ледар двинулась ему навстречу с уверенностью кошки, прикидывающей расстояние от пола до стола.
– Какая красивая женщина! – крикнул я ей.
– Чертовски справедливо, – откликнулась она. – Рада, что заметил.
– Кто пел эту песню? Эту божественную, божественную песню, которую следовало бы записать и поместить в Талмуд? – поинтересовался Майк.
– Знаю, знаю. Дайте-ка подумать, – улыбнулась Ледар.
– Это Билли Уорд и группа «Доминоз», – подсказал я.
– Обожаю Джека! – воскликнул Майк. – Прошлое для него так же свято, как и для меня. Ледар, выходи за меня замуж. Ты единственная знакомая женщина, на которой я еще не был женат.
– Майк, а я могу сделать тебя счастливым? – поинтересовалась Ледар.
– Конечно нет. Потому что я, похоже, останусь самим собой. С ясным умом и душой Майка Хесса, который никогда не угомонится. Который мотается по миру в безнадежной попытке обрести счастье, чтобы все было снова как в детстве.
– Я хочу сделать кого-нибудь счастливым, – заявила Ледар. – Готова даже приплатить за это.
– Хорошее высказывание. Вставь его в сценарий. Нет, я слишком тебя люблю, чтобы на тебе жениться. Все мои бывшие жены ненавидят меня. Все они миллионерши, живут лучше Людовика Четырнадцатого, и при этом я у них в печенках сижу. Начинают считать мои деньги, потом звонят моему бухгалтеру. Он единственный, кого мои финансы действительно волнуют. Эй, бабуля, дорогая, давай тряхнем стариной!
Тут Майк вместе с Ледар направился к Эсфирь Русофф и, не обращая внимания на ее протесты, поднял с кресла. Ледар взяла за руку Макса Русоффа, и они присоединились к танцующим.
– Ли, ты должна обязательно это заснять, – произнес я. – Ледар танцует с Великим Евреем, а Майк – с Эсфирь, женой Великого Еврея.
Я заметил Кэйперса и его молоденькую жену Бетси, которые набирали политические очки, окучивая гостей. Улыбки у них были одинаковые, словно зубы им выравнивал один ортодонт, использовавший для обоих одни и те же брекеты. Они были точно пара львов, вышедших на охоту: сосредоточенные и полные звериной грации. И так же грациозно, в тесной связке, они обрабатывали избирателей на флангах. Я заметил, что время от времени глаза их встречались, во взглядах обоих мелькала искра понимания: они как бы хвалили друг друга за хорошую работу в команде.
– Бетси, – произнес я, когда они подошли к моему столу, – скажите, ваша незащищенность – результат долгой тренировки? Или это природный дар?
Бетси сердито сверкнула на меня глазами, но она была слишком хорошо воспитана, чтобы поддаться на мою провокацию.
– Ох, Джек! Я только что о вас говорила. Очень надеюсь, вы уже купили обратный билет в Италию.
– Вы так добры, Бетси, – ухмыльнулся я. – Как жаль, что наша чудесная дружба захиреет от недостатка внимания.
– Обязательно захиреет, если это будет зависеть от меня, – ответила она.
– Вам идет, когда вы сердитесь, – сказал я. – Это меня возбуждает.
– Дорогая, не позволяй моему старому другу Джеку подначивать себя, – вмешался Кэйперс. – Вся проблема во мне.
– Меня радует такая откровенность, – произнес я.
– Слышал, моя бывшая положила на тебя глаз, Джек, – сменил тему Кэйперс.
– Надеюсь, что так.
– Тогда мы в каком-то смысле породнимся, – широко улыбнулся он.
– Конечно породнимся. Мы даже собираемся назвать в твою честь своего первенца.
– Весьма польщен, – хмыкнул Кэйперс.
– Правда, я не совсем уверен, что Энема [186]186
Энема (Enema) по-английски означает «клизма».
[Закрыть]– красивое имя. А вы, Бетси?
– Джек, Джек, – вздохнул Кэйперс. – Что за манеры!
– Прошу прощения, Бетси. Не знаю, что на меня нашло, – пожал я плечами.
– Поверить не могу, что тебе когда-то нравился этот парень, – сказала мужу Бетси.
– У вас обо мне превратное представление, – в притворном ужасе закатил я глаза. – Когда-то я походил на Младенца Христа. Но потом прочитал «Капитал».
– В жизни не видела большего засранца! – фыркнула Бетси.
– Вот и нет. Видели. В церкви. Возле алтаря. В день вашего венчания, моя сладкая, – ответил я.
Еще немножко, и Бетси, казалось, взорвется. Однако ей удалось сдержаться. Она вычислила в толпе подругу и поспешила к ней, освещая себе дорогу широкой улыбкой.
– Кэйперс, Бетси идеально тебе подходит, – заявил я. – Думаю, это худшая рекомендация, которую я кому-либо давал.
Мы оба замолчали, заметив сияющего Майка Хесса.
– Сегодня у твоей матери великий день, – произнес Майк.
Я отыскал глазами мать в толпе поклонников и старых друзей.
– Да, настоящий бал. Майк, спасибо тебе за все.
– Я всегда заглядывался на Люси, – сказал Майк Кэйперсу. – Но черт побери, кто меня за это осудит!
– Майк умеет говорить приятные вещи, – заметил я.
– Быть красивой – дело нехитрое, – бросил Кэйперс. – А вот сексапильной – целое искусство.
– Тебе ли этого не знать, Кэйперс, – ухмыльнулся Майк. – Ты у нас и красивый, и сексуальный.
– На самом деле единственная вещь, что не имеет цены, – это хороший генофонд! – рассмеялся Кэйперс и, повернувшись ко мне, поинтересовался: – Слышал насчет четверга?
Я покачал головой, а Майк поспешил объяснить:
– Я просил Ледар передать тебе, чтобы ты не занимал вечер четверга.
– А что будет? – удивился я.
– Цветомузыка, – произнес Кэйперс, бросившись в сторону приехавшего за Стромом Термондом лимузина.
– Ничего не могу сказать. Даже Кэйперс не совсем в курсе. Но будет нечто грандиозное. Возможно, это станет величайшим вечером в нашей жизни.
– Ну скажи хоть что-нибудь.
– Звонил Джордан, – ответил Майк. – Он хочет, чтобы мы еще раз собрались все вместе.
– Я думал, он в Европе, – с трудом выдавил я, потрясенный этим сообщением.
– Джек, спорим, что ты врешь, – рассмеялся Майк и добавил: – Ладно, расслабься. Джордан сам со мной связался. Мне не удалось его выследить.
– И где мы должны встретиться?
– Всему свое время. Мы пока еще на стадии переговоров. Это словно поймать Святого Духа! Но думаю, это большая победа для нашего маленького фильма. Джордан хочет очной ставки с Кэйперсом.
– А почему он связался именно с тобой? – поинтересовался я.
– Он наконец-то согласился продать мне историю своей жизни. Похоже, он решил сдаться, – объяснил мне Майк. – И если хочешь знать мое мнение, ему нужны деньги на адвоката.
– Майк, – прорычал я, схватив его за руку, – если или ты, или Кэйперс попытаетесь сделать так, чтобы Джордана арестовали, то я утоплю вас в аквариуме с лобстерами в «Харрис Титере» [187]187
«Харрис Титер» – сеть супермаркетов в США.
[Закрыть].
– Клянусь, тут я на твоей стороне, – поспешил успокоить меня Майк. – Кэйперс не рискнет встать у меня на пути.
– Будь осторожен, – предупредил его я. – Половина присутствующих здесь были на заупокойной службе в семьдесят первом. Они все еще считают, что Джордан мертв.
– Это добрые христиане, – улыбнулся Майк, оглядывая толпу. – Версию воскресения из мертвых проглотят за милую душу.
– А кто еще там будет?
– Переговоры пока идут, – ответил Майк. – Я и так сказал тебе больше, чем следует. Так что не занимай вечер четверга.
– Не смогу. Мне надо в магазин скобяных изделий Фордхама, купить удобрения для моих африканских фиалок.
– Приходи вместе с Ледар, – невозмутимо продолжил Майк. – Подробности сообщу по телефону.
– Майк, а в Голливуде тебя никогда не посылали на хрен? – поинтересовался я.
– В Голливуде все меня страшно боятся, – беззлобно ответил Майк, просто для информации.
– Тогда увидимся в четверг, – бросил я.
– Джек, я ведь был хорошим ребенком?
– Замечательным. Лучшим в мире, – ответил я.
– Но тебе не нравится, каким я стал. Так ведь? – не унимался Майк.
– Очень не нравится.
– Джек, даже законы гравитации не могут остановить свободное падение, – произнес он с горечью. – Однажды я посмотрел на себя другими глазами. Молодой человек на взлете. Человек известный и состоявшийся. Потом мысленно прокрутил фильм о собственной жизни и пришел в ужас. Я позорю собственную мать.
– Стань лучше, Майк. Мы ведь южане. В этом много плохого, однако сердце у нас открыто для добра. Вот такие мы люди.
– А! – воскликнул Майк, внимание которого привлек «фольксваген» с открывающимся верхом шестьдесят восьмого года выпуска, когда-то ярко-желтый, а теперь выгоревший на солнце и ужасно грязный. – Посмотри, что там едет по аллее! Ты, случайно, не на этой машине ездил в колледже?
– Она по очереди переходила ко всем моим братьям. Теперь на ней ездит Джон Хардин. Он везет маме подарок, – объяснил я.
Джон Хардин лавировал на своей машине, из которой торчала какая-то накрытая одеялом мебель, между припаркованными автомобилями до тех пор, пока не подъехал к центральному столу с Люси во главе. Народу уже поубавилось, но самые близкие друзья матери остались, а бармены деловито готовили коктейли в обеих половинах дома. Ли сидела подле Люси, которая развлекала гостей за столом историями, очаровывая всех своим искрометным, но абсолютно беззлобным юмором. Ли видела, как бабушка прямо-таки завораживает аудиторию, останавливаясь на полуфразе и вопросительно поднимая одну бровь, перед тем как перейти к кульминационному моменту. Дома Ли пыталась опробовать этот способ на мне, но так и не смогла приподнять одну бровь, чтобы тут же не вздернулась и другая. Пока Ли смотрела во все глаза, натренированная бровь Люси успела нацелиться на автомобиль Джона Хардина, подъезжающий прямо к ее столу. Джон Хардин часто выводил мать из себя, но ее любовь к нему, обиженному судьбой ребенку, была безграничной. Она и сейчас старалась не показывать своего беспокойства, когда сын слишком уж цветисто приветствовал сидящих за столом. Он закончил мастерить свой подарок и приурочил это специально к ее празднику. Толпа зааплодировала, когда Люси поднялась и, взяв за руку сына, пошла к машине. Джон Хардин так волновался, что аж вспотел.
Его натуре была присуща некоторая театральность, иногда принимавшая весьма эксцентричные формы, а иногда переходившая все границы. Джон Хардин, как настоящий шоумен, заставил Люси закрыть глаза, а один из музыкантов, чтобы подчеркнуть торжественность момента, выдал барабанную дробь. Джон Хардин, продемонстрировав недюжинный вкус и любовь к театральным эффектам, медленно снимал одеяло за одеялом со своего подарка; когда осталось снять последнее, на минуту замер. Затем, рванув одеяло на себя, он достал с заднего сиденья автомобиля подарок и положил к ногам матери, причем поначалу даже не заметив изумленного вздоха толпы.
Джон Хардин смастерил для Люси гроб из дуба, поваленного ударом молнии на острове Орион. Наш младший брат поставил гроб на траву и, взяв руку Люси в свою, провел ею по отполированному дереву, словно мастер, изготовивший для нее скрипку из драгоценных пород дерева. Гроб так блестел, что видна была небольшая бороздка, где пила пошла против волокон дерева. Я заметил, что, когда Джон Хардин снял со своего подарка последний покров, мать испытала шок, однако оправилась быстрее других, так как поняла, что в объявленном вне закона изломанном мире Джона Хардина этот гроб был знаком любви ее сына-шизофреника, который был просто-напросто не способен подогнать свое нечленораздельное, неуклюжее объяснение в любви под общий шаблон.
– А еще он привез ей три галлона бальзама, – покачав головой, произнес Даллас.
– Вы только посмотрите на работу! – восхищенно воскликнул Дюпри. – Само совершенство. Джону Хардину надо бы яхты строить.
– Я и рад бы сказать что-нибудь остроумное, – принял эстафету присоединившийся к нам Ти, – но из всех братьев только я один задним умом крепок. Возможно, выдал бы что-нибудь веселенькое, только случится это месяца через два, когда я буду менять колесо на шоссе или попытаюсь получить деньги в банкомате на отшибе, поскольку у меня перерасход текущего счета. Знаю, мальчики, что вы уже порадовали почтенную публику шестью-семью убойными шутками и ждете от меня хотя бы одну. Но я пас. Сперма отца со временем ослабла. Мамины яйцеклетки состарились и пожухли, когда на горизонте появились мы с Джоном Хардином. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но все же немножко странно смастерить гроб для собственной матери, у которой рак. Ага, вот и все мое заявление для прессы. Можете отправлять в любое телеграфное агентство.
– Он подарил именно то, что нужно, – заметил Дюпри. – Возможно, слегка странный подарок. Зато доктор Питтс сэкономил кучу денег.
– Бедная мамочка. Прямо-таки танк какой-то! – не выдержал Даллас. – Теперь ей придется поблагодарить Джона Хардина, словно он пожертвовал деньги на здание для колледжа, чтобы то назвали ее именем.
Люси встала на цыпочки, поцеловала Джона Хардина в щеку и крепко прижала к себе. Прижалась к его груди и улыбнулась, тем самым заставив его покраснеть. Затем Люси отступила на шаг, посмотрела на гроб и обратилась к толпе:
– Кто же раскрыл мой секрет? Это именно то, что я хотела. Мне не терпится его опробовать.
И тогда все гости благодарно и с облегчением рассмеялись в ответ, по достоинству оценив быструю реакцию Люси и ее умение разрядить обстановку.
Тут Джон Хардин снова удивил нас, сказав буквально следующее:
– Я хотел дать маме то, что редкий сын способен дать своей матери. Многие из присутствующих знают, что я принес маме немало горя, поскольку страдал от того, над чем не властен. Меня беспокоит только одно: а вдруг мама решит, что я смастерил гроб, считая, что она скоро умрет. Но это совсем не так. Мама всегда учила нас, что слова хороши, но болтать языком может любой. Она всегда твердила: обратите внимание на этого мужчину или на эту женщину, на людей, которые действовали: что-то делали или уже что-то сделали. Она учила нас верить своим глазам, а не ушам. Мне кажется, что я умираю, как только подумаю, что мама может уйти. Мне непереносима одна только мысль об этом. И сейчас мне трудно говорить. Но когда твое время придет, мама, я хочу, чтобы ты знала: я сделал такой красивый гроб, вложив в него всю свою любовь. Я срубил дерево, отвез его на лесопилку и шлифовал каждый дюйм. Я полировал его до тех пор, пока не увидел в нем собственное отражение. Праздник организовали для тебя мои братья, а я вот им совсем не помогал. Я трудился. Я очень боялся, что мой подарок расстроит тебя и твоих друзей. Я представлял себе, что строю тебе дом, в котором ты будешь жить вечно, дом, в который придет за тобой Бог.
Люси снова крепко обняла сына, и Джон Хардин зарыдал у нее на плече под одобрительные крики толпы. Затем он оторвался от матери и, продемонстрировав свою недюжинную силу, поднял гроб, словно это была доска для серфинга, положил обратно на заднее сиденье машины и уехал прочь, даже не попробовав барбекю.
– Надо же, наш шизофреник вышел на авансцену! – воскликнул Даллас. – Прямо-таки история моей жизни.
– Нет, – ответил я. – Он сделал нечто большее. Дал вечеру прекрасное логическое завершение.
Глава тридцать четвертая

– Итак, Джек. Ты действительно хочешь узнать, что случилось со мной во время войны? Ты по наивности полагаешь, что мой рассказ позволит тебе получить ответы на мучивший тебя вопрос и ты наконец сможешь понять, почему бедная Шайла бросилась с моста в Чарлстоне. Джек, ты наверняка считаешь, что Шайла как-то связывает тот мост с воротами Освенцима. Ты ведь так считаешь, Джек? В твоей жизни все делается по рецепту. Надо просто соблюдать последовательность действий, все точно отмерять, не экспериментировать, правильно выставить время приготовления – и наслаждаться отличной едой в надежном американском доме. Но ты предполагаешь, что я забыл добавить какой-то ингредиент. И вот, получив этот ингредиент от меня, ты сможешь взять его в руки, взвесить, обнюхать, каталогизировать, добавить в пропись, наконец бросить в кастрюлю – и рецепт смерти Шайлы Фокс будет готов.
Джек, у тебя найдется немного времени для ада? Позволь изложить тебе краткую биографию червей. Во время войны черви в Европе были самыми жирными. Я проведу тебя по всем кругам ада, и, думаю, моя экскурсия запомнится тебе надолго. Я был там однажды, все дорожные издержки взяли на себя неулыбчивые турагенты Третьего рейха. Ты любишь шутки, Джек, всегда любил, и я надеялся, что ты улыбнешься при этих словах, но нет – ты остался мрачным. К чему такая серьезность? И ты, и Шайла постоянно твердили мне об этом. Прошлое есть прошлое. Что прошло, то быльем поросло. Ну хорошо. Итак, смеяться ты не собираешься. Обещай мне только одно. Ты должен выслушать все от начала до конца. Даже если почувствуешь, что тебя вот-вот стошнит. Никаких слез. Я тебя задушу собственными руками, если осмелишься пролить хотя бы одну христианскую крокодилову слезу из-за смерти тех, кого я любил. Согласен?
– Согласен, – ответил я.
– Итак, Джек. Наконец-то мы нашли общий язык. Мы долгие годы презирали друг друга, и ни одна живая душа, кроме нас, не знает, каким сильным было наше презрение и как долго все это продолжалось. Я ненавидел тебя по причинам, от тебя не зависящим. Ты тут совершенно ни при чем. Откуда тебе знать, что ты похож на сына эсэсовца, человека, закованного в броню, летчика из люфтваффе? Голубые глаза всегда поют мне только песню смерти. Голубые глаза встретили мою семью на платформе Освенцима. И вот твои голубые глаза я увидел в соседнем доме в Уотерфорде. Менгель, у которого тоже были голубые глаза, показал налево и отправил в газовую камеру всю мою семью. Шайла тоже пошла налево, прямо в твои объятия.
Ты в жизни не встречал такого музыканта, как я. Нет, такого, каким я был когда-то. Я воспитывался в старинных европейских традициях, корнями уходящих в прошлое, где подлинный артистизм – удел избранных. Еще в детстве я заключил договор с пятью горизонтальными линиями, где черные знаки рождают музыку. Мир нотного письма был для меня как открытая книга. В этом мире царят размер такта, ферматы, добавочные нотные линейки, орнаментика и тридцать вторые ноты, которые являются языком и наследием музыкантов всего мира. Это то, о чем ты абсолютно ничего не знаешь. Во всем, что касается музыки, ты и твое семейство – полные профаны. Музыка – то, без чего я не могу жить. Ибо жизнь без музыки – словно путешествие по пустыне, куда не дошла даже весть о том, что есть Бог. В сладкоголосой гармонии музыки я нахожу все необходимые доказательства существования Бога, который держит землю между нотными станами, где лежат Небеса. И здесь Он отметил все линии и интервалы нотными знаками, настолько совершенными, что своей красотой они прославляют все Его творения. В один прекрасный день я даже решил, что достоин сыграть музыку, которую написал и спрятал в созвездиях наш Создатель. По крайней мере, так меня учили думать. Посмотри на звезды. Это только ноты. Это и есть музыка.
Ах да! Холокост, Джек. Да, опять это слово. Это глупое слово, этот пустой сосуд. Я устал от этого слова. Его так затаскали, что оно больше ничего не значит, а мы, евреи, засунули это слово миру в глотку, запугивая каждого, кто осмелится использовать его ненадлежащим образом. Наш бедный мир не в силах выдержать столь тяжкий груз, и все же наш бедный мир обречен вечно качаться под тяжестью этого груза. Следы, оставленные фургонами для перевозки скота, стоны стариков, чувствующих, как в кромешной тьме по ногам течет собственное дерьмо, отчаянные вопли молодых матерей, видящих, как у них на руках умирают младенцы, непереносимая жажда, мучащая детей во время бесконечной транспортировки, жажда, убивающая, терзающая до самого последнего момента, когда миллионы людей в газовых камерах рвутся вверх, раздирают себя кровавыми ногтями под действием газа, истребляющего их, точно насекомых… Холокост. Нет такого английского слова, чтобы вместить в себя столько человеческих сердец!
Мы не уцелевшие. Никто из нас не уцелел. Мы игральные кости. Нас швырнули в преисподнюю, и мы узнали, что человеческая жизнь ценится не дороже слепня, которого можно прихлопнуть. У личинок, что выводятся в экскрементах, было больше шансов выжить, чем у еврея, затянутого в машину Третьего рейха. Нацисты – это гении смерти. Когда война только началась, я еще ни разу не видел умирающего. Когда же она подходила к концу, я так привык к смерти, что даже просил ее забрать меня из этого ужасного мира. Я узнал, что нет ничего страшнее, чем то, когда смерть отказывается тебя забирать. Но смерть не исполняет желания каких-то там игральных костей. Они просто катятся, и какое число выпадет, решает слепой случай. Но кости ведь не способны чувствовать. Их просто бросают – и они падают в пропасть. Я могу рассказать тебе, как отыскать путь в пустоту. У меня есть карта, Джек. Все названия улиц залиты кровью, и все улицы вымощены черепами евреев. Ты ведь христианин, Джек, и чувствуешь, что здесь ты у себя дома. Я ненавижу твое лицо. Мне очень жаль. Я всегда его ненавидел и всегда буду его ненавидеть.
Убийство евреев, облавы, неописуемая жестокость, все невероятное, ставшее обычным делом. Холокост от начала и до конца было христианским изобретением. А иногда – чисто католическим. Все началось с одного наблюдательного еврея, Христа. Этот самый еврейский Христос спокойно смотрел, как во имя Его убивают миллионы Его братьев и сестер. И вот последователи этого Христа, обрезанного, досконально соблюдавшего все еврейские законы, охотились на евреев, словно те были микробами, паразитами. Даже плач наших детей не мог тронуть христианское сердце. Плач наших младенцев приводил в ярость немецких солдат. Младенцы. Такую распущенность рейх расценивал как личное оскорбление. И можно сказать, что им еще очень везло, если они сразу попадали в газовую камеру.
Ты ненавидишь мои глаза, Джек. Все ненавидят мои глаза. Потому что они холодные. Мертвые. Думаешь, я этого не знаю? У меня есть зеркало. Когда я бреюсь, то боюсь увидеть свои глаза. Мои глаза давным-давно умерли, и живут они постольку, поскольку еще живет мое тело. Я могу заставить себя ни о чем не помнить. Но мои глаза видели все, и там, за сетчаткой, на крюках, как мясные туши, висят человеческие тела. Мои глаза отталкивают, поскольку видели слишком много ужаса. Мои глаза вызывают отвращение, и не потому, что нуждаются в отдыхе, а потому, что жаждут забвения.
Сейчас это уже стало клише. Найдется ли кто-то, кто уже тысячу раз не слышал этой истории? Евреи кричат: «Мы не должны забывать!» – и снова и снова рассказывают одно и то же, так упорно, так отчаянно, что слова сглаживаются, становятся округлыми, неразборчивыми, и даже мне хочется заткнуть уши и крикнуть: «Да замолчите же вы наконец!» Я боюсь, что когда-нибудь придет такое время, когда нашу историю просто-напросто не услышат, потому что ее слишком часто рассказывают. Эта история стала общим местом из-за хваленой немецкой аккуратности. Стоило нацистам запустить машину смерти, и они уже ни на шаг не отступили от своей методики. Они входили в каждый большой город, в каждый маленький городок, в каждое местечко, уже имея детально разработанный план по уничтожению евреев. Все мы рассказываем одну и ту же историю. Различие лишь в деталях.
Родился я не среди евреев, как вы все в Уотерфорде привыкли считать. Мой отец был берлинцем, сражался за кайзера, был ранен и награжден за отвагу в сражении на Сомме. Родители матери были музыкантами, а еще владельцами фабрики, славящейся на всю Польшу. Это были граждане мира, Джек, которые попробовали все лучшее, что могла предложить Европа. Евреи Уотерфорда – потомки отбросов русского и польского еврейства, неграмотного и малокультурного, воняющего сырой картошкой да протухшей селедкой. И нечего возмущенно поднимать брови, Джек! Ты должен это знать, так как иначе никогда меня не поймешь.
Руфь – потомок таких вот евреев. Ее родные были крестьянами, торговцами и лесорубами, которые днем говорили на идиш, а по ночам искали вшей в волосах. В Америке они стали бы не лучше черных. Schwarzen. He мне их судить. Просто я хочу объяснить, кто Руфь и кто я. Все дело в происхождении. Европа со своей многовековой историей и моя семья объединили усилия, сделав из меня музыканта. Свою первую сонату я сочинил, когда мне было семь лет. В четырнадцать написал симфонию в честь сорокалетия матери. Во всей Южной Калифорнии не найдется такой культурной семьи, как та, в которой я родился. Я говорю это просто для информации. Никакого высокомерия, всего лишь констатация факта. Своей глубиной Европа наложила неизгладимый отпечаток на мою семью. Европа погрузила нас в свою тысячелетнюю культуру. У Америки нет культуры. Она до сих пор в пеленках.
У меня было четыре сестры, все старше меня. Звали их Беатриче, Тоска, Тоня и Корделия. Как видишь, совсем не еврейские имена, и взяты они были из мира художественной литературы и оперы. Куда бы мои сестры ни шли, их непременно сопровождал смех. Все удачно вышли замуж, сделав блестящие партии. Мне они казались молодыми львицами, сильными, волевыми, и они никогда не позволяли матери бранить меня. Каждый раз, как бедная мама хотела меня отругать, сестры бросались на мою защиту: окружали меня, задевая шелковыми юбками, причем их тонкие талии были на уровне моих глаз, и в четыре голоса спорили с матерью, остававшейся в меньшинстве. Отца, обычно читавшего газету, все это страшно забавляло, словно он смотрел новую комедию в парижском театре.
Мы не были хорошими евреями, мы были хорошими европейцами. Отец собрал потрясающую библиотеку: сочинения Диккенса, Толстого, Бальзака и Золя, причем все книги в кожаных переплетах. Отец мой был прекрасно образован и великолепно воспитан. Его очень любили рабочие фабрики, которой он владел. Он не позволял себе грубости и авторитарности, а поскольку много читал, то знал, что счастье рабочих окупится сторицей, так как их довольство только приумножит его богатство.