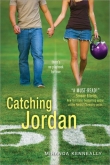Текст книги "Пляжная музыка"
Автор книги: Пэт Конрой
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
– Что ж, придется рискнуть, – бросил Джон Хардин нам вслед, так как мы уже начали спускаться по деревянной лестнице. – Никому не рассказывайте о моем доме, – предупредил он, догнав нас внизу. – У меня повсюду враги, и они с ума сойдут, если узнают, что я свободный человек.
– Твоя тайна умрет вместе с нами, – заверил его я.
Я посмотрел в сторону катера, который находился уже в миле от нас. Звук мотора успокаивал и был так привычен мне, выросшему в этой низменной местности, что не нарушил бы даже самый неглубокий сон.
Когда мы проходили мимо старого рыбачьего домика, Джон Хардин отпер дверь и пригласил нас внутрь. Я был рад, что он привел дом в порядок: отремонтировал сломанные окна и даже покрасил стены внутри. Печка по-прежнему стояла в углу, и те же покрытые плесенью койки прижимались к дальней стене, но сейчас Джон Хардин использовал это помещение как мастерскую, и все его инструменты лежали на своих местах и содержались в идеальном порядке. Посреди комнаты высился штабель недавно распиленных досок, от которых исходил чистый запах свежего дерева.
– Знаешь, зачем эти доски? – спросил он.
– Понятия не имею.
– Хочу сделать гроб для мамы.
– Что за жуткая идея! – возмутился я. – А она знает?
– Конечно не знает. Это должно стать сюрпризом, – буркнул Джон Хардин, которого явно задел мой тон. – По крайней мере, у нее будет одной заботой меньше. Я сделаю его крепким и красивым.
– Ей очень понравится, – сказала Ли.
– Я в этом не так уверен, – не сдавался я.
– Папа ошибается. Просто чудесная вещь, – заявила Ли, бросив на меня неодобрительный взгляд.
– Джек, это будет настоящее произведение искусства. Сам посмотришь. Такого красивого гроба в нашем графстве еще не видели. – Тут Джон Хардин огляделся по сторонам, словно боясь, что его подслушивают непрошеные гости. – В этом графстве полно алкашей, лжесвидетелей, негодяев, сутенеров, сатанистов и тех, кто уклоняется от уплаты налогов.
– Уклоняется от уплаты налогов? – переспросил я.
– Мне не надо платить налоги, потому что я шизофреник, но есть люди, которые вообще не заполняют деклараций для налоговой службы. Они хуже грибов, растущих на пнях.
– Почему вы не хотите поехать с нами? – спросила Ли.
Джон Хардин посмотрел на причаливающий к пристани катер.
– Нет, поезжайте без меня, – бросил он и, как загнанный зверь, помчался к дереву, быстро вскарабкался по лестнице и втащил ее наверх, отгородившись от жестокого мира.
Ледар смотрела, как мы стягиваем рубашки и брюки, надетые прямо поверх купальных костюмов. Когда мы забрались в катер, Ледар усадила Ли перед собой и позволила ей взяться за руль.
– Ты не сможешь считаться местной девочкой, пока не научишься управлять катером, – заявила Ледар. – Дерни за ручку привода, дай задний ход и возьми курс на Уотерфордский пролив.
Ли сделала так, как ей было сказано, и катер медленно пошел назад, к середине реки.
– Сначала поверни штурвал направо, а потом прямо вперед.
Ли строго следовала указаниям Ледар, белокурые волосы которой казались еще светлее на фоне темной гривы Ли. Девочка загорела до черноты, а Ледар, похоже, солнце и не коснулось.
– Прилив продолжается, и вода уже высокая, – заметила Ледар. – Об отмелях не беспокойся.
– С какой скоростью мы можем идти? – поинтересовалась Ли.
– Давай жми, милая, – ответила Ледар. – В детстве надо из всего извлекать максимальную скорость.
Ли прибавила скорость, и катер, шестнадцатифутовый «Ренкен», чарлстонского производства, выскочил из воды и помчался по главному каналу между островом Орион и необитаемым островом Барнуэлл. Ледар указывала дорогу через заводь за барьерными островами, где от горизонта и до горизонта огромным зеленым ковром раскинулась спартина.
Когда мы добрались до реки Уотерфорд, Ледар сделала знак Ли сбросить скорость так, чтобы катер шел по инерции. Я пробрался между своими дамами, открыл банку пива и, плюхнувшись на скамью, взялся за штурвал. Надвинув бейсболку на лоб, я постарался прикрыть от солнца лицо и шею, а Ледар в это время развязала лежавший на корме трос и стала потихоньку травить его. Управлялась она умело, словно воздушная гимнастка, проверяющая снаряжение перед смертельным номером.
– Что вы делаете, Ледар? – заинтересовалась Ли.
– Обрати внимание на выражение ее глаз, – сказал я. – Она четыре раза выигрывала соревнования по водным лыжам.
– Пять раз, – поправила меня Ледар. – Причем, дорогая, там были и мальчики, и девочки. Я катаюсь лучше любого здешнего парня.
– Даже лучше, чем папочка?
Ледар рассмеялась, бросив на меня ласковый взгляд.
– Твой папочка – хороший мальчик, Ли, но в катании на водных лыжах я его легко могла заткнуть за пояс. Скажи ей, Джек. Наступи себе на горло и признайся.
– Она самонадеянна до невозможности, – подтвердил я. – Но когда эта девочка встает на лыжи, то становится сверхчеловеком. Это поэзия в движении. Морская богиня.
Ледар прыгнула в воду первой. Ли последовала ее примеру, а я включил переднюю передачу и потихоньку поплыл вперед, вытягивая буксирный трос по направлению к двум плывущим позади меня фигурам. Неожиданно я перенесся в тысячу жарких полдней своего детства, когда запах реки и звук моторов до краев наполняли меня жизнью. В голове, словно кадры кинопленки, проносились образы рассекающей водные просторы Ледар, и когда та наклонялась, чтобы сделать крутой вираж, то казалось, будто она ложится на поверхность воды. Ледар мчалась по воде за быстроходной лодкой, и это было лучшей демонстрацией всех законов физики и всей красоты геометрии. Глядя, как она учит и подбадривает Ли, я вспомнил, что все свое отрочество свято верил в то, что Ледар станет матерью моих детей. Ледар показала Ли, как следует держаться за рукоятку фала, затем поставила ее ноги на лыжи и надежно их закрепила.
Что бы ни делала Ледар в воде, все выглядело удивительно грациозно. Казалось, вода была ее родной стихией. Сейчас она кружила возле слегка испуганной и радостно возбужденной Ли, которая унаследовала от меня несокрушимый состязательный дух. Она терпеть не могла проигрывать, особенно на глазах других. Но Ледар успокоила ее и объяснила, что лыжи следует ставить параллельно, руки не сгибать, а все остальное сделает катер. Ледар надела лыжи и встала позади Ли, так что девочка оказалась между ее ног, а ее лыжи – между лыжами Ледар. Положив руки на рукоятку фала рядом с руками Ли, Ледар дала мне сигнал заводить мотор.
Оглянувшись назад, я увидел, что, заслышав рев мотора, Ли выпустила рукоятку, и Ледар тотчас же разжала руки. Пока я разворачивал катер и подтаскивал плавающий на поверхности воды фал поближе к Ледар, та что-то ласково внушала Ли, готовя ее ко второй попытке.
– Держись крепче. Руки вперед. Ни в коем случае не сгибать! Лыжи по обе стороны от троса. Замечательно, Ли. А сейчас я дам сигнал твоему папочке, и мы покатим через город.
Ли еще раз ухватилась за трос, поднялась на лыжах, опираясь всем телом о ноги Ледар. Наконец они поднялись над водой, Ледар широко расставила ноги, направляя юную лыжницу, и так они проехали двести ярдов, пока Ли не потеряла лыжу и не упала. Ледар упала вместе с ней и сразу же поплыла в погоню за лыжей в кильватере катера.
Ледар снова дала мне отмашку, Ли поднялась, и на сей раз они проехали через город, при этом Ли боялась сделать хоть одно лишнее движение, а Ледар приветственно махала прохожим на набережной. Потом они нырнули под мост, и Ли бросила опасливый взгляд на проезжавшие над ними автомобили.
Тронув Ли за плечо, Ледар указала ей на кильватер по правому борту и легким нажатием левой руки заставила девочку отклониться от курса. Они обе развернули лыжи в сторону эспланады ниже по течению Ойстер-крик и, скоординировав свои движения, проехали, как один лыжник, через кильватер, стремительно несясь рядом с катером в странном, но на редкость жизнерадостном па-де-де – быстрые, прелестные и грациозные. Наблюдая, как Ледар тренирует Ли, я то и дело слышал восторженный визг дочки. Затем трос ослаб, и они замерли в ожидании, когда тот снова натянется и катер увлечет их за собой, стремительно перенесет их одним прыжком обратно через кильватер, а потом – в противоположном направлении. Я слышал, как Ледар что-то кричит, стараясь перекрыть шум мотора, но слов разобрать не смог. Однако заметил, что Ли успокоилась и благодаря терпеливому руководству своей наставницы снова обрела уверенность. «Под руководством увлеченного и талантливого учителя человек сможет преодолеть все, буквально все», – подумал я.
Я очертил указательным пальцем круг, но, когда медленно развернул катер на сто восемьдесят градусов, Ли снова упала. Тогда я вернулся, и Ледар попросила меня кинуть с кормы еще один трос, чтобы они с Ли могли по отдельности скользить за лодкой.
– А Ли к этому готова? – спросил я.
– Она прямо-таки создана для лыж, – ответила Ледар.
И я в этом воочию убедился, когда снова завел мотор и женщина и девочка, радостно визжа, помчались в тандеме по реке. Я вез их через центр города, мимо украшенных колоннами особняков в сени старых дубов на Уотер-стрит, вспомная о Венеции, поднявшемся из волн Адриатики городе, где каждый дворец дышит чувственностью и словно создан архитекторами, вдохновленными орхидеями и свадебными тортами. И все же я не мог отрицать, что простота, месторасположение и пропорции домов Уотерфорда будоражат мое чувство прекрасного не меньше, чем прогулка по венецианским каналам.
Более получаса я возил их взад и вперед по реке Уотерфорд, пока Ледар наконец не подала сигнал, что Ли устала. Тогда я бросил якорь у песчаной косы, прямо напротив города. Они залезли в катер и досуха вытерлись, а затем Ледар достала сэндвичи с помидорами, выращенными в огороде ее матери, салатом-латуком, майонезом и сладким жареным луком. Вонзив зубы в сэндвич, я даже застонал от удовольствия, когда густой соус потек у меня по лицу и рукам. Я раскрыл сэндвич и внимательно изучил надкушенный помидор. Он был большим, красным, как пожарная машина, и прямо-таки лоснился. И я вспомнил, как когда-то в детстве ходил с дедом в поле и тот срезал спелый помидор с ветки, согнувшейся под тяжестью плодов. Сайлас разрезáл помидор перочинным ножом, солил кусочки и давал мне. Даже райский нектар вряд ли сравнится по вкусу с только что сорванным помидором. Что до меня, то этот вкус всегда был и навсегда останется вкусом Уотерфорда и вкусом лета.
Когда мы пустились в обратный путь, к острову Орион, день уже клонился к вечеру, солнце играло на поверхности воды и окрашивало кучевые облака на западе в алый цвет. На обратном пути мы вызывали на дуэль все встречные буи и бакены, и я чувствовал, как под струями прохладного воздуха натягивается обожженная солнцем кожа. Когда мы проплывали мимо острова Ледифейс, Ледар вдруг пальцем показала на ручей, где я рыбачил в детстве. Остров остался таким, как прежде, избежав застройки, изменившей до неузнаваемости вид и даже дух наших низин.
– Давай заедем к Генри Томасу, – предложила Ледар.
– Не видел Генри со школы, – отозвался я. – Он по-прежнему работает сварщиком?
– Уже нет. Сейчас он занят строительством на Хилтон-Хед. Весь город занят строительством на Хилтон-Хед. На днях встретила его в «Пигли-Вигли». Он спрашивал о тебе.
– Мы с Генри играли в одной футбольной команде, – объяснил я Ли. – Вот был игрок так игрок!
– Что ты этим хочешь сказать? – поинтересовалась Ли, у которой глаза уже совсем слипались.
– Крутой был парень, при случае мог и башку оторвать.
– Деревенщина, – предположила Ли. – Так, кажется, говорят мои дяди?
– Но высшей пробы. Лучшая ее разновидность, – заметила Ледар. – Его невозможно было вытащить с Дарлингтон-пятьсот. Это пятисотмильная автомобильная гонка, дорогая.
– Генри, конечно, совсем простой. Но зато хороший гражданин, – добавил я.
– На прошлой неделе я к нему заходила. Он хотел познакомить меня со своим младшим сыном, – сообщила Ледар. – У мальчика синдром Дауна, но он очень добрый. Может, заглянем?
– Ли очень устала, – сказал я.
– А я хочу, чтобы Ли это увидела, – настаивала Ледар.
Начался отлив, катер все дальше уходил в болото, и я прокладывал путь по длинным коридорам болотной травы, над которой мы плыли всего несколько часов назад. Когда-то я знал все эти ручьи и мог даже ночью не заглядывать в карту, но сейчас, чтобы не напороться на отмели, мне пришлось сделать это дважды. Но вот наконец вдали показался дом Генри Томаса. Это был старый деревенский дом с закрытой террасой вдоль фасада. Во дворе стояли четыре автомобиля, причем один из них находился на вечном приколе. Где-то в поле, за домом, кукарекал петух. Прямо под сваями пристани охотилась белая цапля. Она улетела, хлопая крыльями, когда наш катер подошел слишком близко к ее охотничьим угодьям. Ледар показала мне отмель ярдах в двадцати от нас и шепотом велела заглушить мотор и бросить якорь.
– Разве мы не собираемся причалить, чтобы поздороваться с Генри?
– Тсс, – поднесла палец к губам Ледар. – Он знает, что мы здесь. Я его предупредила.
Закатное солнце позолотило болото, а небо на западе превратилось в окно, расцвеченное розовым и фиолетовым, и края этого окна были покрыты рябью прощальной огненной дымки. Болото кругом тоже, казалось, было в огне, и лодка будто покоилась в холодном пламени. Мы молча смотрели на воду, которая переливалась, точно перья павлина, на фольге отступающего прилива. Ли опустила руку и дотронулась до лимонной поверхности воды.
Из дома Генри Томаса выскочил маленький мальчик, за которым на некотором расстоянии следовали его мать, отец и две старшие сестры. На мальчике были футболка и шорты, черные высокие ботинки и маленький спасательный жилет. Мальчик бесстрашно мчался во весь опор, притормозив только тогда, когда сбежал по пандусу к плавучей пристани.
– Его зовут Оливер, – прошептала Ледар.
Мальчик раскинул руки, протянул их к закату на болоте и начал медленно, грациозно кружиться. Тонкий, высокий голос затянул песню, и, хотя слов было не разобрать, я узнал мелодию: «У Мэри есть баран». Оливер выжидающе посмотрел на воду, но ничего не увидел и что-то обиженно или удивленно крикнул. Мальчик опустился на колени и принялся молотить руками по неровным, некрашеным доскам, а затем запел другую песню, слов которой опять было не разобрать, но мелодия снова показалась знакомой и завораживающей.
– «Rock of Ages» [156]156
Популярная в 1980-е годы песня в стиле рока.
[Закрыть], – прошептала Ледар на ухо Ли.
Озадаченно и обиженно оглянувшись на родных, Оливер поднял руки и стал сильно топать по причалу, и этот неровный стук эхом разнесся по окрестностям. Затянул третью песню, потом четвертую. Семья следила за ним в неподвижном молчании, хотя Генри все же приветственно нам махнул.
– Ну вот, наконец, – выдохнула Ледар.
Спинной плавник, изящно изогнутый, как гондола, разрезал тихие воды в двухстах ярдах от берега. Дельфин стремительно приближался. Закатное солнце окрасило его тело сначала в цвет зелени, потом – соломы с добавлением капельки охры. И вот он поднялся из воды и подплыл к причалу, на котором пел Оливер. Дельфин поднял голову. Ли даже подалась вперед, услышав, как тот отвечает на пение мальчика, издавая пронзительные звуки на высочайшей ноте. Оливер восторженно закрутился на месте и начал то ли говорить, то ли кричать, то ли каркать. Он был слишком возбужден, чтобы обращать внимание на свою речь. Мальчик, лицо которого светилось от экстаза, протянул руки к дельфину и спел «Jesus Loves Me» [157]157
«Jesus Loves Me» – наиболее популярный христианский гимн.
[Закрыть], обращаясь и к этому существу с бутылочным носом, и к долговязым болотным птицам, остановившимся послушать странный концерт – примитивную интерлюдию между закатом и ночью. Чем больше возбуждался мальчик, тем пронзительнее становился его голос и тем менее разборчивой была его речь. Пение ребенка, похоже, успокаивало дельфина, медленно кружившего возле причала и время от времени выскакивавшего из воды, чтобы тихо исполнить что-то свое. Песня Оливера каким-то жутким, неземным образом гармонировала со звуками, издаваемыми дельфином, причем в голосе животного было что-то человеческое и до боли знакомое. Мальчик в полном экстазе танцевал и кружился, тыкая пальцем в дельфина и оглядываясь на родных. Под конец Оливер уже рычал и издавал совсем нечленораздельные звуки, на что дельфин отвечал все печальнее и отстраненнее.
Когда дельфин повернул обратно в сторону моря, Оливер протестующе завизжал, сердито замахал вслед своему другу рукой, упал на колени и замер в изнеможении. Генри спустился к причалу, окутанному сумерками, и взял Оливера на руки. Он помахал нашей компании на катере и понес мальчика в дом. Целую минуту мы все трое молчали, потрясенные этой сценой. Мы точно не знали, чему только что стали свидетелями, но ясно понимали, что это была редкая форма общения и диалога.
– Папочка, а что говорил этому дельфину Оливер? – наконец подала голос Ли.
– Думаю, что-то очень хорошее. Хотя не знаю.
– Догадайся, – настаивала она.
– А я знаю, о чем они говорили, – вмешалась Ледар, увидев, что я завожу мотор.
– Можете мне сказать? – попросила Ли.
– Оливер спрашивал дельфина: «Джек любит Ледар? Джек любит Ледар?» А дельфин ему в ответ: «Не может не любить. Не может не любить».
Ли уселась Ледар на колени, и мы поплыли в кильватере дельфина, взявшего курс на Атлантику, а звезды равнодушно смотрели на нас с небес.
Глава двадцать девятая

Память для меня была страной прошлого, все еще годного к употреблению, но теперь я начал думать о том, а нет ли в ней пробелов. В последнее время я остро чувствовал, что неправильное восприятие, неверно расставленные акценты и неизбежная неточная интерпретация любого события могут привести к ошибочному пониманию вещей. Я был абсолютно уверен, что Шайла счастлива в нашем браке. И хотя я хорошо знал о смене ее настроений, депрессиях и мигренях, но, похоже, недооценивал силы злобных подземных демонов, завлекших ее в минуту отчаяния на тот мост. Я всегда считал, что печаль Шайлы свидетельствует о ее глубокой натуре, ибо еще меньше, чем вечно счастливым людям, я не доверял тем, чей оптимизм казался мне неоправданным. В душе Шайлы было столько неизведанных глубин, что всякий раз, как ею завладевали недремлющие черные духи, она тут же принималась исследовать только что открытую страну ледников и ледяных полей. Частью ее очарования были ее жизнерадостность и непредсказуемость. Шайла не умела долго держать все в себе, но теперь я понял, что не смог распознать оборотную сторону этого ее достоинства, не смог распознать то, что ее время под солнцем ограниченно, так как ее подлинное «я» пряталось в недоступных уголках души.
Рассказывая Ли о ее матери, я часто вспоминал эпизоды, которые на тот момент казались несущественными. Ведомая музыкой своего внутреннего мира, Шайла пришла на свидание к собственному палачу. Когда я взялся за трудную работу проследить путь, приведший к гибели жены, в памяти всплывали вещи, об истинном значении которых я раньше и не задумывался. И только сейчас до меня дошло, что с первого момента моего знакомства с Фоксами Шайла стеснялась своих родителей. Ее смущало их произношение. Она стыдилась того, что они выглядят чужаками.
Шайла очень рано привыкла проводить время с нашей семьей, впитывая шумную атмосферу американского дома, и атмосфера эта казалась ей нормальной. Каждый раз, почувствовав аппетитные запахи гамбургеров, или попкорна, или цыпленка, жарившегося на маминой кухне, Шайла робко стучалась в заднюю дверь, и Люси тут же приглашала ее за стол.
Я прекрасно помнил первую вечеринку, устроенную Фоксами в честь дня рождения Шайлы.
Люси взяла нас с Шайлой на утренник в кинотеатр «Бриз», и мы смотрели фильм «Вернись, малышка Шеба» с Ширли Бут в главной роли. Конечно, странный выбор фильма для детей нашего возраста, но в Уотерфорде это был единственный кинотеатр, и матери ничего не оставалось, как сидеть и смотреть фильм, пока мы с Шайлой бродили по проходам и даже забирались наверх, туда, где были места для цветных, в тот раз пустовавшие. Это открытие нас так потрясло, что матери пришлось посреди фильма отправиться на наши поиски. Когда она нас обнаружила, то увидела, что мы по очереди рисуем шариковыми ручками тату друг у друга на руке. Прежде чем выпустить нас из кинотеатра, Люси свела тату с помощью «клинекса» и собственной слюны.
Вечеринка должна была стать сюрпризом, и, когда Шайла вошла в дом, ее отец исполнил бравурную вариацию на тему мелодии «Happy Birthday», отчего дети застыли в неловком молчании. Пели только Руфь, Джордж и Люси, а Шайла закрыла лицо руками, заметив, что соседские мальчишки хихикают над картавым выговором ее отца. Затем Джордж Фокс, словно обращаясь к утонченной публике Карнеги-холла, объявил, что в честь дня рождения дочери приготовил особенный концерт. И все десять детей, приглашенных на праздник, вынуждены были сидеть и слушать, как Джордж Фокс исполняет «Венгерскую рапсодию» Листа.
Когда концерт, ко всеобщему облегчению, закончился, преисполненных благоговейного ужаса и все же неугомонных детей повели в столовую, где был сервирован торжественный ужин при свечах в серебряных канделябрах. На лице Шайлы было написано замешательство – возможно, от потрясения или страха, – и ее словно заморозили. Она знала, чтó сейчас будет, но не могла помешать ходу событий.
– Итак, – произнесла ее мать, когда совершенно несчастные одноклассники Шайлы расселись вокруг стола, – будем есть, как поросята. Праздник для моей дорогой Шайлы, которая, как вы знаете, родилась в этот день. Она американская девочка, и день рождения у нее должен быть американский. Да?
Руфь произносила слово «девочка» со смешным акцентом, и дети за столом не поняли ни единого слова из всего, что она сказала. Несколько мальчиков, давясь от смеха, полезли под стол. И только присутствие моей матери помогало поддерживать хоть какую-то видимость порядка. Люси трижды обошла стол, чтобы на корню подавить глупые мальчишеские выходки.
Но даже Люси не смогла помешать возгласам изумления, вырвавшимся из детских уст, когда Руфь сняла крышки с многочисленных мисочек с праздничной едой, которую она несколько дней готовила втайне от дочери. Руфь подала борщ со сметаной, чего никто из нас в жизни не видел, русский салат, состоявший из майонеза, горошка и наструганного лосося, а еще что-то такое под названием «креплах [158]158
Креплах – еврейские треугольные пельмени, которые готовят на праздники. И начинка в них зависит от праздника.
[Закрыть]с сыром». Одного мальчика, Самуэля Бербейджа, вырвало в салфетку, когда тот попробовал соленую селедку в сметане. Горячий чай подали в стеклянных чашках с ручками, а к чаю – блюдо с домашними венскими булочками, так и оставшимися нетронутыми. Фаршированная рыба вызвала искреннее недоумение, и только сваренные вкрутую яйца, как истинно американская еда, были встречены с одобрением и радостно пущены по кругу.
Шайла стойко выдержала все мучения, но я помню облегчение на ее лице, когда Руфь Фокс вместе с Люси торжественно внесли в столовую глазированный торт с зажженными свечами. С воодушевлением запев «Happy Birthday», Люси вышла с тортом на крыльцо, чтобы увести детей подальше от места преступления миссис Фокс. На улице Шайла задула свечки и стала разворачивать принесенные подарки. Затем Люси затеяла игры в прятки. Пока она занимала мальчиков и девочек различными играми, Руфь плакала, убирая со стола тарелки с нетронутой едой.
Моя мама спасла вечеринку Шайлы, заставив детей забыть о том, что они не смогли съесть ни кусочка этой странной еды. Правда, ненадолго.
Когда мать Самуэля Бербейджа пришла за сыном, он подбежал к ней и закричал:
– Мама, нам дали сырую рыбу со взбитыми сливками! Я чуть не сблевал во время еды.
А мать Харпер Прайс услышала от дочери, что та обожгла язык чаем и что пончики были твердыми, как камень.
– Это бублики, – пыталась объяснить Шайла. – Мама купила их у Готлиба в Саванне.
Кэйперс Миддлтон никогда не видел красного супа, Ледар ни разу не ела холодной рыбы или сладкой лапши, а Элмер Бейзмор, сын ловца креветок, едва попробовав фаршированную рыбу, тут же выплюнул ее в салфетку. Он заявил родителям, что даже не представляет, где в американских водах можно найти такое, и что еврейская рыба обожгла язык и ему даже пришлось попросить воды у миссис Фокс. Уже потом Руфь Фокс в свое оправдание сказала, что, возможно, переложила хрена.
А вот то, что дом Шайлы разительно отличался от домов ее уотерфордских друзей и одноклассников, не слишком сильно их удивило. Дети рождаются со стадным инстинктом, и ничто так не заставляет их страдать, как обычаи родителей, делающие ребенка объектом насмешек. Все свое детство Шайла мечтала стать настоящей американкой. Более того, ей хотелось достичь недосягаемых высот американизма: она пыталась превратить себя в южанку: неуловимую и ускользающую разновидность американки. Вся ее жизнь была посвящена мимикрии. С каждым годом ее произношение менялось, поскольку она прислушивалась к женским голосам своего города. Если идиомы южной речи восхищали ее, то идиш родителей приводил в ужас. Она даже запретила им общаться на идиш в своем присутствии. Этот язык был неуместен в стране азалий, мамалыги, туров по плантациям, нарезанного колечками лука, смазанного маслом попкорна, вафель «Некко» и шоколадок «Три мушкетера», таких больших, что ими «можно поделиться с другом».
– Она думает, что она Янки Дудль Денди, – фыркал ее отец.
– Она хочет нормальной жизни, – возражала ее мать. – Что в этом плохого? Я хочу для нее того же.
Скорее интуитивно, чем осознанно, я решил, что атмосфера в соседнем доме не совсем здоровая. Они отмечали экзотические праздники, о которых я в жизни не слышал, да и названий-то их не мог выговорить, я даже подбивал Руфь Фокс научить меня грязным словам на идиш, чтобы обзывать ими братьев, когда те будут действовать мне на нервы. Однако в доме Фоксов было что-то тревожное и неустроенное, чего никак не мог постичь наш городок. Их дом отличался от наших скорее не своей чужеземностью, а царившей там печалью, такой глубокой, что, казалось, она въелась, как убийственная пыль, в каждый квадратный сантиметр этого образцового просторного жилища.
Джордж и Руфь Фокс боялись собак, кошек и собственной тени. Когда бы я ни подходил к их дому, они всегда следили за мной, выглядывая из-за занавески. Подпрыгивали от любого неожиданного стука в дверь. Дрожащими руками брали трубку звонившего телефона. Развешивая белье на веревке, Руфь Фокс сначала оглядывалась по сторонам, словно ожидала нападения врагов с флангов. Долгие годы я пытался понять, что же с ними не так. Шпионил, подслушивал, забравшись в темноте на ветку дуба, следил за неспешными движениями членов их семьи. Единственное, на что я обратил внимание, так это на то, что родители Шайлы с годами становились все печальнее, но не старше. Мистер Фокс часто кричал по ночам, очнувшись после ночных кошмаров, которые привез с собой в нашу страну. Когда я спросил Шайлу, отчего ее отец так страшно кричит по ночам, она сказала, что мне, должно быть, это приснилось, поскольку она ничегошеньки не слышала. Однажды он выкрикнул во сне женское имя, но о такой женщине я слыхом не слыхивал, да и по соседству у нас так никого не звали. В тот раз, когда он проснулся с этим именем на устах, я сполз пониже по освещенному луной дубу, который давал мне доступ к их секретам, и услышал, как Руфь успокаивает мужа. Став свидетелем этой печальной и очень интимной сцены, я, вспомнив о словах Шайлы, даже ущипнул себя посильнее, чтобы убедиться, что не сплю. Я попытался подслушать их разговор, но они говорили на незнакомом мне языке. Хотя я и не знал того языка, но достаточно хорошо разбирался в словах, чтобы понять, что Руфь безумно любит Джона Фокса.
В годы, последовавшие за вечеринкой у Шайлы, ощущение печали и несчастья, поселившихся в доме Фоксов, только усилилось. Я часто думал, что, возможно, это связано с одержимостью Джорджа Фокса своей музыкой. Мы все боялись мистера Фокса с его безупречными манерами Старого Света, его изуродованной рукой, его страданиями и его сдержанностью, казавшейся особенно неестественной, когда он бросал на всех злобные взгляды. Хотя ученики, с которыми он занимался музыкой, его обожали, все эти дети и сами отличались особой чувствительностью. По ночам, пытаясь уснуть, я прислушивался к тому, как мистер Фокс играет на пианино, и на всю жизнь усвоил, что музыка способна выражать боль, а прекрасная музыка – это место, где может укрыться страдающий человек.
Помню, как впервые сказал матери, что, по-моему, с Шайлой что-то не так. Я заметил, что, когда Руфь не догадывается о моем присутствии, она говорит с дочерью совсем по-другому. Однажды по ветке дуба я пробрался к спальне Шайлы и уже хотел было поискать ее в доме, как вдруг услышал, что миссис Фокс разговаривает с ней внизу. Прежде чем на цыпочках пробраться обратно к окну, а оттуда – к секретному проходу, соединявшему наши дома, я снова услышал голос Руфь. Ее слова заставили меня остановиться, чтобы проверить, не ослышался ли я.
– Закрой эту дверь, когда говоришь со мной, – крикнула Руфь, – а не то мы все здесь умрем от пневмонии. Ты этого добиваешься? Чтобы все мы умерли. Иди и вымой руки. Нечего играть в грязи. Бог создал тебя не муравьем. О мой бог! Эти руки. Поди сюда. Выключи плиту. Ты что, совсем с ума сошла? Хочешь поднять на ноги пожарную команду?
Я не узнавал в этой нервной, неуравновешенной женщине Руфь Фокс. Так я впервые смог увидеть изнутри, какое детство было у Шайлы из-за того, что немцы опустошили и разрушили мир ее родителей. Уже гораздо позже я понял, что нацисты были частыми гостями в том доме, смотрели на их трапезы холодными голубыми глазами, блевали на зажженные в канун Шаббата свечи. Шайла выросла в убеждении, что микробы – это низшая разновидность немцев, питающихся душами евреев.
Проползая по толстой ветви дуба, я услышал, как Руфь сказала:
– Отойди от этого окна, Шайла. Рядом может пролетать ангел смерти.
Я повернулся и увидел маленькое испуганное лицо Шайлы. Она помахала мне, и я в ответ тоже ей помахал. Сейчас я понимаю, что дом Фоксов на Пойнт-стрит в Уотерфорде был просто приложением к Берген-Бельзену, остановкой на пути в крематорий. Ни мать, ни отец Шайлы не могли оставить страну своего жуткого прошлого. Джордж Фокс играл для утешения тех, кто вознесся вместе с дымом и присоединился к воздушным потокам над Польшей. Каждая мрачная нота отмечала потерю души, вошедшей в реку смерти без утешения музыкой. Дом был наполнен слезами, ужасом, яростью и музыкой, заставлявшей детей представлять себе захватчиков, марширующих с факелами из волос евреев.
После того как мы поженились, Шайла иногда рассказывала мне о своем детстве на Юге. Она думала, что в любой момент немецкие солдаты могут молниеносно окружить ее дом и тогда виноград, багрянник и азалии погибнут. Но для Шайлы такие признания были нетипичны. Она, как правило, не обсуждала зацикленность своих родителей на военных переживаниях. Эта тема стала verboten [159]159
Запрещенной ( нем.).
[Закрыть], особенно после рождения Ли. Для Шайлы непереносима была даже сама мысль о мире, способном посадить ребенка, такого ласкового и беспомощного, как Ли, в газовую камеру. Этот мир стал строительным материалом для ее ночных кошмаров, но она редко впускала его в свою дневную жизнь.