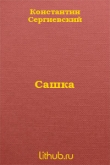Текст книги "Александр Матросов (Повесть)"
Автор книги: Павел Журба
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Глава XIV
ПИСЬМА
 селе Михаи, у реки Ловать, была последняя дневка этого трудного марша. Линия фронта близко. Из-за Большого Ломоватого бора уже слышен орудийный гул. Трудный марш позади.
селе Михаи, у реки Ловать, была последняя дневка этого трудного марша. Линия фронта близко. Из-за Большого Ломоватого бора уже слышен орудийный гул. Трудный марш позади.
Шесть дней и ночей шли люди, останавливаясь только на короткие привалы. Часто менялась погода. Порой крепкие морозы сдавливали дыхание. Порой пригревало солнце, на ветках блестели капли, и веселым птичьим перезвоном наполнялся лес. Потом бушевала вьюга, заваливая сугробами тропы, слепя глаза и сбивая человека с ног. Но и в этой частой смене февральской погоды уже угадывалось приближение весны.
Теперь двухсоткилометровый поход заканчивался.
В село еще втягивался хвост колонны, а в штабах бригады уже шла напряженная работа.
Штаб второго батальона разместился в одной из уцелевших изб на краю села. Автоматчики расположились здесь же по соседству, в сараях. Бойцы рады, что хоть несколько часов проведут под крышей, и сразу валятся на раскиданное по сараю порыжелое сено.
Матросов, довольно растянувшись на сене, подмигнул дружкам:
– Не сарай, а спальня с пуховиками.
Но из-за туч выглянуло солнце и так пригрело, что с крыш часто закапало. Из «спальни», где под тонким слоем сена была мерзлая земля, бойцов потянуло погреться на солнце. Снег стал мягкий, как вата. Вышел и Матросов.
Открылась дверь в штабной избе, послышался сердитый голос комбата Афанасьева:
– Что я их, на горбу понесу?
И тихий, но твердый голос замполита Климских:
– Сам знаешь, Алексеич: если надо, то и на горбу!
Дверь захлопнули. Там шло совещание.
Батальон получил боевую задачу: быстро пройти Большой Ломоватый бор, на рассвете овладеть деревней Чернушки и продвигаться дальше в своей полосе наступления. Это была часть общей задачи корпуса. Но выяснилось, что выполнение задачи, поставленной батальону, усложняется. Деревня была мощным укрепленным опорным пунктом противника, со сложной системой дзотов и других огневых точек, а из-за лесного и болотного бездорожья туда сейчас невозможно продвинуть нашу тяжелую технику, которая, к тому же, где-то отстала. Решался вопрос, как подтянуть хотя бы две полковые пушки.
Солдаты еще не знали о боевой задаче, о предстоящих трудностях. Они грелись под теплыми лучами ласкового солнца, старались как можно лучше использовать каждую минуту отдыха. Кое-кто уже крепко спал. Но вот всех сразу взбудоражил возбужденный крик с улицы:
– Почта! Письма!
Известно, с каким волнением фронтовики ждут писем. Удивительно, что даже на таком долгом и трудном марше полевая почта не отстала от движущихся частей. Но сомнений не было.: невзрачный и шустрый батальонный почтарь – «Окопная радость» – Ефим Гусев, поводя раскосыми смеющимися глазами, раздавал письма, и вокруг него, забыв усталость, толкались люди. Гусев лучше других знал, с каким нетерпением бойцы ждут писем, и одному ему известными путями разыскал и перед боем доставил письма. Теперь он доволен собой, обласканный приветливыми словами и благодарными взглядами бойцов.
Матросов не ждал писем: мал срок, чтобы они успели прийти по новому адресу, да еще на марше. Тем больше он обрадовался, получив сразу три письма – от Лины, Тимошки и от Еремина. Отойдя в сторону, он стал читать письмо Лины. Она писала о напряженной трудовой жизни колонийского коллектива. Многие воспитанники на фабрике выполняют по две – три нормы. Александр несколько раз перечитывал то место, где она писала, что теперь только по-настоящему поняла, какое это счастье, когда они были вместе. «Говорить о путешественниках, об открытиях науки, вместе слушать музыку, мечтать – у меня дух захватывает, когда об этом думаю. Не умели мы ценить! Ты говорил, Сашок: хорошо, когда человеку хочется стать лучше, чем он есть. Вот и я хочу быть более полезной, поэтому решила вернуться в Ленинград. Там блокада уже прорвана, но враг еще у стен города. Я стану за тот станок, на котором работал мой отец, или, если разрешат, возьму в руки оружие. Там я и к тебе ближе буду, может, и увидимся скорее… Воюй же, как надо, Сашенька, и возвращайся с победой. Помни: где бы я ни была, – я тебя жду, жду, жду»…
Точно горячей воздушной волной охватило Матросова. Лина… Милая…
Тимошка Щукин писал, что его имя занесено на Доску почета. Альбом героев Отечественной войны он значительно пополнил, а на днях поместил туда вырезанный из газеты портрет колонийского однокашника, а теперь летчика Георгия Брызгина, который в боях за Сталинград сбил три немецких самолета. Вот каков Гошка Брызгин! Еще Тимошка мельком обмолвился, что изучает английский язык и следующее письмо, может, напишет по-английски. Матросов довольно рассмеялся, представив себе Тимошку, говорящего по-английски.
Еремин писал коротко: работает мастером столярного цеха, и работы так много, что он днюет и ночует в цехе. Впрочем, все много работают. Силач Клыков, например, чтоб не отвлекать других от дела, один выносит из мастерской изготовленные снарядные ящики, работая за пятерых.
И странной казалась Матросову смешная и забытая теперь кличка Клыкова – «граф Скуловорот». И еще Еремин сообщал, что получил письмо от Виктора Чайки, который учится в военном училище, и заканчивал письмо так: «Как видишь, все слово держим и нашей дружбы не посрамим».
«Не посрамим! – улыбается Матросов. Эх, дружки, дружки! Много пережито с вами хорошего и плохого, веселого и грустного, но все испытания выдержала наша дружба, и как отрадно гордиться другом своим!» Легко у Александра на душе, и он идет со своей радостью к фронтовым друзьям. Они уже собрались в веселый кружок у плетня и оживленно говорят о новостях, что принесли письма с разных концов страны.
К автоматчикам подходит Буграчев.
– Ну, че-пэ есть, хлопцы?
– Совсем наоборот, товарищ капитан, – смеется Дарбадаев и первый рассказывает о полученном письме. Его Магрифа стала бригадиром-полеводом. Хотя в колхозе остались одни старики и женщины и работать им трудно, все-таки урожай собрали больше довоенного. Теперь уже наверняка Магрифа быстро, как птица, летает на коне по полям.
Костылев получил письмо от сестры-геолога из-за Полярного круга. В вековечных тундрах найдены неисчислимые запасы каменного угля и уже строится новый юрод Воркута. И хотя там стоят шестидесятиградусные морозы, люди согреты дерзновенной мечтой, людям жарко от спешной работы: Донбасс временно захватили гитлеровцы, а стране нужен уголь.
А Воронову пишет девушка из Сухуми. Там сейчас так тепло, что цветут мушмула и миндаль.
Из Магнитогорска Макееву пишет брат Герасим, сталевар. У него почернела кожа на лице от бессменной работы у мартеновской печи, но он готов еще больше трудиться, только бы скорее прогнали врага. Так работают и думают все рабочие завода.
И еще Макеев не вытерпел, похвастался, что написала ему, наконец, и жена Анка: любит, ждет его; значит, – все хорошо!
Буграчев внимательно слушает, хитровато косясь на бойцов. – он знает, какое значение имеют для них письма.
– Получил, товарищи, и я письмецо, – говорит он. – Такой у меня есть друг, Володя Яковенко. Думаю, таким другом и погордиться можно. Пишет мне из госпиталя. Знаете, ему ногу до самого бедра ампутировали, а он не хнычет – напротив, готовится сдать экзамены за весь третий курс института. Так и пишет: «Не хочу в госпитале зря времени терять и кашу есть». Вот он какой!
Беседа, возникшая внезапно, могла продолжаться часами, и у всех бы нашлось, о чем рассказать.
Комсорг Брагин, который всегда хочет знать все горести и радости комсомольцев, спросил, где Антощенко.
– И он как будто тоже получил письмо?
Матросов кинулся разыскивать друга.
В стороне, у сарая, надвинув на глаза шапку, сидит на бревне Михась Белевич и поет грустную песню про «перапелачку», у которой «грудка балить, хлебца няма…»
– Михась, не получил письма? – спросил Матросов.
– Жду все… Да чи дождусь? – махнул он рукой.
– Жди, Михаська, не унывай, – ласково сказал Матросов. – Антощенку не видел?
Антощенко сидит один за сараем на пне спиленной сосны, задумчиво смотрит в лес.
Увидев Матросова, он отворачивается и, быстро мигая полными слез глазами, подает ему письмо.
– От Леси, – доверительно говорит он дрожащими губами и тяжело вздыхает. – Ты, Сашко, тильки послухай, что она пишет. – И стал читать: «…Ище пишу тоби, Петрику любый, про наших дидусю Макара. Коли их эсэсовцы вешали в саду на груше, дидуся крикнули так, що аж залунало[22]22
Залунало – эхо разнеслось.
[Закрыть] по-над Днипром: „Брешете, вороги, все одно не одолеете нашу землю, народною кровью политую, а сгниете, як та черная чума под солнцем“. А повесили дидусю за то, що ходили по селам с бандурою и сказку говорили про то, вид чего польовый мак цвите, и в партизаны селян кликали».
Матросов слушает и мрачно глядит в землю. Совсем отлетела его радость, еще минуту назад наполнявшая сердце. Не может он радоваться, когда кругом горе, а гибель деда – это и его печаль. Дидуся, дидуся! Давняя встреча с тобой там, в саду, так взволновала его, бездомного хлопчика, глубиной твоего человеколюбия, что не забудется никогда! Не разошлось у тебя слово с делом, дидуся. Ты умер за людей так же, как герой сказки твоей – Данько. Как утрата самого близкого человека, потрясла Матросова гибель деда. Но молчит Александр, чтобы не усугублять горе друга.
– «А ище пишу тоби, любый Петрику, що я теперь калека, – читает Антощенко, задыхаясь, точно слова застревают в горле. – Гнали нас, дивчат и молодиц, в неметчину, мы падали, целовали землю, плакали, прощались. А комендант Друцкер кричит: „Шнель![23]23
Шнель! (нем.) – быстро!
[Закрыть] Вперед, марш!“ И як дотронулся он до меня, я не стерпела, плюнула ему в рыло, потом схватила каменюку и ударила его по голове… Началась потасовка. И неначе на всю степь я закричала: „Утекайте все в лес до партизан!“ И все побегли. А мене подстрелили. Дивчата Крутою Балкою несли мене до самого леса. Теперь партизанский врач лечит мене. Нога перебита, и, може, хромой буду. А все село наше вороги спалили, а колхозный сад порубали…»
Длинными путями кочевало это письмо, сложенное треугольником, пока дошло сюда. Советский летчик доставил его из партизанского края в Москву, отсюда оно пошло в Краснохолмское училище. Там в судьбе его, видимо, принял участие начальник училища полковник Рябченко и дал ему дальнейший ход. И вот теперь этот листок бумаги, казалось, еще хранивший теплоту десятков человеческих рук, поведал неизбывную печаль именно тому, для кого она наиболее мучительна. Антощенко уже несколько раз перечитывал письмо и все не мог оторвать от него глаз.
Александр крепко сжал его дрожащую руку и сквозь стиснутые зубы проговорил:
– Мы им за все отплатим, Петруся! А ты не горюй, этим не поможешь. Почему ты прячешься?
– Та не хочу на хлопцев тоску нагонять.
– Чудак! Наоборот, всем ребятам надо почитать это письмо. Пусть знают, что люди терпят… Пойдем к ним, Петрусь, пойдем, браток.
– Та що я – артист? Не пойду, – упрямо заявил Антощенко.
Матросов понимающе взглянул ему в глаза и не стал принуждать.
Глава XV
В РАЗВЕДКЕ
 омандование отбирало самых расторопных бойцов из разведвзвода и автоматчиков. Матросову очень хотелось скорее проверить себя в опасном деле. У него дух захватывало, – так хотелось побывать в разведке. Еще в пору своего бездомного детства и потом за школьной партой в Уфимской трудовой колонии он мечтал о таких лихих делах, какими славились разведчики легендарных дивизий Чапаева, Щорса и Конной армии Буденного. В военном пехотном училище и в роте автоматчиков на учениях его хвалили за выполнение разведочных операций.
омандование отбирало самых расторопных бойцов из разведвзвода и автоматчиков. Матросову очень хотелось скорее проверить себя в опасном деле. У него дух захватывало, – так хотелось побывать в разведке. Еще в пору своего бездомного детства и потом за школьной партой в Уфимской трудовой колонии он мечтал о таких лихих делах, какими славились разведчики легендарных дивизий Чапаева, Щорса и Конной армии Буденного. В военном пехотном училище и в роте автоматчиков на учениях его хвалили за выполнение разведочных операций.
Он побежал к командиру роты автоматчиков, Артюхову:
– Разрешите и мне в разведку, товарищ старший лейтенант. Ну, прошу вас, разрешите. Верьте совести, не подведу!
Артюхов вначале отказал ему.
– Разведка – не прогулка с веселыми приключениями, а трудное и опасное дело. Разведгруппе поставлена очень ответственная задача, и посылают в разведку самых опытных людей.
На лице Матросова выразилось такое огорчение, что Артюхов даже отвернулся. Видно, что неугомонный паренек теперь не успокоится. Артюхов поразмыслил и признал свои доводы несправедливыми: Матросов достаточно серьезен и понимает важность предполагаемой разведки, да и расторопный, не хуже других.
– Ладно, разрешаю тебе идти в разведку, – сказал Артюхов. – Только смотри, не подведи. Отвечаю за тебя.
Когда все необходимые приготовления уже заканчивались, партийные, комсомольские билеты и другие документы были сданы на хранение, старшина Кедров особо напутствовал разведчиков деловыми советами и напомнил, как во время опасности должны вести себя коммунисты и комсомольцы. И он строго предупредил Матросова:
– Ты смотри, не подкачай, – и поправил на нем маскировочный халат.
«Все поучает меня, как мальчишку-несмысленыша», – недовольно подумал Александр и вместе с тем чувствовал за внешней суровостью старшины его отеческую заботу.
Вечером разведгруппа углубилась в лес. Взволнованный Матросов настороженно смотрел вокруг и следил за каждым движением опытных разведчиков.
В лесу стемнело раньше обычного. Плотные сизые облака будто непроницаемым пологом окутали лес. Зашумели, качаясь, верхушки высоких сосен, повалил снег, и вскоре поднялась такая вьюга, что все потонуло в снежной кипящей мгле и за несколько шагов ничего не стало видно.
Командир разведгруппы лейтенант Вагин все чаще смотрел на компас со светящимся циферблатом и торопил людей. Он волновался, хотя и скрывал это, стараясь казаться спокойным. Под прикрытием вьюги легче было пробраться к переднему краю противника, но вьюга же могла и погубить разведчиков, скрыв от них какую-нибудь хитрую ловушку, минное поле или проволочное заграждение с условной сигнализацией. Вагин не раз ходил в ночной поиск и считался опытным разведчиком, но теперь данные наблюдения за противником и вообще всю подготовку поиска он считал недостаточным, а более тщательно подготовиться было некогда.
Матросов, как и другие разведчики, непоколебимо верил в способности лейтенанта Вагина и в удачный исход дела. Озабочен он был лишь тем, как ему самому лучше выполнить свои обязанности. Александр знал свою скромную роль в этом поиске: в случае надобности он вместе с Сизовым и Лыковым будет огнем прикрывать отход группы захвата. Мысленно он представлял себе, как воплотится в действие та тщательно расчерченная на листе бумаги схема, которую разъяснил Вагин.
Пока все шло не так, как он предполагал раньше, воображая себя разведчиком. Не было приподнятой романтической взволнованности, и он вовсе не чувствовал себя отчаянным и лихим героем. Напротив, он ловил себя на том, что вздрагивал, когда в окружающей кромешной тьме вдруг раздавался треск и глухой шум падающего дерева, поваленного бурей, или из-под ног вдруг со свистом и странным хрипом взлетала какая-то большая птица, или на голову падал сорвавшийся с ветки ком снега. Ныло плечо от автоматного ремня, на левой ноге сбилась и терла портянка, и все тело, точно свинцом, наливалось усталостью. Идти было трудно: часто ноги глубоко проваливались в снег, цеплялись за коряги. От нервного напряжения шумело в ушах. Путь казался нескончаемо долгим.
Наконец они вышли на передний край, долго шли траншеями, в темноте натыкаясь на сидящих там людей. Потом разведчики остановились, потянув Матросова за полу шинели.
– Садись. Привал, – прошептал Сизов.
Это было расположение боевого охранения, исходная позиция разведгруппы. На переднем крае тихо. Лишь изредка где-то, будто сонный клекот диковинной птицы, раздавались короткие тупые пулеметные очереди да вспыхивали ракеты. А на участке, где были разведчики, стояла зловещая тишина. Только слышались завывания вьюги и шум деревьев.
Лейтенант Вагин шепотом сделал последние распоряжения и еще раз предупредил:
– Ползти бесшумно, действовать решительно, быстро и смело!
Они прошли еще метров с полсотни по траншее, выведенной в глубь нейтральной зоны. Вагин о чем-то пошептался с дозорным, и разведчики выбрались из траншеи на голую кочковатую поляну, за которой начинался вражеский передний край. На поляне темнота была сероватая, сквозь вьюжную мглу еле проступали контуры леса, ветер налетал порывами и захлестывал глаза снегом.
Когда Матросов в группе прикрытия полз по снежной целине, то невольно думал о разнообразных минах – минах натяжного и нажимного действия; все чудились проклятые усики особо чувствительных немецких противопехотных мин («чуть заденешь усик – и взрыв»); и от холодка, проникающего будто в самое сердце, у него перехватывало дыхание. Но Александр упрямо полз вперед, гоня мысли о минах, и плотнее прижимался к земле.
Вдруг он услышал: справа кто-то промычал и сразу стих. Опять звенящая в ушах тишина да шум ветра. Он с напряжением вгляделся в темноту и увидел, как «группа захвата» волокла «языка», и чуть не вскрикнул от радости.
Но внезапно его ослепил яркий свет вспыхнувшей над поляной ракеты. Лихорадочно затрещал пулемет. Припав лицом к снегу, Матросов решил: «Надо действовать!»
Открыв глаза, он увидел: Сизов и Лыков, отползая, били короткими автоматными очередями по вражескому пулемету. Александр тоже дал несколько очередей из своего автомата.

Огонь пулемета был перенесен на группу прикрытия.
Сизова ранили, он упал и не мог ползти. Матросов кинулся к Сизову, стал было тащить его. Но тотчас же увидел совсем близко частые пулеметные вспышки. Пулемет бил прямо по ним. От его огня могли погибнуть все трое.
– Я его заставлю замолчать! – сказал Матросов Лыкову. – Я обману фашистов, отвлеку огонь на себя, а ты скорей тащи Сизова.
Так оно и вышло. Матросов отполз в сторону, залег за кочкой, и после его третьей короткой автоматной очереди вражеский пулемет смолк. Потом снова заработал, пули полетели в сторону Матросова. Александр этого и добивался. Лыков утащил раненого. Скрылись в траншее разведчики. Убедившись, что все ушли, побежал было и Матросов.
Но над самой его головой опять ослепительно вспыхнула ракета. Поднялся страшный треск и грохот от разрывов снарядов и мин. Александру казалось, что каждый снаряд, каждая мина и пуля летят в него. За каждым кустом и деревом ему чудился враг. Оглушенный взрывами, Матросов прыгнул в глубокую воронку, зияющую вывороченным суглинком, как свежая рана, припал щекой к вздрагивающей, теплой, еще дымящейся земле, пахнущей гарью.
Огонь и вьюга бушевали на всей поляне нейтральной зоны. Кипела снежная предрассветная мгла, разрываемая вспышками взрывов.
Не утихал оглушающий орудийный и минометный грохот, лихорадочный пулеметный треск, зловещий свист осколков и цветных трассирующих пуль, пронизывающих мутную мглу.
Гитлеровцы неистовствовали: наши разведчики из-под носа у них увели «языка» – часового-эсэсовца 285-й пехотной дивизии. Теперь они старались плотным огнем накрыть и уничтожить разведгруппу вместе со своим незадачливым часовым.
Но били они наугад: снежная муть поглощала мертвенный бледно-зеленый свет ракет и цветные нити трассирующих пуль.
Матросову трудно было понять: беснующаяся вьюга или взрывные волны швыряли в лицо тучи колючего снега, слепили глаза. Тяжело падали на каску комья мерзлого суглинка. Оцепенев, некоторое время он лежал бездумно, инстинктивно желая одного – плотнее прижаться к земле, укрыться от огненного вихря.
Спохватился Матросов, когда уже рассвело и фашисты перенесли огонь дальше. Он вспомнил, что в тот момент, когда прыгнул в воронку, прикрывающие отход разведчики, пригибаясь, побежали к траншее, к опушке леса. Все разведчики, видимо, благополучно вернулись к своим. Ему тоже надо было скорее покинуть поляну и укрыться в лесу.
«Струсил!» – сознался он со свойственной ему прямотой, и щемящая тоска сжала сердце.
Как же теперь он доберется до своих? Сидя на дне воронки, он видел на фоне прояснившегося утреннего розоватого неба верхушки сосен и елей желанного Большого Ломоватого бора, где были свои. Хотелось немедленно бежать туда, но он не решался: враги так близко, что слышны их голоса. На этой открытой поляне фашисты могут легко подсечь его огнем и взять в плен. Но оставаться в воронке тоже опасно: и здесь они могут захватить его.
Он решил не обнаруживать себя, пока не придумает выхода из этого трудного положения. Затаив дыхание и напрягая слух, он прижимал к груди автомат и наготове держал в руке гранату. Если фашисты полезут, он будет отбиваться до последнего дыхания, а если попытаются взять живьем, гранатой подорвет их и себя.
Все тело дрожало от озноба и нервного напряжения. Но страшнее беснующегося вокруг огня было сознание совершенной непростительной ошибки. Так долго и упорно он готовил себя к боевым делам, так настойчиво просился в разведку – и вот в самую решительную минуту не выдержал испытания. Сам себя посадил в эту гибельную западню.
Как-то в Краснохолмском военном пехотном училище он с азартным волнением и горящими глазами стал говорить участнику многих боев, офицеру-преподавателю, какие отважные дела он, Матросов, мог бы совершить, если бы стал разведчиком.
«Романтика, – с улыбкой сказал капитан. – Все гораздо проще и труднее. Каждое движение должно быть обдумано и рассчитано до сотой доли секунды. Подвиг – не озорство, а хладнокровный умелый труд».
«Да, да. Я растерялся, прозевал эту сотую долю секунды и решил не так, как надо. А надо было, несмотря на огонь, короткими перебежками скорее добраться до леса, а не прыгать в воронку и не сидеть тут».
В полдень ветер стих, небо очистилось, пригрело солнце. Затих и огонь. Матросов, полусидя, все держал наготове автомат и гранату, не смея пошевелиться и высунуть из воронки голову. Руки затекли, онемели. Окоченевшее тело мучительно ныло. Время тянулось нестерпимо медленно.
От нервного перенапряжения, бессонной ночи и солнечного тепла ему неодолимо хотелось спать. Веки отяжелели, сами собой слипались, трудно было открыть глаза. Все в сознании куда-то плыло. Уснуть, уснуть и забыться хоть на одну секунду.
Но уснуть – значит погибнуть. Враги могли нагрянуть в любую минуту и захватить его. Он ненавидел себя, свое тело за его немощи. Ведь немало он, черт возьми, учился у других выдержке, самообладанию, упорству, а тут раскис, когда каждую секунду угрожает смертельная опасность.
Порой ему хотелось бежать отсюда, бежать без оглядки, несмотря ни на что. Но ни бежать, ни даже ползти было нельзя. В испачканном глиной маскировочном халате он сразу был бы обнаружен на снежной поляне. До боли стиснув зубы, он терпел, дожидаясь ночи.
Когда сгустились сумерки и он с трепетом теперь уже отсчитывал минуты, готовясь покинуть ненавистную воронку, случилось то, чего он опасался: к воронке подползли фашисты. Сначала послышался тихий хриплый и настороженный голос еще невидимого эсэсовца:
– Рус, капут! Сдавайсь!
Матросов молчал, повернув ствол автомата туда, откуда слышался голос.
– Ганс Эркель! Ганс! – помолчав, позвал солдат кого-то, может быть часового, уведенного нашими разведчиками.
Матросов ждал. И, едва показалась голова фашиста, дал короткую очередь. Тут мелькнула мысль, что солдат не один и воронку могут забросать гранатами. И молниеносно вспомнилось, как учили его вести себя в таких случаях: на лету схватить летящую к тебе гранату и мгновенно послать ее обратно тому, кто ее бросил. А упустишь нужное мгновение – погибнешь. Но лучше предупредить эту опасность. Матросов выскочил из воронки и бросил гранату в другого эсэсовца, залегшего метрах в десяти. Взрыв гранаты Матросов услышал, когда бежал уже туда, откуда выходили в разведку.
…Друзья его еще не спали, когда Матросов вернулся в землянку. У него, охмеленного радостью освобождения от страшной воронки, было хорошее настроение, когда шел по лесу, и ноги, казалось несли его сами. Но, входя в землянку, Александр вспомнил свой позорный, как ему казалось, поступок на поляне, и сердце захолонуло от стыда. Что скажут командиры и друзья? Легче было сквозь землю провалиться, чем показаться им на глаза.
Произошло же нечто неожиданное. Увидев его, испачканного, изнуренного и хмурого, все обрадованно кинулись навстречу, стали тискать, обнимать, пожимать ему руки. Его считали погибшим.
– Вернулся наш Сашка! Пришел-таки!
– Молодец! Герой, не сдрейфил!
– Хватит издеваться! – вдруг крикнул Матросов, и злые слезы блеснули в глазах. Он считал себя виновным, ждал презрения и насмешек и не верил в искренность друзей.
Но вот вошел комроты Артюхов и тоже стал хвалить его. Матросов не вытерпел:
– Товарищ старший лейтенант, лучше накажите меня, чем насмехаться.
– Чего ты кипятишься? – спросил озадаченный Артюхов. – Устал, что ли? Ведь ты действовал хорошо. Сознательно отвлек на себя огонь противника, способствовал удачному исходу, разведки. И верно, герой! Я даже думаю тебя представить к награде.
Командир говорил серьезно, и Матросов, наконец, поверил в искренность его слов. Что же, он ведь, правда, помог товарищам, а об его минутной растерянности, из-за которой попал в воронку, здесь никто не знает. Можно успокоиться, доложить командиру о замеченных огневых точках противника, об убитых им фашистах и, чувствуя себя героем, вместе с товарищами порадоваться общей удаче.
Но Матросов вспомнил, как, просясь в разведку, он сказал: «Верьте совести, не подведу». Десять лет уже пуще глаза дорожит он этими словами. Тем более теперь комсомольскую совесть свою запятнать он никак не может.
– Не разведчик я, а растяпа, – сердито сказал Матросов. – Рано меня хвалить и награждать. Я растерялся, да, растерялся и с испугу кинулся в воронку, там и просидел весь день.