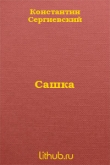Текст книги "Александр Матросов (Повесть)"
Автор книги: Павел Журба
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Павел Журба
АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ
Повесть



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
АЛМАЗНАЯ ГОРА
 корый поезд «Москва – Севастополь» остановился утром на станции Запорожье.
корый поезд «Москва – Севастополь» остановился утром на станции Запорожье.
Веселые пассажиры, едущие на крымские курорты, сразу заполнили перрон, залитый щедрым августовским солнцем. После вагонной духоты приятно подышать свежим воздухом, напоенным запахами ночной фиалки, душистого табака, петуньи. На привокзальной площади гремел духовой оркестр. Там встречали или провожали очередную партию строителей Днепрогэса.
В ящике под вагоном чуть приоткрылась дверца. Никто не подозревал, что и в этом тесном ящике может быть пассажир. Показалась всклокоченная голова, черное, запыленное лицо мальчика-оборвыша, настороженно блеснули голубые глаза.
Оглядевшись, он быстро выпрыгнул из ящика. В расстегнутом рваном, не по росту большом, ватнике хлопчик юркнул под вагон. Рукавом мазнул по лицу, стирая пыль, но лицо чище не стало.
Он подошел к ящику следующего вагона и тихо окликнул:
– Тимошка, живой?
– Та трошки живой, – послышался тонкий хриплый голос. – Только дышать нечем. В глотку пылюга набилась. Просто погибаю. Пить дай, Сашка!
– Ладно, принесу. Не вылазь, а то отстанем.
Сашка выбрался из-под вагона, отряхнул одежду и, щуря на солнце глаза, пошел искать воду.
Ночью посадил он в ящик дружка и считал себя ответственным за его удобства и благополучие. Жалобу Тимошки он принял равнодушно. Он и сам задыхался в дороге от пыли в таком же проклятом ящике; глаза на лоб лезли от страшного грохота колес и тряски. Вихрь, бушующий под вагоном, казалось, вот-вот сорвет его – и тогда конец. Что поделаешь? Надо же терпеть и некоторые неудобства, если мечтаешь чуть ли не о кругосветном путешествии.
Хорошо разгуливать по станции этим беспечным пассажирам: веселятся, на курорт едут. А у бездомных Тимошки и Сашки много тревог и забот. Решено разыскать где-то на Памире Алмазную гору с ее сокровищами. Но прежде чем пуститься в это далекое рискованное путешествие, рассудительный Тимошка предложил «по пути» заехать в Крым: там много санаториев, садов и виноградников, где можно подкормиться; там его дядя работает каким-то морским начальником, может устроить их на любой пароход. На худой конец в теплом Крыму и перезимовать легче. Вот и решили друзья ехать в Крым. Но легко сказать – решили! У них не было ни гроша.
Когда Сашка собирался бежать из детского дома, эта беспокойная жизнь представлялась ему совсем иной. Он хотел стать вольным, как ветер степной, как птица: куда захотел, туда и пошел, что захотел, то и сделал. Но в первые же дни после побега, наголодавшись, он заколебался: не вернуться ли в детдом? Там он был сыт, чисто одет, спал в чистой постели. По вечерам в красном уголке всегда было весело. Неплохо жилось в детдоме! Но как только Сашка вспоминал директора с прокуренными порыжевшими усами, сразу ожесточался. Он не мог забыть непростительную обиду: «Не поверил моему честному слову Плук (так за глаза звали ребята Петра Лукича), опозорил перед всеми ребятами на линейке. Нет, с голоду помру, а ни за что не вернусь!»
Сашка жадно вдыхал свежий воздух. Все его тело, избитое о стенки тесного ящика, было в синяках и болело. Во рту сухо и горько. Язык от пыли шершав, как суконка. Нетерпеливо сжимал он рукой в кармане ватника ржавую консервную банку, из которой всласть напьется сам и напоит дружка. Наслаждаясь чистым воздухом и думая о своем трудном путешествии, он шел по перрону, не обращая внимания на людей. Он даже немного зазевался, завидуя грачам, которые с беззаботной веселостью перекликались на верхушках привокзальных тополей и кленов. Внезапно его окликнули.
– Сашка, ты?
Он обернулся. Этого еще недоставало! К нему подбежала знакомая смуглая девчонка. Ну да, Людка Чижова, с которой в детдоме он часто вместе рисовал, играл в жмурки в последний детдомовский вечер. Но теперь эта встреча так некстати.
– Ой, Сашечка, до чего ж я рада, что встретила! – щебетала она. Ей всегда нравился этот прямой, бесхитростный хлопчик. И сейчас в глазах ее черных, как спелые вишни, горела неподдельная радость.
Сашка поверил в искренность ее слов и хотел уже протянуть ей руку, которой растерянно сжимал в кармане консервную банку.
Но Людка, разглядев сухие травинки и соломинки в пропыленных и сбившихся волосах Сашки, его замызганный ватник, с дырами, прожженными у костров, матросскую тельняшку, испачканную так, что трудно различить синие и белые полоски, испортила дело:
– Ой, Сашечка, ой, лышечко, чего ж ты стал такой… – начала она и запнулась.
Но Сашка понял по ее взгляду: «Грязный» – хотела она сказать.
– Никакого «лышечка» нету, – резко ответил он и с деланным пренебрежением взглянул на ее белоснежную блузку, на шелковый алый галстук. – Как хочу, так и делаю. Это вы, как те курчата, любите под крылышком…
Неприятна ему эта неожиданная встреча. Хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не смотреть в глаза этой чистенькой девчонке. «Подумаешь, воображает! Так и дурак сумеет путешествовать. А попробуй, как мы с Тимошкой, тогда и узнаешь, почем фунт лиха». Боясь привлечь внимание милиционера, Сашка хотел убежать, но Люда спросила:
– Ты, может, есть хочешь? – И протянула большую грушу-медовку. – Бери, у нас много!
От голода и приятного запаха груши у хлопчика заныло в желудке, но он отвернулся.
– Отстань, я не голодный. Я пирожных, может, объелся.
– А я круглая отличница, – похвасталась Людка. – Еду с ребятами в Артек. А ты, вижу, не отличник!
Сашку даже передернуло от этих слов. Отличник! Девчонка явно издевается! Он гордо выпрямился:
– Езжай себе в Артек да не суйся не в свое дело!
Вдруг по перрону стрелой промчался такой же испачканный, как Сашка, беспризорник, крича на бегу:
– Атанда!
Сашка увидел, как милиционер и проводник открывали ящик под вагоном, и тоже побежал, крикнув:
– Тимошка, вылазь!
Но было поздно. Прозвенел станционный колокол. Люди поспешили в вагоны. Сашка из-за пакгауза смотрел на уходящий поезд, и сердце его сжималось от досады: отстал! Что же с Тимошкой? Уехал он или его поймали милиционеры?
На станцию возвращаться Сашка боялся – поймают. Там одного беспризорного милиционеры уже задержали. Сашка предусмотрительно спрятался за кучи каменного угля и стал наблюдать, что делается на станции.
А все из-за Людки… Замешкался…
Накаленный солнцем уголь жег босые ноги, а Сашка все смотрел, – не покажется ли Тимошка.
Когда перрон опустел, Сашка снова пробрался на станцию. Озираясь по сторонам, обшарил все углы, но Тимошки так и не нашел.
Куда теперь податься вольному, как ветер, Сашке? В этом городе, видно, беспризорникам не житье. С поездов их снимают и на станции ловят.
Увидел через окно в буфете разную соблазнительную еду, и его даже затошнило от голода. Где добыть хоть завалящий сухарь? Если попросить, в городе, конечно, ему подадут что-нибудь съестное. Но просить стыдно, а главное – поймать могут.
Он уже знал, что в летнюю пору безопаснее всего и вдоволь можно подкормиться на колхозных огородах, бахчах и в садах. В колхозе скорее и подадут что-нибудь. А колхозные угодья начинаются сразу за городом.
Сашка с предосторожностями в порожних грузовиках выбрался за город и побрел по берегу Днепра.
Глава II
ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ
 скоре шумный город остался далеко позади.
скоре шумный город остался далеко позади.
Тропка тянулась по берегу реки, то изрытому буераками, то поросшему колючей дерезой, кустарником. Голубая ширь Днепра почти недвижна, только вспыхивали на воде сверкающие солнечные блики. На курганах лениво кивали белые султаны ковыля. Порой ветерок доносил запахи истомленных зноем чебреца, шалфея и полыни. Все шире открывалась бескрайняя степь, уходящая в белесую дрожащую мглу горизонта. Сашка раньше часто мечтал о таком раздолье в степи, где когда-то запорожцы и кочевники, как буря, проносились на своих низкорослых лошадках. А теперь ему грустно и одиноко в этих необъятных степных просторах.
Накаленная солнцем земля жгла босые ноги. Он не раз уже припадал к студеным криницам[1]1
Криница – родник, колодец.
[Закрыть], вырытым на берегу, видно пастухами, и жадно пил.
Еще сильнее томил голод. Сашка пробовал есть травы. Знал, что стебли копыря, козельца, листья конского щавеля съедобны. Но теперь, в конце лета, стебли купыря и козельца жестки, как веревка, а конский щавель шершав и горек.
Тоска по Тимошке все больнее щемит сердце. Где он теперь? Что с ним? И, главное, как теперь быть без него и куда податься?
Неужели, и правда, он теперь пропащий, как говорила о таких, как он, покойная бабуся? И в самом деле, утони он тут в Днепре – никто и не вспомнит. Один-одинешенек на всем свете.
А разве он виноват, что папку его убили? Бабуся говорила: в Днепропетровске на металлургическом заводе отца уважали. Лучший горновой был. Потому партия и послала его в самое трудное глухое степное село помогать крестьянам объединяться в колхозы. Куркули[2]2
Кулаки.
[Закрыть]за это и убили отца. А через два года умерла и мать. С горя умерла, говорила бабуся. Вот и остались они вдвоем. А как много интересных сказок знала бабуся! Век бы слушал. И про гусей-лебедей и про бабу-ягу. И про дудочку-сопилочку, что выросла на могиле матери и все пела про ее жизнь. А когда ходили смотреть на Днепрово половодье, бабуся рассказывала про его отчаянного прадеда – днепровского лоцмана, который не боялся самых бурных речных порогов и даже царских жандармов не боялся. Тогда и захотелось ему, Сашке, стать матросом, смелым и сильным, как прадед. Бежав из детдома, он первым делом обзавелся матросской тельняшкой. А когда бабуся провожала его в школу, приговаривала: «Хорошо, Сашуля, учись – человеком будешь…»
Эх, бабуся, прости-прости твоего Сашулю! Не выполнил твой завет, спознался с босяками…
Когда заболела бабушка и, видно, чуя свою смерть, все гладила его по голове обеими руками и приговаривала: «Сироту, как траву по дороге, притопчет кто хочет. А ты, Сашуля, не гнись. Не старое время, чтоб гнуться. Наступили на тебя, а ты не поддавайся!» Он и не поддавался. Когда хоронили бабусю, часто сдавливало ему горло будто железной рукой, а он не плакал. И директору детдома не поддался, сбежал куда глаза глядят…
Почему ты решил, Плук, что именно Сашка взял мед, и почему не поверил честному слову? Не раз думал об этом Сашка, ночуя где-нибудь под базарным ларем.
Хорошо, что встретился с Тимошкой. С ним сразу стало веселее и легче. А как впервые познакомились, – даже и теперь смешно вспомнить. Сашка бродил по городскому базару голодный и злой. Просить он еще стеснялся, а красть не умел. И вдруг его внимание привлекла странная картина. Смешной, веснушчатый, с кудрявой огненно-рыжей головой хлопчик лет десяти сидел на пригорке и баюкал завернутого в тряпье ребенка, хлопая его по задку и припадая к нему лицом. Ребенок, надрываясь, кричал: «Уа-а-а-а, у-а-а-а». И когда на минуту, будто захлебнувшись, затихал, хлопчик обращал к собравшимся вокруг людям мокрые от слез глаза и просил подать на молочко сиротке.
Люди щедро бросали, в шапку деньги.
Сашка смотрел с завистью на рыжего оборванца, прятавшего уйму денег за пазуху. Сашка решил выпросить или отнять у него сколько-нибудь, хоть на хлеб, и стал незаметно наблюдать за ним.
Вот, наконец, хлопчик встал, небрежно прижал к животу умолкшего ребенка и пошел. За ларями оглянулся по сторонам, быстро свернул ребенка в узел и понес под мышкой. Сашка сразу сообразил: никакого ребенка там нет. Но кто же так искусно вопил? Рыжий, насвистывая, купил себе пряников, конфет и пошел, запихивая их в рот. Сашка догнал его за ларями и схватил за узел.
– Ах ты, жулик! Как ты можешь так обманывать людей?
Паренек взъерошился, грозно блеснув зеленоватыми глазами, и поднял кулачок:
– Не чепляйся! Не подходи! Я есть сам Жак Паганель. Убью!
– Кто, кто? – рассмеялся Сашка, оглядывая щупленького шепелявого паренька с облупленным от загара носом. На голове его топорщились жидкие, запыленные рыжие волосы. Несмотря на угрожающий вид, Сашка схватил его в охапку и легко повалил на землю. – Тоже мне Жак Паганель! Я хочу есть. Дай пряников и денег.
– Так бы и говорил, а не дрался, – примирительно сказал паренек. – Подумаешь, – мне не жалко. А что я обманываю, так это, понимаешь, им самим приятно жалеть кого-нибудь.
Они поднялись, отряхнулись и через минуту уже мирно беседовали, жуя пряники.
– Где ж ты научился так ловко пищать?
– Чудак, я ж прошел театральный фикультет в промышленной академии.
– Как? Где?
– В промышленной… Промышлять, значит… Там смотря на какой фикультет попадешь – тяжелой чи легкой промышленности. Тяжелая – это которые замки и двери ломают, а легкая – моя. Там я и научился плакать, как дите, молитвы с постной рожей жалобно читать, – кое-каким бабам до слез это нравится, и они щедро подают, особенно на паперти. Птичий концерт можно представить… Потому, значит, как артист я и прозвание мне – Жак Паганель, а по-самделешнему – Тимошка Щукин.
– Ну ты ж и хлюст! А родители у тебя есть?
Тимошка махнул рукой:
– Матка есть, да вроде и нет… Хотя, говорят, разыскивает меня. – И свистнул: – Ищи ветра в поле…
– Не любишь ее, что ли?
– Матку люблю чи не люблю – не знаю, а Нечипура стерпеть не мог. Папка ж мой был в миллион раз лучше его. Слесарь-лекальщик, седьмой разряд. Понял? А когда папка помер, мать и привела того мордастого Нечипура. Самогоном и табачищем разит от него – спасу нет, а он все варнякает и варнякает, выхваляется перед мамкой. И на кого только променяла папку? А тут еще стал он меня воспитывать, за водкой и папиросами посылать, за уши драть… Потому что он мне слово, а я ему десять. Я и ушел в шайку Короля-Бурлая. Это тебе и есть промакадемия.
– Значит, оба мы с тобой пропащие.
– Чудак человек, – засмеялся Тимошка, – а мне, видишь, и пропадать весело…
Сашка и Тимошка решили крепко держаться друг друга.
На другой день Сашка был свидетелем его базарной славы. Поражая толпящихся вокруг зрителей своим искусством, Тимошка с особым блеском выполнял самый трудный номер своей программы, изображая птичий концерт, в котором участвовали соловей, ворона, аист, сорока, индюк и гусь. Маленький артист, с рыжей всклокоченной головой, смешно гримасничал и, шепелявя, подражал голосам птиц и давал пояснения.
Зрители хохотали до упаду, дивясь искусству разбитного паренька, и опять бросали в шапку деньги.
– Ну и смешной же, как клоун! Настоящий артист!
Сашке нравился худенький, но цепкий и смышленый Тимошка. С таким не пропадешь. К тому же он был великодушен и щедр, как и все умелые люди. Подружившись, он делился с Сашкой всем, что имел.
Но скоро их базарный «театр» кончился скандалом. Главарь шайки, Бурлай, решил извлечь двойную пользу от «театра» Тимошки. И когда тот изображал «плачущего ребенка», а Сашка наблюдал издали, вдруг на базаре поднялся переполох. Люди кричали, что у одних деньги из кармана вытащили, у других – часы, а у кого-то даже сало с мешком утянули. Чуя недоброе, Тимошка прекратил представление. Но одна недоверчивая тетя разгадала секрет Тимошки, дернула за одеяльце, в которое завернут был мнимый ребенок, и на землю упала неуклюжая тряпичная кукла. Тетя решила, что Тимошка и есть наводчик и пособник воровской шатии, закричала, чтоб поймали его. С большим трудом удалось тогда Тимошке и Сашке убежать от погони. После этого легкий заработок у них бывал редко и они часто голодали.
Да не такой Тимошка человек, чтобы растеряться. Однажды на берегу Днепра под опрокинутой лодкой он предложил:
– А давай махнем к Алмазной горе, на Памир! – Глаза его отчаянно сверкали. – Я знаю тайную дорогу к Алмазной горе! Дедушка мой все мне разъяснил. В пещере той горы, понимаешь, так много драгоценных камней, что люди, как только зажигают свет, сразу же слепнут от блеска самоцветов. Понял? Но дед научил меня, какой водой надо умываться, чтобы не ослепнуть в пещере. Понятно? Так что будет полный порядочек. Наберем драгоценностей, понимаешь, сколько захотим, а каждый маленький камушек стоит большие тысячи. Привезем эти камни в Москву, отдадим правительству и расскажем про Алмазную гору. Все газеты про нас напишут, портреты напечатают! Понял? Ученые нас признают и, понимаешь, как отчаянных следопытов, станут брать в дальние путешествия. Попадем на Кавказ, в Бразилию, в Сингапур!..
Со страхом и восхищением слушал Сашка о далеких краях, полных сказочных соблазнов и опасностей. Ему и раньше страстно хотелось путешествовать, подняться на заоблачные вершины Кавказа, Памира, увидеть горные озера и пустыню Кара-Кумы, океанские пароходы и непроходимые джунгли. Он с жадностью читал книги о знаменитых путешественниках.
Но Сашка не знал, как начать путешествие, чем питаться в пути, чтобы не умереть с голода. Да и милиционер мог поймать на любой станции и сдать в детдом. Но с Тимошкой Сашка смело покинул родной город. Тем обиднее теперь ему так неожиданно и нелепо потерять верного дружка.
Глава III
ПОЧЕМУ ЦВЕТЕТ МАК
 ашка брел, сам не зная куда.
ашка брел, сам не зная куда.
Все сильнее припекало солнце. С завистью смотрел он на людей, едущих на пароходах, в баржах вверх и вниз по Днепру. С далеких полей доносился рокот комбайнов, косилок, слышались веселые голоса. Но Сашка обходил людей: они трудятся, обливаясь потом, стыдно у них попрошайничать. Да и не любят они шатающихся бездельников, особенно в горячую пору полевой страды. Не вернуться ли обратно в город?
Из-за косогора неожиданно открылся большой сад. Он широкой полосой протянулся вдоль Днепра. Истомленный мальчик обрадовался и побежал к саду. У глубокого рва он остановился, посмотрел в сад сквозь густые кусты боярышника – и замер от изумления. Перед ним открылось вдруг такое сказочное диво, что с минуту он стоял как вкопанный. Рябило в глазах от обилия яблок, груш, слив. Отягченные крупными румяными плодами, зеленые ветки клонились к земле, гнули подпорки или в изнеможении опирались о землю. Из сада веяло прохладой и запахами яблок, дынь, груш, меда.
Он прислушался. Тихо. Только жужжали пчелы, стрекотали кузнечики да изредка глухо стукалось о землю упавшее яблоко. Не в силах больше терпеть голод, Сашка протиснулся сквозь густую колючую ограду из кустов боярышника и оказался в саду. Впопыхах он схватил с земли яблоко, надкусил его. Оно было червивое. Сердце у Сашки сильно билось: и красть дело нелегкое. Злясь на себя за нерешительность, он с ожесточением тряхнул дерево. И с десяток больших груш с желтыми подрумяненными боками упало в скошенную траву. Торопясь, Сашка жадно ел сладкие, сочные плоды, совал их за пазуху.
– Стой, а то стрелять буду! – вдруг раздался хрипловатый строгий голос.
Седобородый дед в длинной холщовой рубахе и в соломенной широкополой шляпе-брыле стоял шагах в двадцати, направив ружье на мальчика.
Сашка замер, как зверек, застигнутый врасплох.
– Чей ты? – спросил дед.
– Ничей, – вызывающе ответил воришка.
– Брешешь! Знаю вас. Батько и маты есть?
– Нет. Я сам себе хозяин.
Дед усмехнулся:
– Ого, якый хозяин! От горшка два вершка. А чего не плачешь?
– Не умею… пустите, – осмелел Сашка, определив по дедовой усмешке, что стрелять тот не будет.
Но дед опять строго насупил сивые косматые брови:
– Ну, не растабарывай тут! Иди вон туда, до куреня. А я за тобою. Ты арештованный, понятно?
Еще чего недоставало – «арештованный»! Именно этого Сашка и опасался, И уже совсем глупо – быть арестованным этим дряхлым дедом. Надо вежливее просить его.
– Дидуся, ну пустите, что вам стоит? А то… а то все одно убегу!
Но дед твердо стоял на своем:
– Будешь тикать – стрельну! Чуешь, хлопче?
– А как не буду тикать?
Первое желание у деда было – выдрать за уши дерзкого мальчугана, чтоб не лазил в чужие сады, но хлопчик этот, смышленый и смелый, понравился деду, и жалость к нему тронула стариковское сердце: «Он же голодный, мабуть, як цуцык. И видно, такой же завзятый, як Петрик мой».
А для деда черноголовый внучек Петрик – может, самая большая отрада в жизни. Только деды понимают, как сильно можно любить внуков. И возраста Петрик, кажется, такого же. Да что там говорить! Ведь и этот замурзанный и драный хлопчик тоже чей-то внук.
И деду хочется скорей узнать, каким ветром занесло его сюда. Есть еще у деда неутолимая страсть: ему всегда хочется с кем-нибудь говорить о своем новом восторженном чувстве, обретенном на старости, а говорить не с кем. Колхозники давно перестали удивляться тому, что волновало деда. А с этим бездомным хлопцем можно наговориться вволю.
– Слухай, хлопче, не будешь тикать – до отвала нагодую тебя медом, дынями сладкими и всем, що сам тут бачишь. Нам не жалко. У нас всего вдосталь. Тильки воров, як тех паразитов и трутней, снистожаем… Иди до куреня!
– А после того, как нагодуете, чего со мной сделаете?
– Погомоню и отпущу! Верь совести, отпущу… А захочешь – заночуешь тут. Распалим костер, сказку расскажу. А зовут меня дед Макар.
Сашка колебался. Не задумал ли дед какую-нибудь злую шутку? Не отправит ли в тюрьму? Но надо пока слушаться деда, а то еще стрельнет. И сказал: «Верь совести»… Нельзя не верить совести. Да и есть хочется нестерпимо.
Мальчик шел под конвоем, жадно глядя на обилие фруктов и подозрительно косясь на деда.
В курене на сене лежали кучи яблок, груш, арбузов, большая надрезанная дыня с толстой сочной розоватой мякотью. Пчелы вились вокруг покрытого полотенцем кувшина с медом. Соблазнительные запахи кружили голову Сашке. Он все еще недоверчиво озирался, будто выжидая подходящей минуты, чтобы сбежать.
Хитровато улыбаясь, старик достал из подвешенной торбы белый пшеничный хлеб, кусок сала, завернутый в капустный лист, положил на разостланный перед гостем вышитый рушник[3]3
Рушник – полотенце.
[Закрыть] груши, яблоки, дыню. Нашлись у него в макитре[4]4
Макитра – большой расписной горшок.
[Закрыть] и жареные лини и караси, а в миске – белые пухлые пампушки.

Выставил он и глечики[5]5
Глечик – глиняный кувшин.
[Закрыть]: один – с медом, другой – с фруктовым соком. Мед – янтарно-золотистый, пахучий и прозрачный, какого Сашка никогда еще не видел.
– Ну, хлопче, – с улыбкой сказал дед, – приступай до пиршества. Ешь, що тебе больше нравится.
Что нравится?! Сашке так есть хочется, что разом на все набросился бы. Но он для солидности отвел глаза от соблазнительной еды.
– Я не голодный.
– Брешешь, по глазам бачу. Ешь, хлопче, на здоровье. Не стесняйся. Сам таким был. – Дед подвинул к нему миску и хлеб. – А звать же тебя як?
– Сашка.
– Так. Сашко, значит. Ну, угощайся, Сашко.
Сашка с минуту поупрямился из приличия, но, не в силах больше сдерживаться, накинулся на еду.
Дивясь странному виду незваного пришельца и тому, как жадно ест он, дед осторожно спросил:
– Где ж ты бывал, человече, и куда путь держишь?
– Путешествую, – нехотя буркнул хлопчик.
– Ого, путешественник! Ты, мабуть, такой путешественник, як то перекати-поле. Бурьян есть такой катучий. Ветер гонит его, а оно катится и катится невесть куда.
– И совсем не бурьян, – возразил Сашка и загадочно подмигнул. – Мы направляемся на Памир, к Алмазной горе…
Дед усмехнулся:
– Эге, большое дело задумал ты. По-моему, за такое путешествие на тебя надо воздействовать батогом по заду. Понял?
– Некому батогом воздействовать.
– А родители твои куда смотрят?
Хлопчик нахмурился и перестал есть.
– Я уже сказал: нету родителей. Не верите?
– Умерли чи покинули тебя?
– Ну и умерли. Вам не все равно?
Дед сразу смягчился.
– Так-так… Значит, сирота… А ты ешь, серденько, чего перестал? Ешь, ешь, бедолага. Сам бачу, драный ты, як та Сидорова коза. Може, и добра ты от человека ще не знал? Ишь, колючий какой, неначе тот ежак.
Сашке совсем не хотелось сейчас тратить время на разговоры о человеческих отношениях. Немало гоняли его, как соленого зайца. А сказать худо о людях, – старик еще обидится. Сашка и повторил подходящие к случаю чужие слова:
– Каждый только о своем брюхе думает.
Дед Макар глубоко вздохнул:
– Эге, ото ж я и говорю: растешь, як дичок в бурьяне, а так добра и не увидишь. Оно правда: к человеку, як та короста, липнет старое, плохое. А ты не суди про человека по его одежке, по его первому слову. Бывает, попервоначалу и поцапаешься с человеком, невзлюбишь его, а приглядишься, – он, как и ты, добра людям хочет. Значит, свой брат.
Сашка доверчиво посмотрел деду в синие простодушные глаза. Понравились ему дедовы слова. По всему ясно, что и его, Сашку, дед принимает не по одежке.
Дед взял огромный кавун[6]6
Кавун – арбуз.
[Закрыть], покрытый от хвоста до лобовины белыми и темно-зелеными полосами. Пощелкал его, определяя спелость. Кавун почти звенел, а от прикосновения ножа лопнул. Сахаристая мякоть его, красная, как жар, таяла во рту.
Сашка с восхищением думал: «Вот это дед! Не пожалел для меня лучший кавун разрезать».
– Сроду такого не ел, – сказал он, обеими руками держа скибку кавуна.
– Ну и ешь на здоровьечко, Сашко… Так ото ж и говорю… Я, дед Макар, мабуть, сто годов несчитаных прожил и знаю: жить надо так, щоб людям легче было оттого, що ты живешь. А ты красть хочешь. Тоже мени вор-горобец! По совести надо жить. Совесть – око народа, вот и служи народу по совести. Чуешь, Сашко?
– Чую, дидуся, – отвечал мальчик с полным ртом и широко открытыми от удивления глазами. – Чую… чтоб людям легче было, что ты живешь.
– Так добре ж запомни ци слова, Сашко. На них свет держится. За них люди на смерть шли.
– Запомню, дидуся.
– Ну и добре, серденько… А пить – квас будешь чи молоко? В кринице кубышку держу. Там родники, як лед. А может, винограду гроздочку поспелей найдешь…
Сашка так насытился, что не мог подняться. Склонившись на пахучее сено и вдыхая запахи фруктов, мяты, шалфея, душицы, он с удивлением смотрит в залитый солнцем сад. Все здесь необычно и красиво, как в сказке. Тихо, не шевельнется ни один листок. Слышно даже, как изредка какое-нибудь тяжелое спелое яблоко упадет на землю.
А вот села на ветку долгоносая птица, играя на солнце пестрым оперением.
– Как жар-птица, – шепчет Сашка, боясь спугнуть ее.
– Первый мой лютый ворог, – косится на птицу дед. – Щур. Пчел жрет.
В зелени ветвистой глуши мелькает золотисто-желтая птица и лениво вскрикивает, будто о чем-то спрашивает.
Дед передразнивает:
– «Де я його дила? Де я його дила?» Потеряла, так и шукай, хитрая птаха-иволга, и нечего самые сладкие груши клевать!
Где-то на высоком тополе дремотно воркует дикий голубь: «Ва-вва-уррр, ва-вва-уррр». Голубка ему отвечает: «Угу-у-у, угу-у-у». Синица-пастушок посвистывает: «Фить, фить, фить!»
– До чего ж хорошо тут, дидуся! – говорит Сашка. – А цветы, цветы какие!
Дед степенно называет цветы: чернобривцы, пивники, панычи, горицвет, золототысячник…
– Дивчата насадили. Кажуть, нехай, диду, и коло куреня квитки[7]7
Квитки – цветы.
[Закрыть] будут, щоб и вы радовались. То-то ж дурни! Хиба моя радость тильки коло куреня? Моя радость безмежна, як небо… И ты веришь, Сашко, хочется, щоб все люди добре жили. – И, подумав, нерешительно добавил: – И щоб такие, як ты, хлопче, не блукали по свету, а жили добре… Гадаю так, що и ты ж человек не без роду-племени…
Самолюбие Сашки было задето. Тронула его и забота деда.
– Ясно, я не без роду-племени. – И он рассказал, кто был его отец, что и он хотел добра людям, за это и убили его. Рассказал о матери, о бабушке и задумался.
Плотно сжав губы, смотрел в сад, слушал перезвон птиц. Он вспомнил, как рабочие хоронили отца. Залитые солнцем цветущие акации так белели, что больно было смотреть. Друзья у могилы отца говорили речи. Плакали бабушка, мать – худенькая, голубоглазая, в белой, косынке. А он, Сашка, не плакал. Одна старушка сказала тогда про него: «Не понимает еще хлопчик, не плачет». А бабушка ответила ей: «У него сердце зашлось».
Вскоре слегла с горя и мать и уж больше не встала. Вернувшись с кладбища, Сашка долго стоял один у забора и смотрел на Днепр, на степные просторы, на далекие мглистые курганы. Он очнулся, когда подошла к нему бабушка и окликнула: «Не оглох ли ты, Саша? Кричу, зову тебя, а ты молчишь. Иди ужинать». И тут он особенно остро почувствовал, что остались они с бабушкой только вдвоем, и заплакал безудержно, судорожно. «Ничего, поплачь, внучек, поплачь, легче будет», – говорила бабушка – теперь самый дорогой на свете человек.
Дед Макар смотрел на хмурого хлопчика и не рад был, что заговорил о его родне.
– Ну, чего ж ты, Сашко, не ешь и молчишь? Може, дыни чи винограду хочешь? Ешь, серденько, а я тебе добру песню заспиваю.
Дед взял бандуру[8]8
Бандура – народный музыкальный инструмент.
[Закрыть], пробежал заскорузлыми пальцами по звонким струнам и хрипловато, но с душой запел:
За Сыбиром солнце сходыть…
Хлопцы, не зивайте:
Вы на мене, Кармелюка,
Всю надию майте…
Сашка заслушался – он любил песни до самозабвения. Потом стал подтягивать деду.
Когда песня кончилась, повеселевший Сашка уже просил деда, с беспокойным удивлением глядя ему в глаза:
– Дидуся, а какую ж сказку вы знаете? Расскажите.
– Знаю, – усмехнулся дед. – Ты, бачу, до всего жадный. Одну маленьку можу рассказать.
Он подвинулся в тень груши, снял соломенный брыль, пригладил редкие сивые волосы на голове, точно готовясь к чему-то торжественному.
– Бач, як мы живем! Сами мы земельку распушили и сад цей насадили. И всего теперь у нас в колгоспе вдосталь. И человек стал добрей. А раньше як жили? Паны да куркули душили хлебороба. Известно, горе горбит человека. Грыжа моя ще доси болить с того часу, як у пана надорвался. Очи мои ще доси подслеповаты с того часу, як дым их ел в курной хати. Каганцем[9]9
Каганец – плошка, светильник.
[Закрыть] и лучиною освещались, да и за нею в другую губернию ходили. А теперь у нас в каждой хати электро и радио, а в клуби, як солнце, лустры сияют.
Дед указал на яблоньку, облепленную краснобокими яблоками. Подпорки держали пышную красавицу и не могли удержать – гнулись под тяжестью ее сочных плодов.
– По-мичурински саженец выходил, прививку сделал, и ось дывысь, що робится – яблок сила-силуща. Так мы ж скоро засыплем весь мир фруктою разною да пшеницею, як будем робить по-мичурински! Так слухай, Сашко. Было на свете богато царей, князей, панов и всяких там закордонных богачей. А ить мы счастливей, чем те цари, князья и богачи. Верь совести, счастливей! А все через що? Ты знаешь, хлопче, вид чого у поли мак цвите?
– Не, дидуся, не знаю.
– Слухай, Сашко. Та добре слухай.
Дед расчесал заскорузлыми пальцами белую, как ковыль, бороду, задумчиво посмотрел в сад, пронизанный лучами солнца. Было тихо, только дремотно жужжали пчелы.
– Был колысь на свете такой человек – Данько. Страшно бедовал народ от панов-помещиков. Всему хозяин был пан, а простой человек, мужик, рабом у него был, дни и ночи, всю жизнь работал на пана, а сам с голоду опухал. И степь широкая – глазом не охватишь, а трудящий человек жил, як в тюрьме. Так вот той Данько и стал учить людей, як им царей и панов скинуть и волю та землю получить. И народ стал гуртоваться, подниматься бунтами.
– То запорожцы были, дидуся?
– Мовчи. Слухай… Данька, известно, паны в тюрьму посадили, долго мучили его и требовали, щоб он отрекся от народа, от правды народной. А Данько на своем стоит. И повели его на казнь. Ведут по степям зеленым та пахучим. Пташки разные под солнцем грают. А на теле Данька раны горят. Чуешь, Сашко?