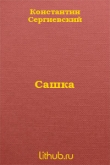Текст книги "Александр Матросов (Повесть)"
Автор книги: Павел Журба
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Глава VII
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ
 ревога была объявлена ночью. Свет зажигать не разрешили. В землянке – непроглядная темень. Бойцы на ощупь быстро находят одежду, оружие, вещевые мешки. А снаружи уже слышится голос командира взвода, Кораблева:
ревога была объявлена ночью. Свет зажигать не разрешили. В землянке – непроглядная темень. Бойцы на ощупь быстро находят одежду, оружие, вещевые мешки. А снаружи уже слышится голос командира взвода, Кораблева:
– Выходи строиться! Становись!
Голос старшины Кедрова неузнаваемо строгий, требовательный:
– А ну, живей! Кто там копается?
Матросов никак не может разбудить Антощенко. Петр спросонья трет кулаками глаза, не совсем еще понимая суровый смысл слова «тревога». Матросов злится на него, говорит, что последний раз нянчится с ним, а сам помогает одеваться. Выбегают они из землянки почти последними. Старшина укоризненно замечает:
– Хвосты тянешь, Матросов. Не ждал от тебя! Упрек нестерпим, но Матросов молча становится в строй.
В темно-серой мгле бушует вьюга, качая деревья, швыряя в лицо колючий снег. Кто-то говорит, что времени – четыре ноль-ноль.
Командир роты Артюхов коротко объявляет боевую задачу: батальон идет на штурм укрепленной полосы противника, потом поведет бой в глубине его обороны; остальные распоряжения – на исходном рубеже.
Походная колонна идет с охранением, со всеми предосторожностями. Но солдаты, поеживаясь от холода, даже не знают, – продолжение ли это занятий по боевой подготовке, или они идут в настоящий бой и в землянку больше не вернутся?..
Бригада находилась в резерве фронта, пополняясь людьми и вооружением. Каждый час был использован также для боевой и политической учебы.
Это была пора долгожданного перелома в ходе войны. На всех фронтах наши войска наступали, и бои становились все напряженнее. Уже была прорвана блокада Ленинграда, и заканчивалась великая битва под Сталинградом. В любой час бригаду могли бросить в бой.
На занятия подразделения поднимали еще затемно, иногда по тревоге и ночью. На тактических учениях, увязая по пояс в снегу или ползая по незамерзшим болотам, бойцы штурмовали опорные пункты «противника», прорывали его оборону, наступали по открытой и лесисто-болотистой местности. Порой шинели обледеневали, в них трудно было поворачиваться, а приходилось еще долго бегать по лесу, по колючим кустарникам, прыгать через траншеи, болотные лужи, преодолевать проволочные и минные заграждения. Возвращались бойцы в землянки поздно вечером – усталые, в мокрой и промерзшей одежде. Но коммунисты и комсомольцы шли еще на партийные и комсомольские собрания, выполняли партийные поручения и помогали в учебе отстающим.
– Эх, выспаться бы где-нибудь в теплом углу! – потирал задубелые руки Матросов.
Трудно приходилось ему и его друзьям на военных занятиях. В Краснохолмском училище Костылев и Дарбадаев вышли в отличники по стрельбе, а тут вначале стреляли плохо. Костылев сам на себя злился: его искусные пальцы молниеносно летали по клавишам баяна, выводя самые замысловатые переборы, а во время стрельбы коченели и были непослушны, как деревянные.
На исходном рубеже, в непосредственной близости «противника», за несколько минут до штурма укрепленного пункта простуженный Макеев стал так отчаянно чихать и кашлять, что вызвал справедливые нарекания командиров.
– Потерпи, – просил его Матросов. – Грохаешь, как полковая пушка. Огонь «противника» вызовешь, все дело погубишь.
Макеев, сдерживаясь, смешно кривил лицо, шапкой закрывал рот, но кашель был неукротим.
После преодоления болота и проволочного заграждения, во время решительных коротких перебежек Антощенко вдруг пополз по глубокому снегу, неуклюже поднимая зад. Взводный Кораблев, возбужденный близостью рукопашного боя, раскрасневшийся, раздраженно зашипел:
– Кто там ползет, как черепаха?
Матросов оглянулся: так и есть, опять что-то неладное с горемычным дружком.
– Беги и падай скорей, Петро! Чего, как баржа, плывешь?
– Та хоч ты не гырчи, – отозвался Антощенко. – Причина есть…
– Какая?
– Не скажу, – тихо, но сердито ответил Антощенко.
– У Петра, наверно, какой-нибудь пустяк, а вот у меня – кашель, – сказал Макеев. – И вообще не понимаю, зачем здесь так много всяких занятий и даже политграмота?
– Тяжело на ученье – легче в бою, Макеша. А без политграмоты боец, как без души, как пушка без снаряда.
Во время трудных тактических занятий яснее раскрывались характеры людей. Матросов приметил: чем больше человек устает, тем раздражительнее делается. Но один умеет сдерживаться, а иной не имеет выдержки. Макеев стал еще более ворчливым, придирался к товарищам, а Воронов больше отшучивался и усмехался.
Понятнее становились и характеры командиров. Подчиненные – первые судьи своих начальников. Солдаты между собой отмечали хорошее в поведении командиров, что и перенять можно, и едким смешком порицали дурные черты характера.
Комбат Афанасьев, обычно молчаливый и хмурый, сразу преображался даже в этих учебных боях. Он становился задорен, горяч и красив в своей стремительной подвижности. Он увлекал на лихие дела и требовал решительных и быстрых действий.
И сегодня, когда рота Артюхова залегла в ожидании сигнала к штурму укрепленного пункта, комбат сердито спросил:
– Ты что, чай с пирожными распиваешь, Артюхов? Почему не атакуешь?
– Сейчас, товарищ капитан, третий взвод ударит с фланга, а я в лоб ударю, – тихо, с невозмутимым спокойствием отвечал Артюхов, только дрогнувшая щека выдала его волнение.
Любитель обстоятельных бесед и задушевных песен, старшина Кедров «на службе» был суров и нещадно требователен, но говорил тихо, сдержанно, веско, отчего слова его становились еще убедительнее. В батальоне вспоминали случаи, когда Кедров проявил свою каменную выдержку. Как-то командир батальона несправедливо распекал его за то, что он не обеспечил роту горячей пищей. Кедров тихо возразил: походную кухню в пути разбила мина, а люди часом позже уже были накормлены. Но комбат продолжал отчитывать старшину, ехидно намекая на его возраст: надо было, мол, на печке сидеть, а не на войну идти. Кедров тяжело дышал и молчал. Только могучие железные руки его за спиной свертывали в трубку, как бумагу, подвернувшуюся алюминиевую тарелку. Комбат, наконец, сделал замечание старшине: зачем тот держит руки за спиной, перестал браниться, выслушал Кедрова и, убедившись, что тот не виноват, удивился: «Почему ж ты молчал и мял эту дурацкую тарелку?» Кедров усмехнулся: «Виноват. Стало быть, у меня выдержки не хватило, раз тарелку мял. Шут ее поднес!»
В боях под городом Красный Стан, когда командир штурмовой группы выбыл из строя, старшина принял на себя командование. Семнадцать контратак противника отбила группа Кедрова. И когда противник уже был достаточно измотан, Кедров повел солдат в атаку:
– За мной, сынки, вперед!
Группа выбила гитлеровцев из укрепленного пункта и погнала дальше.
Кедров смеялся редко, но, когда смеялся, вытирая по-детски кулаками глаза, все его широкоскулое усатое лицо расплывалось и делалось таким добродушным, что у всех теплее становилось на сердце.
А командир взвода Дубин в трудных случаях суетился, кричал на подчиненных, бранился. Его боялись, но не уважали. Как-то Кедров смотрел, смотрел, как этот безусый лейтенант «власть свою показывает», и, не вытерпев, шутя заметил:
– Плохой хозяин и хорошую лошадь задергает, норовистой сделает. А людьми управлять куда трудней! Спокойней держись.
Дубин и на него накричал:
– Кажется, я по званию старше, и нечего мне указывать!
Матросову нравилась твердость характера и выдержка Афанасьева, Артюхова и Кедрова.
Здесь трудно было не только новичкам из пополнения, но и опытным фронтовикам. Закаленный вояка старик Кедров как-то пошутил:
– Думали, в Земцы на отдых пришли, а тут не легче, чем на передовой. Да ничего не поделаешь, надо.
– Не хнычь, – твердил Матросов ворчливому дружку Макееву, когда тот жаловался на трудную учебу. – Вон старые фронтовики – и те учатся воевать, а нам и подавно надо.
К полудню батальон выполнил учебную задачу. Людям разрешено было поесть. Бойцы уселись на поваленные деревья, на пни, на еловые ветки. Сухари и консервы казались необыкновенно вкусными.
Кедров начал было свой обычный осмотр: все ли у солдат в порядке – оружие, одежда, обувь?
Тут появился из-за ольшаника заместитель командира батальона по политчасти, капитан Климских, и позвал его к себе.
Матросов смотрел вслед старшине. Кедров шел сначала вразвалку, потом, приближаясь к замполиту, зашагал четким строевым шагом и в трех шагах от него вдруг остановился, одновременно стукнув валенками, и отдал честь, прямой и неподвижный, будто в землю врос. «Вот это выправка», – восхитился Матросов; он слышал, как замполит говорил парторгу Кедрову:
– Меня вызывает комбат, а ты сейчас проведи политзанятия. Партийцев и комсомольцев расставил по взводам и отделениям?
– Так точно, товарищ капитан.
– Надо выделить агитаторов из пополнения. – Он стряхнул с полушубка снег, упавший с еловой ветки. – Большевистским словом, Кедров, надо закалить сердце каждого солдата. Особо займись с бойцами из пополнения.
Кедров почтительно слушал замполита, глядя, как подергивается его лицо: Климских еще не избавился от последствий контузии.
Замполит ушел, а Кедров вынул книгу из своей полевой сумки, набитой уставами, брошюрами, деловыми бумагами, и, прислонясь к стволу сосны, стал листать ее.
Да, трудновато старику. Он и парторг роты, и старшина. Нелегка упряжка, – будто гору везешь. У него всегда тысячи дел. Никто не видит его спящим: он раньше всех поднимается иг позже всех ложится. Это его повседневная забота, чтобы солдаты его роты были вовремя и хорошо накормлены, аккуратно одеты. И надо следить за тем, как изучают бойцы воинские уставы, как содержат оружие и боевую технику. Да и политинформации, беседы, политзанятия проводить надо. Обеспечить солдат всем необходимым во время занятий по боевой и политической подготовке; боеприпасами – в бою, ниткой и иголкой – в быту – тоже его забота. Старшина – первая опора командира.
Бывалый, умелый воин, Кедров обучал солдат искусству штыкового рукопашного боя, того искрометного неукротимого боя, какого не выдерживал еще ни один враг. А в трудную минуту находил он нужное слово, чтоб утешить солдата, подбодрить, поднять его дух. Требуя от солдат молодцеватого, бодрого вида, неутомимый старшина разучивал с ними новые строевые песни. И роту его еще издали узнавали по чеканному строевому шагу, по удалой песне.
Порой старик так уставал, что все тело его болело. Но разве он имел право кому-нибудь пожаловаться на свою усталость? Он ведь сам учил коммунистов всегда и везде служить примером. Слово его не могло расходиться с делом.
«Вот бы мне его силу и выдержку, – думал Матросов. – А я перед ним слабый, как чижик перед орлом. Надо подтянуться, чтоб не ударить лицом в грязь».
И когда Кедров сел перед бойцами на пень и стал по-хозяйски раскладывать на коленях брошюры, блокноты, Матросов нетерпеливо ждал, что скажет старшина, спросит ли его, и о чем.
По обыкновению начал старшина с будничных дел.
– Прямо сказать, выучка еще слаба у нас, товарищи. Подкачали на тактических Антощенко и Макеев, Тебе, Антощенко, надо было бы продвигаться то короткими перебежками, то ползти по-пластунски. А ты как полз? Трудненько с непривычки?
Антощенко хмуро молчал, глядя в землю.
Макеев не вытерпел, пожаловался:
– Измотались мы, товарищ старшина. Спим на ходу. То по шею в сугробах карабкаемся, то брюхо по болоту волочим. Лучше б уж в бой скорей.
– У тебя, вижу, много амбиции, да мало амуниции, – безобидно усмехнулся старшина. – Хорош будешь неучем в бою. Любая жаба тебя забодает.
Старшина окинул взглядом солдат, подкрутил усы, сдвинул на затылок ушанку:
– Да, слов нет, трудновато, а от неуменья и непривычки – и подавно. Да ничего не поделаешь, надо учиться воевать. Верно говорил Суворов: «Трудно на ученье – легко в бою». Необученный солдат в бою, как овца, шарахается, погибает зря. А смелый да умелый – побеждает. К примеру, в приказе номер триста сорок пять прямо говорится: «Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти». Но что для этого надо делать? Кто скажет?
Он посмотрел на поднятые руки бойцов, кивнул Антощенко:
– А ну, скажи ты.
Антощенко встал, растерянно посмотрел на бойцов, но тут же овладел собой.
– Поперше всего надо всеми силами изматывать врага, – с жаром заговорил он и, палимый чувством ненависти, стал рубить кулаком в такт словам. – Истреблять его живую силу, сничтожать его технику. Словом, як я понимаю: дубасить гада так, щоб с него шкура клочьями летела.
Когда пришла очередь говорить Матросову, он выпрямился и хотел ответить четко и точно. Приказ номер триста сорок пять он знал хорошо.
– От упорства и стойкости советских воинов, от их воинского умения и готовности выполнить свой долг перед Отчизной зависит разгром врага, – начал он, но тут заметил, что замполит Климских, остановившись поодаль, слушает его, и смутился. Мысли полетели вскачь, смешались, и он умолк. Сколько раз он внушал себе: не теряться, когда говорит на людях, владеть собой – и опять сорвался.
Матросов еще больше встревожился и был озадачен, когда после политзанятия замполит приказал ему:
– Вечером зайди ко мне в землянку.
– Слушаюсь! – ответил Матросов, с волнением думая: «Зачем зовет? Наверно, будет взбучка»…
Глава VIII
«ДОБРУ МОЛОДЦУ – РОСТ И СИЛА»
 этот день до вечера занимались тактической и стрелковой подготовкой. Бойцы преодолевали в лесисто-болотистой местности укрепления, подобные вражеским, штурмовали дзоты, учились мастерству маневра. Стремительно обходили, охватывали «противника», барахтаясь в сугробах, атаковали его. Или в лесных зарослях расчищали проходы, окапывались в снегу или мерзлом грунте.
этот день до вечера занимались тактической и стрелковой подготовкой. Бойцы преодолевали в лесисто-болотистой местности укрепления, подобные вражеским, штурмовали дзоты, учились мастерству маневра. Стремительно обходили, охватывали «противника», барахтаясь в сугробах, атаковали его. Или в лесных зарослях расчищали проходы, окапывались в снегу или мерзлом грунте.
Возвращались в лагерь уже в сумерки. Но и этот обратный путь комбат Афанасьев и комроты Артюхов решили пройти с пользой – проверить, научились ли автоматчики ходить ночью по азимуту. Каждая группа имела свой маршрут движения по азимуту. Нелегкое дело – продвигаться по темному лесу без видимых ориентиров. Только стрелка и визир компаса заостренными светлячками указывали путь.
Дружки Матросова вернулись в землянку, когда уже стемнело, и забеспокоились: Саши среди них не было. Не заблудился ли он в лесу? Только Макеев, завидуя Матросову, пробурчал:
– Не пропадет он. Видел я его в лагере.
Автоматчики успокоились. Окоченевшие за день, усталые и обрадованные; что вернулись опять в землянку, они дали отпотеть оружию, почистили его и сразу притихли, укладываясь на нарах.
Воронов пошутил было, потирая руки:
– Тепло, не дует и уютнее, чем в хоромах.
Но Макеев злобно оборвал его:
– Язык твой, что овечий хвост, треплется. Не до шуток.
– Жаль, нет Сашки, – вздохнул Костылев, – он отбрил бы тебя… И как это в жизни бывает? С иным человеком веселей живется и легче дышится, а иной так тоской уморит.
Все нахмурились, умолкли.
А Матросов шел к землянке замполита Климских, тревожно гадая, зачем его сюда позвали.
Замполит, парторг Кедров и комсорг Брагин уже сидели в землянке и говорили о нем.
– Парнишка прелюбопытный! – рассуждал Кедров. – Со смешком эдак обо всем допытывается – почему да отчего. Поначалу даже удивлял меня: экий, думаю, почемучка! А среди солдат – одному подмигнет, над другим подшутит, а иному поможет в чем. Эк, думаю, неугомонный мальчишка. А бойцы льнут к нему, как пчелы на цветок. Нравится он им.
– Льнут, как пчелы? – засмеялся Климских. – Это хорошо!
– В чем тут, думаю, штука? Пригляделся к нему ближе. А он – веселый, ну просто удержу нет. Смех будто распирает его. А веселых любят люди. И спрашивает про все: про людей, про птицу и зверя, и запоем читает, потому – жадный до всего; интерес ко всему имеет серьезный.
– Жадный к знанию – это хорошо.
– Известно, умелый и веселый человек – самый богатый. И на службе Матросов аккуратен.
– Годится, – решил замполит.
Когда Матросов вошел в землянку, замполит сказал, кивнув на собеседников:
– Мы тут говорили о тебе, Матросов. Ты много читаешь, но читаешь только для себя. А ты вот разъясняй бойцам, выясни кто чем интересуется, а мы тебе поможем.
– Как это? – встревожился Матросов. – Вроде агитатора?
– Чего испугался? – отечески улыбнулся Кедров. – Подтянешься, то и сможешь. Птице – простор для полета, а добру молодцу – рост и сила.
– Так у нас же много бойцов грамотнее меня.
– И тем найдется дело.
– Да я не знаю, как и говорить с людьми…
– А говори так же просто, как и с нами говоришь, – посоветовал капитан. – Только побольше бери из жизни хороших примеров. Да ты не сомневайся; если трудно будет, мы тебе поможем.
«Уговаривают меня, как мальчишку безусого», – подумал Матросов и для пущей солидности басовито кашлянул. Опустив голову, задумался: все-таки страшновато браться за совсем незнакомое дело. Не осрамиться бы перед товарищами. Но Александру было приятно сознавать, что доверяют ему и парторг, и замполит, и комсорг. Он впервые испытал это в колонии, когда выбирали его классным организатором. Когда тебе доверяют, чувствуешь себя сильнее и хочется быть лучше, чем ты есть.
Задержав Матросова у выхода, Брагин предложил ему выступить на комсомольском собрании. К этому тоже надо подготовиться.
Возвращался от замполита Матросов веселый, возбужденный.
Вот он, откинув обледенелую палатку, заменявшую дверь, влетел в землянку, и вьюга ворвалась вслед за ним. Язычок коптилки затрепетал и чуть не погас. Матросов стряхнул с одежды снег, потер у печурки озябшие руки, оглянулся по сторонам и удивился: спать еще рано, а тут унылая тишина. Только ворчит Макеев, натягивая на голову шинель: «Ходят и холоду напускают!»
– Почему тихо? – не вытерпел Матросов. – Братки, что приуныли? Орлы вы или мухи? До отбоя ведь еще далеко.
– Да и я про то говорю, – приподнялся Воронов.
– Так что же, по-твоему, нам кадриль танцевать? – злобно проворчал Макеев. – Все тело занемело.
– Тезка, – встряхнул его за плечи Матросов, – что ты мне закатил тоску-кручину? Мне петь хочется. Даже отдыхать нельзя с таким кислым настроением, как у тебя. Ты микробом скуки уже всех заразил. Ты рассадник инфекции, – понял? Так и Вале нашей скажу.
Макеев хмуро съежился:
– Чего липнешь ко мне? Мы ж поссорились.
– Ой, да я и забыл, что между нами прерваны дипломатические отношения! – рассмеялся Матросов. – Ну ладно, ладно, Макеша, – тормошил его за плечо Александр. – Развеселись. Скучать солдату не положено, – а?
Макеев примирительно ухмыльнулся:
– Да я что ж? Кабы не уморился…
Но Матросов уже тащил за ногу лежащего на нарах Костылева.
– Паша, бери баян, играй. Ну, уважь, друг!
Матросов, как и все, устал за эти дни, похудел; резче обозначились у него в межбровье две складки, потемнел пушок на верхней губе, лицо обветрилось. Он возмужал, повзрослел. Но по-прежнему он весел, шутит, и, хотя старается быть степенным, порой прорывается у него мальчишеская резвость. И теперь, задорно тряхнув головой и блеснув глазами, Александр сказал Костылеву:
– Играй «Калинку», Паша!
Костылев заиграл на баяне, Матросов запел «Калинку-малинку» и пошел по кругу, подрагивая плечами и хлопая в ладоши. Вот подтянул Воронов; не вытерпев, запел и Антощенко. Всем стало весело, даже Макеев ухмыльнулся.
Эта землянка была самая веселая. Сюда вечерами собирались любители попеть, поговорить. Пришли и в этот вечер «душа коллектива» Брагин, сандружинница Валя Щепица и старшина Кедров.
Валя, как всегда, пришла «по делу». Стряхнув снег с золотистых кудряшек, еще у входа строго спросила:
– Инфекции, натертости, заболевания есть?
Все хором ответили: «Есть» – и пригласили девушку к печке погреться. Только Антощенко поерзал на месте, – видно, всерьез хотел пожаловаться Вале на что-то, но, оглянувшись по сторонам, смолчал.
– Да у вас тут точно клуб, – снисходительно улыбнулась она, и пухлые щеки ее зарумянились.
Солдаты заулыбались, подвинулись, чтобы освободить ей место.
Костылев, покраснев, отчаянно тряхнул чубом, залихватски пробежал ловкими пальцами по клавишам баяна и с готовностью спросил:
– Какую, Валя, играть? Не стесняйся, говори, буду хоть до утра.
– «Под горой росли цветочки» – знаете?
Все с огорчением сознались, что не знают. Костылев смущенно опустил глаза.
– Ну, вот эту. – И запела свою любимую:
Проводила я миленка,
Он ушел фашистов бить.
Я прощалась – обещалась
Одного его любить.
– До чего ж хорошая песня! – воскликнул Матросов, вспомнив Лину. – «Одного его любить»… – повторил он. – Еще, Валюта.
– Еще, еще пой, – просили ее и другие солдаты.
Валя с волнением продолжала; ей уже подтягивали:
Проводила я миленка,
Он уехал, дорогой.
Помахал он мне платочком,
Я одна пошла домой.
На минуту она задумалась, вспоминая далекую свою Кочубеевку на Полтавщине и прощанье с чернобровым Иванком. И опять тихонько запела о вишневом садочке, где соловейко на заре поет.
Стали разучивать эту песню. Лица солдат посветлели. Песня будит воспоминания о доме, о том, что было лучшим в жизни.
Вошел Кедров, прислушался, расправляя заиндевевшие усы. Он предложил спеть давние революционные песни и начал хрипловатым баском про колодников, про звон кандальный и путь сибирский дальний, по которому товарища на каторгу ведут.
Когда песня кончилась, Матросов и Брагин попросили старшину еще спеть.
Но старшина, взволнованный воспоминаниями и тем, что его песня всем понравилась, молодо встал и решительно сказал с порога:
– Спать, спать! Солдатская ночь – птичья!
Уходит и Валя.
Матросов спохватился: ему обязательно сегодня же надо прочесть брошюру, – чего доброго, оскандалишься перед замполитом. Он сел у столика на снарядный ящик.
Макеев посмотрел через его плечо на разложенные перед ним брошюры.
– Вот чем ты занимаешься!
– А как же, Макета? – пошутил Матросов. – Я уже тертый, что твой луженый солдатский котелок.
Все улеглись спать, а он склоняется у коптилки над блокнотом, на открытой странице которого уже записано:
«Я верю в бессмертие честных людей».
Горький, «Мать».
В народе тот не умирает,
Кто за отечество умрет.
Г. Державин
Он задумался и, вспомнив, поспешно записал услышанные от Брагина слова Маяковского:
Быть коммунистом – значит
Дерзать, думать, хотеть, сметь.
Матросов раскрыл брошюру и приготовился читать, но к нему подсел Антощенко и таинственно зашептал:
– Сашко, не серчай, посоветуй мне… Видишь ты, какая закорючка. Я на тактике тебе не сказал, а теперь и сам не знаю, как быть. Кожу на ноге дюже содрал я, когда преодолевали заграждения. А сандружиннице сказать боюсь, – в санбат отправит. А время, сам знаешь, какое: часть в бой пошлют, а меня – в тыл царапину лечить.
– Покажи.
Антощенко нехотя показал: нога ниже колена распорота колючей проволокой, штанина и портянка окровавлены.
– Чудак, надо Вале сказать. Пусть скорее перевяжет.
– Я ж и говорю тебе: не хочу, боюсь. Попаду в санбат – хлопцев потеряю.
Матросов сам перевязал ногу Петра.
– Ты никому ж не говори про это, – попросил Антощенко. – Будь другом, не говори. Обещаю: как на цуцыке, заживет. И на занятиях не отстану, роту не посрамлю.
Успокоенный другом, Антощенко засыпает, а Матросов, сдвинув брови, опять погружается в чтение.
Лицо его сурово, и он выглядит старше своих лет. Он не замечает, как, накинув шинель, подсаживается к нему Михась Белевич.
– Не спится что-то, – шепчет он. – У меня, видишь, дело такое, что при людях не хочется говорить – настроение им портить. А тебе все-таки ж скажу. На Полесье семья моя у фашистов – отец, мать и жена с ребенком. А може, и нет уже никого живого. Замучили… Вот я и думаю: а что, як бы написать так: «Москва, Беларусь, Калинковичи» – и дальше по порядку. Дойдет письмо? – И замер насторожась.
Матросов смущен: такой рослый, плечистый человек советуется с ним, безусым пареньком. Он хмурится, думает и уверенно говорит:
– Думаю, через Москву куда хочешь дойдет. Ведь наши партизаны везде есть. Из Москвы летчики свезут к партизанам, а те доставят…
– Ой, – облегченно вздыхает Белевич, – як бы так и сбылось! Все-таки ж ты молодец! Ну, напиши адрес. У тебя почерк ясный.
Вскоре уснул и Белевич, уснул с отрадной надеждой, что Москва во всяком деле поможет.
Матросов опять склоняется над брошюрой и блокнотом. Тихо. Только слышно, как шумит лес. И Матросову не тягостно, а приятно думать: все-все в землянке спят, а он готовится, чтоб лучше выполнить доверенное ему дело.