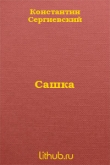Текст книги "Александр Матросов (Повесть)"
Автор книги: Павел Журба
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Глава XII
БЕЖЕНЦЫ
 атросов быстро встал и пошел в лес, откуда слышался детский плач. За густым ольшаником, поодаль на поляне, он увидел женщину с детьми. Закутанная в тряпье, она сидела на груде битого кирпича у черной закопченной трубы, оставшейся от сгоревшей избы. Трудно было определить ее возраст: она была так худа, что скулы, обтянутые сине-желтой кожей, торчали, как у скелета. Прижимая ребенка, она совала в его рот искусанную, тощую, как тряпица, грудь. Изможденная девочка жалась к колену матери.
атросов быстро встал и пошел в лес, откуда слышался детский плач. За густым ольшаником, поодаль на поляне, он увидел женщину с детьми. Закутанная в тряпье, она сидела на груде битого кирпича у черной закопченной трубы, оставшейся от сгоревшей избы. Трудно было определить ее возраст: она была так худа, что скулы, обтянутые сине-желтой кожей, торчали, как у скелета. Прижимая ребенка, она совала в его рот искусанную, тощую, как тряпица, грудь. Изможденная девочка жалась к колену матери.
– Здравствуйте, мамаша, – сказал Матросов. Женщина подняла на него суровые синие глаза и хрипло ответила:
– Здравствуй, сынок… Хлебца дай…
Ей, видно, трудно было говорить.
Пообещав быстро вернуться, Александр побежал за вещевым мешком и скоро возвратился, вынул из мешка завернутый в газету кусок хлеба и протянул женщине. Она приняла его дрожащей рукой. Девочка сразу же схватилась за руку матери, жадно глядя на хлеб.

– Вот еще сахар, – подал Матросов сверток. В мешке рука его нащупала банку консервов. Он быстро вскрыл ее большим ножом и протянул женщине. Жуя и глотая, она говорила медленно и деловито:
– С дитем бедую. Молоко в груди присохло. Да теперь мы дома, – кивнула она на пепелище. – Это наша деревня Замошье, – слыхал? А мы от немца, видишь, сегодня пришли сюда.
Матросов разглядел засыпанное снежком пожарище. На месте прежней деревни торчали из развалин черные трубы, обгорелые деревья, валялись обломки домашней утвари.
Подошел Дарбадаев.
– Ты что тут, Матросов?
– Да вот, видишь, мамаша домой вернулась и бедует.
Хромая, подошел Петр Антощенко.
– Теперь бы мужа дождаться, – говорила женщина. – Только не отпустят – замучают, проклятые… Спалили деревню и погнали нас в Германию, когда уже наши подходили. У меня, видите, эти маленькие. Как идти? Ихний обер-унтер долговязый прикладом по спине меня бьет. Потом наши пушки начали стрелять. Унтер, видно с испугу, погнал нас еще скорее. Я упала, он оттолкнул меня сапогом в канаву, стрельнул, да мимо. Троша, мой муж, схватил его за руку, а долговязый ударил его автоматом по голове, пригрозился застрелить и погнал, погнал… Может, вы, родненькие наши, догоните их и освободите наших, а?
Матросов пристально смотрит на женщину. Она сует жеванку в ищущий рот ребенка и, радуясь, что вернулась домой, к своим, говорит охотно. Кивнув на молодой сосновый борок, раскинувшийся по холму, поясняет:
– В песке там зарыто девятнадцать душ из нашей деревни. Отказались идти в Германию. Поначалу гитлеровцы из зондеркоманды СС в черной одеже, с вышитыми накрест человечьими костями и черепом, согнали старого и малого со всего села. Как лошадей на торгу, стали отбирать тех, кто поздоровее. А когда отобрали, объявили, что поедут в Германию. Тут люди закричали, бабы и детишки заголосили. Опять все смешались в одну толпу, разбегаться стали. Эсэсовцы разозлились, схватили кого попало. Старшим проволокой руки скрутили и погнали, детишки побежали за родителями, так их всех и расстреляли. Перед смертью иных долго мучили, выпытывали, где партизаны…
И она говорит о замученных, повешенных, заживо закопанных или на кострах сожженных односельчанах и людях окрестных деревень, называя мучеников по именам.
– Смерть люди принимали, а не сдавались. Мы вас так ждали. Так ждали!.. Прошлой зимой ходила тут по деревням девушка-провозвестница…
– Какая провозвестница? – насторожился Матросов.
– Так у нас прозвали комсомолку Лизу Чайкину.
– И здесь она была? – взволновался Матросов. – Вы ее видели?
– Да как же! Мы же Лизу прятали, когда фашисты ее искали и много денег за нее обещали.
– Что же она говорила? Что?
– Она всю правду говорила народу. Не покоряйтесь, говорит, врагу. Бейте, как можете. Скоро наши придут, скоро победа. И люди шли в партизаны. Только с малыми детишками оставались. Фашисты лютовали и дотла сжигали целые деревни. Люди терпели, верили, ждали. А когда эсэсовцы мучили ее, чтоб сказала про партизан и про Красную Армию, она им только и ответила: «На свете нету таких мук, каких не стерпит советский человек, а совесть свою не продаст!» А потом уже, голубка, молчала, как ни мучили ее. Только когда на расстрел привели и, чтоб запугать ее, стали так стрелять, что пули над самой головой в стенку били, Лизонька крикнула, голубка: «Да здравствует Сталин!» Тут фашисты не стерпели и выстрелили ей прямо в сердце.
Матросов, закусив губу, молчал. Потом тихо спросил:
– Еще что про нее знаете?
– А еще люди про нее такое сказывали, – вздохнула женщина. – Когда девочкой вступала в комсомол, сказала матери: «Для народа жить хочу». И такой будто был матери сон: стали советоваться между собой небо, земля, солнце и самый умный на свете человек – Ленин, как наградить девочку за ее любовь к людям. Небо и говорит: «Я ей дам синие-синие и глубокие глаза, такие же, как я». А земля говорит: «Урожаем жив человек. Я дарю ей волосы золотые, как венок из спелых колосьев». А солнце говорит: «Я согрею сердце ее так, что оно никогда не остынет». Тогда сказал Ленин: «А я такой правдой закалю ее сердце, что никогда и никто на свете не испугает его». Она, видишь, такая и была: и глаза синие, и волосы золотые, и сердце горячее, и бесстрашная..
На поляну из-за кустов вышли беженцы. Исхудалые и оборванные, они шли, еле передвигая ноги, опираясь на палки и держась друг за друга. От группы отделилась старуха, раскинула руки, упала лицом вниз, обнимая землю, заголосила.
– Ишь, убивается Макариха, – говорит женщина. – Сына-партизана фашисты замучили. Глаза выкололи, звезду на груди вырезали… А мужа, Макара, повесили; одна осталась. А жили хорошо до войны. На агронома сына выучили.
– Ото ж и по всей Украине такое, – вздохнул Антощенко. – Порубал и спалил ворог наши сады и хаты.
Он вынул из вещевого мешка хлеб и тоже отдал женщине.
Она слабо улыбнулась:
– Спасибо.
– А як же вы, мамаша, тут жить будете?
– Дойти б до района. Власть не оставит, поможет.
Дарбадаев, развязывая мешок, пошел к другой толпе беженцев.
Матросов, сдвинув брови, не сводя глаз, смотрит на женщину, на багровый кровоподтек под ее правым глазом и думает о Лизе Чайкиной, о тысячах и тысячах советских людей, замученных фашистами в городах и селах. Много он читал и слышал о фашистах; теперь он сам видит их черные дела.
Послышалась команда:
– Вста-ать! Подъем!
Матросов, Антощенко и Дарбадаев поспешили к колонне.
Теперь колонна, сокращая путь, движется по узкой просеке. И бойцы идут гуськом, держась протоптанной тропы, чтобы не увязнуть в глубоком снегу.
Матросов задумчив, неразговорчив: «Как же эти люди до лета проживут?»
Молчит он долго, наконец говорит друзьям:
– По той земле идем, по какой Лиза Чайкина ходила. – И, помолчав, тихо, будто про себя, замечает: – Много, много у нас таких… Антошка, – слышь? Вот вспомнилось. Когда-то я записал в своем блокноте такие слова, чьи, – не помню: «У большевика нет более высокой и благородной цели, как служение народу и борьба за его счастье. И только вместе с народом можно быть по-настоящему счастливым…» Ох, какая это правда! К примеру сказать, нельзя быть веселым и счастливым, глядя на беженцев. Согласен?
– Та вже ж правда. И дидуся все говорил: кто хочет жить против народа чи за счет народа, тот должен погибнуть. Только чего ты, Сашко, все мудруешь? Нельзя ж одному все горе людское пережить.
Матросов вздохнул и, не ответив, спросил:
– Антошка, черт, что у тебя с ногой? Еще больше ковыляешь.
– Та мовчи, не спрашивай. Пустяки! – И шепотом сказал: – Так больно, точно на нож ступаю. Только никому не говори, а то Валя дознается, – беда будет.
– Вот и пусть Валя перевяжет!
– Эге, «перевяжет»! Валю ж я и боюсь больше тигра. Причепится и в санбат отправит. Тогда що? Хлопцев потеряю.
На следующем привале Матросов сел в сторонке, прислонясь к сосне и съежившись, как воробей. Друзья сразу заметили: приуныл неугомонный весельчак, шутник и песенник. Это было совсем не похоже на него.
– Притомился, видно, соловей, – вздохнул Воронов.
Дарбадаев накинулся на Костылева:
– Прямо скажу, это не чутко. Перед девушками гоголем ходишь, а тут навьючили вы с Антощенко свое добро на Сашку, как на верблюда. Совсем надорвался паренек.
Воронов, Антощенко и Дарбадаев подошли к Матросову.
– Устал, тезка? – сочувственно спросил Воронов.
– Да нет, не то, – поморщился Матросов. – И устал, конечно… Но думаю вот… Понимаете, хлопцы, вот закрою глаза, и чудится, будто тысячи и тысячи вот таких, как та женщина и ее девочка, что видели на привале, протягивают к нам руки и просят помочь…
– Мовчи, Сашко, и мне часто сдается, будто кричат и кличут на помощь маты моя и Леся…
– Вот, Петро, и вспоминается та сказка, что говорил дед Макар. «Почему цветет полевой мак»…
– Да-а, – вздохнул Воронов, – много таких еще ждет нас, чтоб скорее освободили!
Задумались друзья.
– Чай остынет, – сказал Дарбадаев. – Идем, Сашок, что-то не клеится у нас без тебя.
Глава XIII
КТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
 пять бушует вьюга, крутит перед глазами облака снега. Снегом завалены все дороги и тропы – ни проехать, ни пройти. Порой даже угадать трудно, где тут, в лесных дебрях, пролегала дорога.
пять бушует вьюга, крутит перед глазами облака снега. Снегом завалены все дороги и тропы – ни проехать, ни пройти. Порой даже угадать трудно, где тут, в лесных дебрях, пролегала дорога.
Уже от Торопца началось бездорожье, и грузовой транспорт бригады все больше отставал; только выносливые маленькие сибирские лошадки, надрываясь, тащили груженые повозки и розвальни. Но вот стали сдавать и они. Когда повозки и сани увязали в снегу, лохматые изнуренные лошадки, с намерзшими под брюхом сосульками, становились на дыбы, мотали кудлатыми, обындевелыми мордами и, как бешеные, рвали постромки. Иные падали и уже не вставали. Все, что нужно было, теперь несли люди.
В небе стоит почти непрерывный гул советских эскадрилий, летящих на запад. Наступление ширится. Выполнить боевой приказ спешат и пехотинцы девяносто первой бригады, преодолевая заваленные снегом болота и лесные чащобы. Длинной цепочкой идут бойцы, жмурясь от летящего в глаза снега и ногой нащупывая протоптанный след. Хрустит снег под ногами. Глухо брякают котелки, лопаты. Путь солдатский – долгий, и думы, как тропки в снегах, бесконечны. А главная дума у всех одна: как ни трудно, а приказ надо выполнить точно и в срок. Никто не должен отстать в пути.
Вечером – привал в разрушенной деревушке. Усталые люди, как пьяные, валятся на снег. Но мороз крепчает, леденит самое нутро, и на снегу долго не улежать. Согреться бы где, кипятку хлебнуть, но уцелела только одна изба, да в ней окна выбиты, печь развалена.
– Печенки будто примерзли; все болит, а есть хочется, – удивляется Антощенко, лежа на снегу около избы и грызя мерзлый хлеб. – Тай дурень же я был, хлопцы! У нас в колхозе дыни такие большие, як поросята. Разрежешь ее, и мякоть розовая, сладкая, во рту тает, як пирожное. А кавуны были какие! Пудовые, ей-богу! И чуть дотронешься ножом до него, он и треснет, а в середке як жар горит красная сахарная мякоть. Целые бочки с медом стояли, корзины с виноградом. А я ж, дурень, того не любил, а любил тарань с цибулею[20]20
Цибуля – лук.
[Закрыть] и кислый квас.
– Да замолчи! – плаксиво ворчит Макеев. – И так в животе мутит. Слышь, хохол?
– Ни, я без очков не слышу, – невозмутимо отвечает Антощенко.
– Верно, Петро, – смеется Матросов. – Рассказывай! Хорошее приятно и вспомнить.
Слушая Антощенко, Матросов вспоминает его деда. Давно он видел и слышал деда Макара, но неизгладимо живет в сердце дедова сказка.
Поеживаясь, Матросов окинул взглядом избу и обратился к друзьям:
– Братки, а что, если палатками завесить окна, печь исправить и затопить? Тут тебе будет и кипяток, жареное и пареное, а сколько народу попеременно погреется!
– Надоел прямо, – ворчит Макеев. – Тут месту рад, пальцем пошевелить больно, а он лезет с выдумками. Не до печки тут.
Матросов молча засучивает рукава и, посвистывая, идет заделывать печь. Потом Воронов, Костылев и Дарбадаев приходят ему на помощь и работают тоже молча.
Макеев смущенно косится на них, жуя мерзлый хлеб.
– Минутку быть нам тут, а вы зря возитесь.
– Минутки-то и должно хватить, – усмехается Матросов.
Вскоре в печке разгорается пламя, и в нее со всех сторон суют набитые снегом котелки, кружки, куски мерзлого хлеба. В избу до отказа набились бойцы. В самый темный угол пробрался и Макеев. Отогревшись и повеселев, люди едят разогретые консервы, пьют чай.
– У солдата домов – что кустов и холмов, а любая хата и дворца краше, – смеется Матросов, снимая с печки котелок с кипящей водой. – Держи кружку, браток! – подмигивает он Макееву.
Макеев сконфуженно бормочет:
– Мы ж лодыри, мы ж не строили дворцов.
– Ну, не ершись, тезка, наливай, грейся!
– Знаешь, Сашка, – пристально смотрит ему в глаза Макеев, – хоть ты часто и сердишься на меня, а все-таки ты друг настоящий.
Воронов язвительно заметил:
– Выходит, Макеев, твою дружбу за кружку кипятку или за табачную понюшку купить можно.
– А что? Дружбу, как и брюхо, подкармливать надо.
– Ерунда! Настоящий друг даже на смерть пойдет за друга. Как смотришь, тезка?
– Братки, да это трудно сразу, – смутился Матросов. – Помню, кто-то сказал: если ты ищешь друга без недостатков, рискуешь остаться без друзей. Это верно, по-моему. Но это не значит, что друзья – все без разбора. Для меня друг – это тот человек, которому хочется сделать что-нибудь хорошее. И я в нем вижу хорошее.
– Больно много у тебя хороших!
– Их много и есть. Да не всегда скоро в человеке разглядишь хорошее. Иногда сцепишься с человеком, обозлишься на него, а приглядишься – душевный он человек. А чем больше друзей, тем лучше, – ясно? Жить легче, в бою порука и душу отвести есть с кем.
В избу вошли взводный Кораблев и старшина Кедров. В мигающем свете горящих лучин люди, звеня кружками, пили чай, оживленно беседовали.
– Э, да у вас тут настоящий ресторан! – подмигнул Кедров.
– Богато живете, – одобрительно кивнул взводный. – А у всех ли порядок, не стер ли кто ноги?
Никто не жалуется. Антощенко опускает глаза.
– Матросов, я куницу видел, – весело говорит Кедров, срывая ледяшки с усов. – Гналась за белкой! Понимаешь, с дерева на дерево, ну, лётом летит проклятая! Насилу удержался. Ух, как хотелось подшибить ее! Еще видел, как шныряли в рябиннике и клевали подмороженную красную рябину хохлачи-свиристели. Занятные птицы…
Матросов рад приходу Кедрова.
– Товарищ старшина, садитесь поближе… У нас тепло. Чайку попейте. Табачком снабдим. Расскажите нам, как охотились в тайге.
– Некогда, Матросов, после расскажу, после.
Когда взводный и старшина ушли, усталые бойцы притихли. Лучина погасла. Кое-кто уже спал, лежа или сидя. Только в углу кряхтел Антощенко.
– Антошка, что с тобой? – спросил Матросов.
– Та ничого.
Но в голосе его что-то недоброе. Матросов пробрался к нему, допытывается, что случилось.
– Та шо говорить – сердится Антощенко. – Ну, коли пристал як репьяк, то скажи: ты мне друг, Сашко?
– Вот чудак, еще спрашивает!
– Я до кости растер ноги, на портянках кровь заскорузла, а сказать кому – боюсь, бо меня в медсанбат отошлют.
– Не солдат ты, Антошка, а дите малое.
– Побачим, хто солдат, – обиделся Антощенко. – Не кажи гоп, поки не перескочишь. Сукно трет, – понимаешь?
Матросов порылся в вещевом мешке.
– Возьми, вот мягкие портянки. Фланель.
– Оно коли б такие онучи, як дома, – кряхтит Антощенко, обертывая ногу. – У Леси холстына мягче ваты. Чуешь, Сашко?
Но Матросов уже крепко спал, неловко склонясь набок и держа сухарь в руке. Антощенко осторожно подложил под его голову вещевой мешок.
Через несколько минут, отвернув палатку, в окно заглянул Кедров и с суровой хрипотцой скомандовал:
– Встать! – и тихо, отечески добавил: – Вставай, сынки, подымайся. Дома выспимся.
Матросов зевнул, поднялся и строго потребовал:
– Давай, Антошка, твоего «сидора» я понесу.
– Ну, бери.
Антощенко, благодарный, шагал за Матросовым, не отставая.
– Ну, Сашко, и накатаемся ж на човне по Днепру и наспиваемся ж, когда отвоюемся!
Ночью вьюга стихла. Небо прояснилось. В большом оранжево-голубом круге показалась ущербленная луна. В серебристом прозрачном мареве выступили, как в сказочном уборе, облепленные снегом деревья, и низкие звезды словно повисли на их седых кронах.
Люди идут тихо. Слышен только глухой скрип снега. Иногда по рядам летит суровое предупреждение: «Не курить!», «Громко не разговаривать!»
Следующий привал был перед рассветом. Люди сразу же повалились на снег и заснули.
Матросов отдал Антощенко вещевой мешок, автомат и, вытягиваясь на снегу, спросил его, болят ли ноги.
– Та ничего. Занемели, боли не чую.
Они сразу же уснули. Матросову казалось, что спал он очень долго, когда пронизывающая все тело зябкая дрожь разбудила его. Но спал он всего несколько минут. Мороз пощипывал лицо. Матросов хотел повернуться на бок, свернуться в комок, согреться и снова уснуть, но его что-то держало: оказалось, шинель примерзла к коряге. Александр осторожно отодрал ее и встал.
«И хорошо, что проснулся, а то совсем закоченел бы».
Он с тревогой окликнул спящих на снегу людей. Не чувствуя холода во сне, они могут простудиться, заболеть, замерзнуть. Он идет от одного бойца к другому, будит их, требует повернуться на другой бок.
Некоторые спросонья недовольно ворчат.
– Вот пристал, как оса! – трясет головой Воронов. – Ни минуты покоя от тебя.
Матросов разложил маленький костер, протянул растопыренные пальцы над колеблющимся оранжевым языком пламени.
– А ну, братки, кто замерз, – грейся.
Темнота вокруг сгустилась. Из темноты выходят люди, окружают костер, греют руки, закуривают.
– Молодчина, Сашка, что разбудил, – говорит Воронов. – А то будто живот уже обледенел.
Макеев хочет встать – и не может.
– Да кто меня держит? – злится он. – Олух, не до шуток тут!
Воронов и Матросов берут его за руки и поднимают. Оказалось, и его одежда примерзла.
Суслов, отогревшись у костра, рассуждает:
– До войны, бывало, дома босиком зимой по полу походишь – и зачихал: насморк. А тут в октябре я переплывал речку – ледок уже ломался. Ну, думаю, простужусь. А побегал, градусного хлебнул – и хоть бы что!
Раскачиваясь, выходит из темноты великан Дарбадаев и хрипит простуженным басом:
– А ну, у кого табачок, угощай!
Все молчат: табачок на исходе, приберечь надо.
– На, прожора, – протягивает кисет Матросов.
– Да у тебя тут, Сашутка, всего на закурку.
– Бери, бери, я себе всегда добуду. Мне, спасибо, не отказывают.
Ему нравилось угощать других, и он делился всем, что имел. Матросову платили тем же.
Снова растянувшись в лесной чащобе и сугробах, торопливо идет колонна. Опять Матросов несет вещевой мешок Антощенко. Он сам уже устал и пошатывается. Дарбадаев берет у него вещи Петра.
– И верно, понеси, Миша, до привала. Ты ведь здоровей верблюда.
– Не говори, и я качаюсь; ноги будто не мои.
Взошло над лесом и пригрело февральское солнце, и утренний привал был особенно желанным. Под теплыми лучами так сладостно вздремнуть! Сон теперь был милее всего на свете. Даже про еду люди забыли, расправляя под солнцем ноющее тело. Матросов, лежа на спине, с удивлением увидел на ветках ракиты сизо-серебристый пушок распускающихся почек. Еще больше удивил его тончайший цветочный запах. Откуда он? Почудилось, что ли? Он принюхался: ветерок нес запах молодого тополя, что стоял шагах в двадцати. Матросов не вытерпел, встал, сломал веточку тополя, размял липкую от зеленоватого, густого, как смола, сока почку, понюхал и повеселел. Вот она, жизнь! Еще кругом белым-бело от снегов, и ночью он примерз, а почки уже наливаются соком, набухают. Значит, весна уже идет. Он прячет ветки тополя и ракиты в карман ватника, чтоб показать их Кедрову.
Улыбаясь, Матросов ложится, чтобы хоть немного подремать, но, увидев Антощенко, настораживается. Петр уединился за сосной и, воровски озираясь, снимает валенок. Матросов, вздохнув, направляется к нему. Антощенко прикрывает ногу.
– Покажи, – требует Матросов.
– Та чего тут показывать? Не театры, – сердится Антощенко и нехотя открывает окровавленную ногу. – Вот натер. Только будь другом, никому не говори.
Матросов хмурится:
– Ну, ты, Петро, прямо балда балдой. Побить тебя мало. Нет, кончу я с тобой дружить. Довольно возился. Ну, что это? Хлястик оборван. Искалечил себя – значит, неловкий, неумелый боец, не знаешь, как нужно ноги обернуть. Сам себя из строя выводишь, когда каждый боец на счету… Ну, кому все это на руку? Врагу, вот кому. А еще комсомолец! И на собрании обещал быть примерным.
Антощенко смутился. Он знает: Матросов аккуратен до щепетильности. Непорядка в его одежде еще никто не видел.
– Та не бурчи, Сашко. Мне ж и так тошно. И нога горит, и хлястик пришить не можу: пальцы задубели, иголку не держат. Хоть в петлю лезь!
Матросов сразу смягчился.
– Уже и раскис. При чем тут петля? Вот что надо…
Он вскрыл индивидуальный пакет, чтоб забинтовать Петру ногу, но увидел на икре глубокую кровоточащую рану с обсохшей по краям кровью и опустил руки.
– Врешь, Антошка! Ты не натер ногу, тут дырка.
– Ну, нехай дырка, – усмехнулся Антощенко. – Тебе веселей, що дырка? А все-таки и натер – показал он на растертую щиколотку. – Не дуйся, Сашко. Я уже тебе говорил: на тактических учениях напоролся на проволоку. Це ж оно и есть, только растер. Да никому ж не говори, а то, знаешь, какие у нас языкастые хлопцы – сразу донесут Вале, а та в санбат вернет меня.
– Ладно, плакса, – сказал Матросов.
Когда Александр прикладывал к ране вату и потуже закручивал бинтами, почувствовал братскую нежность к этому большому, скромному и беспомощному парню.
– Ты, Антошка, не сердись, что нашумел. Сам знаешь, какой я горячий, но и отходчивый. У меня в Уфе есть братишка – Тимоня. Ну, точь-в-точь вроде тебя неумелка. Ты его и обмой, ты его и обшей. А все-таки я его больше всех люблю.
Антощенко растроганно отозвался:
– Так и я ж тебя, черта, больше всех… Больше нема у меня таких, как ты. Иной, видишь, дружит, пока ему выгодно, а как друг в беде – моя хата с краю, ничего не знаю. – Хмурое лицо Петра прояснилось.
– Без дружбы, Петро, нельзя! – говорит Александр. – Не имеющий друзей – самый бедный человек. Ну, снимай шинель.
Матросов вынул из вещевого мешка узелок, где были иголки и мотки разных ниток, и стал пришивать хлястик.
– Знаешь, Антошка, Горький в повести «Мать» говорит: наступит время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет, как звезда, перед другим… То, думаю, Горький про наше время и говорил. Разве не такие Лиза Чайкина, Гастелло, Зоя Космодемьянская?
– Такие… На такое дело шли.
Огрубелые пальцы Матросова соскользнули с иголки, застрявшей в толстом сукне; он зубами вытащил иглу.
– Нет, Петрусь, нам хныкать никак нельзя!
– Ясно, нельзя.
– На нас ведь народ глядит. Вот разобьем фашистов – все люди заживут хорошо. А разобьем обязательно! Фашист – это дикарь с бронированной дубиной.
Валя Щепица, завидя их, пошла к ним напрямик, с трудом вытаскивая из нетоптаного снега большие валенки, балансируя и взмахивая руками. На боку ее, как всегда, – огромная парусиновая сумка с красным крестом, набитая медикаментами, с которой она, как с личным оружием, никогда не расстается.
Подойдя, она строго спросила Антощенко:
– Ты чего хромаешь? Натертость, что ли?
– Да нет… – нехотя ответил Петр.
– Врешь! Профилактику против инфекции проделал? Нет? Снимай валенки.

– Да нема там ничого. Смотри ж ты, глазастая какая, приметила, що я шкандыбаю[21]21
Шкандыбать – хромать.
[Закрыть]. Ничого, Валюшечко, иди ты отсюдова, иди, дивчинка.
Валя рассердилась; круглые щеки ее вспыхнули румянцем.
– Ты мне, знаешь, голову не морочь! Наживешь гангрену – возись потом с тобой. Из строя выйдешь. Армия бойца потеряет через наши любезности. Не дозволю этого. Давай перевяжу. Видела, на левую припадал. – И, не дожидаясь согласия, стащила с ноги валенок.
Оторопевший Антощенко растерянно смотрел то на Валю, то на Матросова.
– Ох жулье, ох, пройдоха! – заворчала Валя, разглядывая рану. – Так и есть. Икроножное ранение. Да какой дурак тебе еще перевязку делал не по правилам? Нет, я тебя немедленно эвакуирую в медсанбат.
– Да, Валя, не кричи ж, а то почует кто, – просит Антощенко. – Не отсылай меня в санбат, не разлучай с хлопцами…
– Даже слушать не хочу. А инструкция что гласит? Что, я из-за тебя инструкцию буду нарушать? По-комсомольски это? – Промывая и забинтовывая рану, Валя покачивает головой. – Ну и пройдохи! Ишь, сами вздумали перевязки делать. Видали? Да вы что – курсы, мединституты кончали? Да разве есть у вас риваноль, скипидар и марганцовка? То-то и оно-то! Умники! – Но голос ее становился все мягче. Наконец, заканчивая перевязку, она вздохнула: – Эх вы, хлопятки, и смех, и горе с вами!..
Тут Антощенко, улучив минуту, взмолился:
– Ну, Валечка, ну сестричка родненькая, не отрывай меня от дружков, не гони в санбат!
– Ладно, пущу тебя еще на один переход, а там посмотрим, что ты за герой. – И прямая, гордая, Валя Щепица зашагала прочь.
– Валюша, – сказал вдогонку благодарный Антощенко, – може, Пашке привет передать?
– Не люблю посредников, сама передам, – не оборачиваясь, ответила девушка. – Скажи ему, чтоб меньше ругался, а то я ему такой привет задам, – три года чихать будет.
Довольная улыбка расплылась по обветренному лицу Антощенко:
– Смотри ж ты, Сашко. Думал, она деревянная формалистка, а она душевная, ценит солдатскую дружбу.
– Ну и отчитала нас, просто чудо-девушка! – засмеялся Матросов, продолжая пришивать хлястик.
Подошел старшина Кедров, пристально поглядел на немудреную работу Матросова, расправил усы.
– Это по-моему! Солдат все должен уметь. Заплатать, зашить, из топора кашу сварить, из земли дом сделать. А дружку подсобить – так и вдвойне хорошо.
– Да это сможет всякий, товарищ старшина.
– Не скажи. Как там… Рожь и пшеница летом родится, а хороший человек всегда пригодится. В бою да в беде друзья познаются… Вот гляжу на тебя, Матросов, – артельный ты, брат, человек!
– Я хитрый, товарищ старшина, – смеется Матросов. – У меня такой расчет: чем крепче каждый в отдельности, тем сильнее мы все вместе.
Старшина вдруг прислушался, значительно взглянул на Матросова, как смотрят на ребятишек, которых хотят удивить чем-нибудь приятным, и глазами показал вверх, где дятел старательно долбил корявый сук старой сосны.
– Слышишь? Вот она, дятлова кузница. Засунул шишку в щель, рябой, и выклевывает семена. Ишь, наработал! – Кедров показал на расклеванные сосновые шишки, разбросанные по снегу. – Каждая тварь, видишь, приспосабливается, свои повадки имеет. Бывало, выйдешь в лес – и заглядишься. Тут видишь, как беляк по снегу петлял, там выдра-каналья с горки каталась, а то, глядишь, следок, будто цепочка на снегу – по две лапки все, а левая чуточку впереди, – значит, горностай или ласка прогуливалась… Ну, отдыхай, ребята, подъем скоро!
Вскоре раздалась команда продолжать путь, но изнуренные, пригретые солнцем люди, казалось, не в силах были подняться. Воронов спросонья никак не мог обмотать портянкой ногу. Макеев несколько раз привставал и снова валился, засыпая.
Кедров лежал на снегу, положив голову на низкий трухлявый пень. Все изможденное тело его болело. Старик поймал себя на мысли, что и ему страсть как хочется положить голову не на пень, а на пуховую подушку, отдохнуть и выспаться в тепле. Но, услышав команду «Встать!», он сам себе скомандовал: «Встать, встать, старина! По тебе другие равняются».
И, когда впереди колонна тронулась, он уже стоял на обочине дороги, под сосной, подтянутый, бодрый.
Матросов поглядывал на старшину. Он тоже чувствовал себя настолько уставшим, что трудно было пошевелить пальцем. Даже после команды о подъеме ему хотелось еще хоть несколько секунд полежать. Но, как только старик поднялся, Матросов тоже сразу встал.
Кедров увидел нахмуренные лица солдат и, лихо подкручивая седые усы, задорно крикнул:
– Эй, песельники-запевалы, давай песню повеселей!
– Есть песню повеселей! – отозвался Матросов и запел:
Пролетают кони да шляхом каменистым,
В стремени привстал передовой.
И поэскадронно бойцы-кавалеристы,
Подтянув поводья, вылетают в бой.
Друзья – Воронов, Антощенко, Дарбадаев и Костылев – подхватывают:
Не разбил в боях нас да
Враг в былые годы,
И дружны, как прежде, мы с клинком.
Мчится кавалерия,
И в бои-походы
Танк несется вместе с боевым конем.
Хмурь и дрема сходят с лиц бойцов. Стараясь шагать в ногу, один за другим все дружно подхватывают песню.