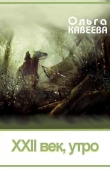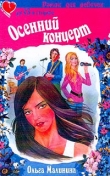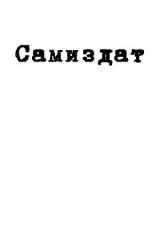
Текст книги "PRосто быть богом: ВВП (СИ)"
Автор книги: Павел Генералов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Второго выстрела Жарский уже не услышал.
Тяжелый «лендкрузер», вильнув ещё раз колёсами, соскользнул сначала передним правым, потом задним колесом с края бетонной плиты. Джип начал сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее заваливаться набок.
Развернувшись уже в воздухе тяжелым носом вперёд, машина с удивительно тихим плеском вошла в воду. Словно была этому специально обучена на своих далёких и хитрых японских заводах.
Синий шар над лесом скукожился с одного бока. И стал неторопливо опускаться за верхушки деревьев.
***
Мужчина в тёмных брюках и белой рубашке не успел нажать на кнопку переговорного устройства, как услышал щелчок открывшейся двери – его уже ждали. Он вошёл в затемнённую прохладную прихожую. Навстречу шла Ольга. В лёгких кремовых брюках на бёдрах и в короткой шёлковой маечке на узких лямках она казалась невесомой и совсем юной. Волосы Ольга заколола в пучок, из которого с продуманным изяществом выбивались легкомысленные прядки.
– Наконец–то, – вполголоса сказала она, и её тонкие руки обняли его, замкнулись на белой рубашке, блеснув перламутровым маникюром. – Как долго я ждала…
Глава третья. У всех – такая работа!Пётр VII, по паспорту Пётр Петрович Заусайлов, по понедельникам обычно работал не в собственном офисе на углу Инессы Арманд и Крестовой, а здесь, в кабинете своего деда, Петра V. Нынешний Пётр Петрович имел густую купеческую бороду, крупный нос и пронзительно детские голубые глаза, которые лишь очень наивному наблюдателю могли показаться признаком мягкости характера. И ещё он был как две капли воды похож на портрет своего ещё более далёкого пращура Петра I Заусайлова, висевший на стене.
Кабинет деда с панорамным видом на Волгу занимал целый угол в центральном зале Великоволжского краеведческого музея и являл собой образчик дореволюционного купеческого быта. Другой угол был отведён под интерьеры крестьянской избы, третий – под обстановку дворянской гостиной начала XIX века, в четвёртом были представлены предметы быта типичной рабочей семьи, опять же – времён до большевистского переворота.
За дедовским столом красного дерева, покрытым зелёным чуть шершавым сукном, Пётр Петрович вовсе не примерял на себя роль «купца 1-ой гильдии Заусайлова», а действительно занимался делом. Здесь, по понедельникам, когда музей был закрыт для посетителей, он обычно погружался в историю города и своих знаменитых предков. Рассматривал и отбирал фотографии, архивные документы, писал и редактировал свои и чужие заметки, статьи и предисловия к очередному буклету, книге или альбому, посвященному Великоволжску. Его стараниями и благодаря его же щедрому финансированию всякого рода изданий за последние годы вышло множество. За счёт их продажи в самом музее, на Соборной площади и на пристани появилась возможность значительно повысить зарплаты научным сотрудникам и смотрителям краеведческого музея. Хотелось бы думать, что за подвижнический труд и финансовые вливания в местную культуру Петра VII Заусайлова боготворили и сотрудники музея, и местные жители. Но это было не так, точнее, не совсем так.
Были, конечно, и те, кто ценил и поддерживал все его начинания – вплоть до идеи сооружения на набережной памятника Петру I Заусайлову, тому самому, на которого нынешний Заусайлов был так неправдоподобно похож. Но многим активность потомка основателя города совсем не нравилась. Особенно после того, как он выкупил в собственность городскую усадьбу Заусайловых, располагавшуюся на тихой Садовой улице неподалеку от торговых рядов и бывшего здания биржи, ныне городского рынка. При большевиках в усадебном доме функционировала районная поликлиника. И хотя взамен выкупленного дома Пётр Петрович построил новое здание, оснастив его по последнему слову медицинской техники, претензии обывателей к нему только возрастали. Тем более, что Заусайлову принадлежало более пятидесяти процентов акций местного авиационного завода – главного предприятия города. И опять же очень многие благополучно забыли, что акции эти Заусайлов приобрёл в не самые радужные времена, а когда завод «лежал» при последнем издыхании, и только самый ленивый не тащил из его цехов всё, что на тот момент ещё можно было украсть. Став хозяином завода, Заусайлов воровство жестко пресек, восстановил порушенную во многих местах ограду и нанял для охраны московскую фирму.
Чего ему всё это стоило, мало кому известно – разве что нескольким ближайшим сподвижникам. Во всяком случае, в настоящий момент завод более или менее процветал, будучи обеспеченным заказами возрождающегося отечественного авиапрома. Собственно, делал он не самолёты, а части авиационных двигателей, но зато и для новейших моделей «мигов» и «сушек», и для магистральных гражданских авиалайнеров. Кое–что производили даже на экспорт.
Статистики ради надо отметить, что на заводе Заусайлова ныне работала примерно одна десятая жителей города. Если же к работающим прибавить их родственников и домочадцев, то выходило, что Заусайлов «окормляет» чуть ли не четверть населения. Однако за это его тоже не очень–то любили. Оно и понятно – ну кто и когда любил в России капиталистов? А про Заусайлова и вообще говорили, что он–де «подгребает» под себя весь город, как когда–то сделали его предки, которые и в самом деле на протяжении столетия играли здесь самую первостепенную роль. И город многим им был обязан. Но кто ж об этом помнит? Во всяком случае – с благодарностью. Не тому учили в школе…
Впрочем, Пётр Петрович особой любви и расположения к себе не добивался, а просто делал своё дело. С пользой для себя и, как ему казалось, для общества. Вот и сейчас он внимательно рассматривал и вычитывал вёрстку новой книги, составленной стараниями местных краеведов, а именно – «Легенды и мифы Великоволжска». Основной текст предварял краткий исторический очерк. Именно в него Пётр Петрович и углубился. Читая текст с карандашом в руке, он время от времени в некоторых местах отвлекался и вспоминал какие–то события и факты, в очерк не вошедшие. Но зато имевшие непосредственное отношение к купеческому роду Заусайловых и его разнообразным представителям. Среди которых встречались и люди высокого благочестия, и большие оригиналы, если не сказать – гуляки и вольнодумцы. Но совсем уж диких вроде бы не числилось.
Зато история первого поселения при впадении Сосны в Волгу всё же отдавала некоторой дикостью. В одной из летописей за 1117 год описано было, что в здешних местах пара или тройка старорежимных волхвов пыталась бунтовать народ против местной центральной власти. Волхвов благополучно повесили и их сожрал медведь. Однако первопоселенцы развлекались не только подобным образом. Археологические раскопки, проводившиеся на городище с конца XIX века, показали, что здесь было значительное поселение, жители которого занимались рыбной ловлей, хлебопашеством, бортничеством и владели всеми необходимыми на тот момент человеческими ремёслами. Только потом первоначальный город–поселение как–то захирел и безвозвратно сгинул с географической карты. Возрождаться и хиреть, и снова возрождаться будущий Великоволжск будет в своей истории ещё не единожды.
В следующий раз он возродился к середине XVI столетия. Чуть выше по течению Волги и уже под именем Волжская слобода. Занятия жителей остались примерно теми же, что и прежде, но с некоторым перекосом к рыбной ловле. Опять же в летописи упоминалось, что налоги и подати властям местные в основном платили осетрами, стерлядями, белугами и прочей белорыбицей. Наверное, ещё и икрой. Об икре в летописи не упоминалось. Возможно, она тогда ещё не считалась особым деликатесом. Со временем икра пропала вместе с исчезнувшими рыбинами по метру и более длиной.
При Петре I, ещё не Заусайлове, а Великом, Волжская слобода пережила очередной период расцвета. Основанный царём Петербург требовал всё больше и больше продовольствия и, прежде всего, хлеба. Волжская слобода стала в это время перевалочным пунктом для хлебной торговли. С низовий Волги бурлаки тащили огромные баржи. Выше по течению эти неуклюжие речные посудины пройти уже не могли. Хлеб перегружали на более мелкие суда. На хлебном транзите Волжская слобода богатела из года в год. Пока пальму первенства в этом доходном деле у неё не перехватили более ушлые и крупные Ярославль и Кострома.
Волжская слобода, конечно, окончательно не захирела, но о прошлых сверхдоходах пришлось на время забыть. Зато в описании путешествия Екатерины Великой по Волге проявилось некое новое обстоятельство. Не то, чтобы совсем новое, но отчасти подзабытое. Когда жители слободы встречали императрицу, ей среди прочих даров преподнесли несколько туесков здешнего дикого мёда. Дегустацией мёда Екатерина осталась столь довольна, что распорядилась поставлять местный мёд к императорскому столу. Что и выполнялось с тех пор неукоснительно.
К самому концу века восемнадцатого в судьбу Волжской слободы вплелась первая нить истории рода Заусайловых. К тому времени давний предок нынешнего Петра Петровича, его изначальный тёзка, которому как раз и суждено было в будущих анналах стать местным Петром I, был ещё юн, но уже деятелен. Никакого особого капитала за ним тогда не водилось, а занимался он обычным бортничеством в окрестностях родной слободы. Но зато собранный им мёд диких пчёл исправно поступал к императорскому столу. Этот факт, как можно догадываться, сыграл не последнюю роль в истории будущего города и купеческого рода Заусайловых. Хотя для начала первому Петру Заусайлову пришлось надолго уехать из родных мест далеко, на Урал.
Именно там, недалеко от городка Миасса, на золотых приисках по реке Ташкутарганка он составил свой первоначальный капитал. Всё склонялось к тому, чтобы стать ему крупным или хотя бы средней руки уральским, а потом, глядишь, и сибирским золотопромышленником. Но судьба в очередной раз распорядилась по собственному усмотрению, подкинув ему тему для долгих и глубоких размышлений.
На одном из его приисков намыли золотой самородок весом фунтов в пять. Уже по тем временам будучи предусмотрительным, Пётр Заусайлов поставил присматривать за каждым прииском верных людей. Так что нанятые им для работы бандитского вида работяги слиток не распилили на части и не украли, а доставили прямо ему в руки.
– Да это ж – пчела! Золотая Пчела! – сказал он с тихим восторгом, взвесив на руках самородок. Тот и вправду напоминал трудолюбивое насекомое со сложенными на спине крылышками и выпуклыми крупными глазами. С лёгкой руки Заусайлова самородок получил собственное имя. Золотая Пчела. Именно так, оба слова – с прописной буквы.
Поразмышляв, Пётр всё же посчитал находку затейливого самородка знаком свыше и к следующей весне уже обосновался на родине, в Волжской слободе.
Часть капитала он всё же вложил в хлебную торговлю – пусть она сулила и не диковинные барыши, но делом испокон веку слыла надёжным. Остальное же пустил на разведение домашних пчёл. Скепсису по поводу практически промышленных масштабов предприятия было немало. Однако скептики просчитались. Пчёлы прекрасно освоили приволжские луга и рощи и мёд давали отменный. А также воск и всё прочее. Так появился первый, а за ним и второй, третий свечные заводы Заусайловых. Мёд и свечи поставляли не только в те же Ярославль с Костромой, но и в Вологду, в Москву, в сам Петербург. По инициативе Петра, уже вышедшего на первые роли в местном купеческом сообществе, туда же в Петербург отправили и прошение на Высочайшее имя – о придании Волжской слободе статуса уездного города под именем Волжск.
По одной из местных легенд далее произошло следующее. Император Александр I, получив прошение, не только подписал его, не откладывая в долгий ящик, но СОБСТВЕННОРУЧНО переименовал скромный Волжск в Великоволжск. То ли из рассказов своей великой бабки помнил что–то про это место на карте России, то ли сам не уставал за дворцовыми завтраками и полдниками наслаждаться местным мёдом, то ли просто такая Его Императорскому Величеству блажь пришла. Так или иначе, но новообразованный город на зависть соседей гордо именовался теперь Великоволжском. Со всеми вытекающими отсюда последствиями – вплоть до претензий на роль волжской столицы. Первым городским головой, кто бы сомневался, стал Пётр I Заусайлов.
Из столицы ничего не вышло, но зато здесь появилась одна из первых в Поволжье бирж, основателем которой был никто иной, как Пётр II Заусайлов. Кстати, традиция давать одному из сыновей и наследников по прямой линии имя Пётр жила в их купеческом роду неукоснительно.
Для биржи было построено петербургским архитектором Земендорфом здание, до сих пор украшающее Соборную площадь. Он же разработал генеральный план регулярной застройки города. Некоторые дворянские и купеческие особняки ещё раньше возводились при участии ставшего впоследствии знаменитым Карла Росси. Новый план аккуратно и бережно вписал в себя старую застройку, далее заставив город развиваться уже не столь хаотично, а довольно строго. Набережную Волги частью забрали в гранит и устроили вдоль неё роскошный променад, обсаженный липами. Параллельно набережной прорубили улицу Красную, завершавшуюся Соборной площадью. От Соборной лучами расходились три основных городских магистрали: Садовая, Крестовая и Большая Казанская. На средства всего общества возвели на Соборной площади взамен обветшавшего малого большой Крестовоздвиженский храм со знаменитой колокольней.
Особо оживилась торговля после прокладки вдоль южных городских окраин железной дороги. Купцы Заусайловы к этому времени заняли практически все ключевые посты в местном бизнесе. Был у них собственный банк, завод скобяных изделий, со временем превратившийся в первое на Волге предприятие по производству оборудования для сельского хозяйства: их плуги, сеялки и веялки не уступали лучшим немецким и голландским образцам. В Москве и Петербурге на рубеже веков они владели полудюжиной огромных доходных домов.
Но никогда не забывали Заусайловы про своих пчёл, продолжая дело основателя рода. Образцовое пчелиное хозяйство тоже приносило ощутимый, хотя и не главный семейный доход. Если верить ещё одной местной легенде, то последний русский император Николай II как раз перед отречением от престола в своём царском вагоне пил чай с их, заусайловским мёдом.
Золотая же Пчела, украсив собой городской герб, хранилась потом многие годы не просто как семейная, но как общегородская реликвия. И ежегодно, в день Медового Спаса выставлялась для всеобщего обозрения.
После окончательной на тот момент победы большевиков дед нынешнего Петра Петровича Заусайлова Пётр V, основатель городского музея и филантроп, под опись передал новой городской власти всё свое недвижимое и отчасти даже движимое имущество. Благодаря этому спокойно отбыл с семейством в Москву, где поселился в квартире одного из собственных доходных домов на Остоженке. Там вскоре родился отец Петра Петровича, Пётр VI Заусайлов.
Вот только Золотую Пчелу дед не сдал, а отдал на хранение настоятелю Болоховского Успенского монастыря, располагавшегося тридцатью километрами выше Великоволжска по течению Волги. И, как оказалось впоследствии, не прогадал. Монахов, правда, вскоре разогнали, но Золотую Пчелу один из них, спасавшийся в землянке в лесах, всё же сохранил вместе с некоторыми другими наиболее ценными монастырскими реликвиями. Не посчитавшись с тем, что Золотая Пчелы была, конечно же, символом вовсе не христианским, а скорее языческим.
Когда перед Великим Затоплением монах почил в бозе, его тайное убежище обнаружили пионеры. Там же, в нише под лавкой, они раскопали клад с иконами, ризами и Золотой Пчелой.
Золотая Пчела вместе с прочими ценностями была передана в Госхран, где благополучно пролежала в специальном футляре до самого конца XX века.
Большой род Заусайловых в том самом веке постигли общие по тем временам беды и радости. Кто–то оказался в относительно благополучной эмиграции, другие сгинули на Колыме, третьи погибли на войне, но многие выжили и стали вполне обычными советскими гражданами. Так случилось с той семейной ветвью, представителем которой был нынешний Пётр Петрович.
Петя закончил МАИ и довольно долгое время работал в одном из авиационных «почтовых ящиков». Но потом грянула перестройка, за ней – всё прочее. Петя Заусайлов в числе первых занялся бизнесом и в нём вполне преуспел. Видно, опыт предыдущих купеческих поколений всё же не прошёл даром.
Заработав порядочно денег, он начал скупать акции Великоволжского авиационного завода. Кстати, основанного в свое время как раз на базе завода Заусайловых, производившего те самые сеялки и веялки. Заусайлов решил вернуться на родину предков всерьёз и навсегда. При поддержке жителей он смог добиться возвращения городу из Госхрана исторического символа и святыни – Золотой Пчелы. Возродилась и традиция выставления её на всеобщее обозрение в день Медового Спаса. А Медовый Спас как–то сам собою превратился в ежегодно отмечаемый День Города.
С местными властями отношения у Петра Зауса йлова складывались более или менее ровно. Но после нескольких серьёзных конфликтов с прокоммунистическим Городским советом он понял, что ему следует принять более активное участие в селекции претендентов на начальственные кресла. Во всяком случае, нынешний мэр Жарский был уже во многом его личной креатурой. Правда, не потому, что среди кандидатов оказался лучшим, просто выбирать было особо не из кого. У остальных обнаружились ещё большие проблемы с адекватностью.
С Жарским они вполне ладили. До поры до времени. Пока того не переклинило. На почве всё той же Золотой Пчелы. Втайне ото всех Жарский свозил самородок в Москву, где продемонстрировал его представителям аукциона Сотбис. Те назвали ему такую стартовую цену, что у Жарского засосало под ложечкой. А заодно и во всех остальных самых интимных местах.
И вот теперь, вместе с новыми выборами мэра он грозился провести общегородской референдум на тему: продавать или не продавать Пчелу западным супостатам?
На все доводы Заусайлова он с маниакальным упорством отвечал одно и то же:
– Когда народ, Пётр Петрович, поймёт, что вместо этой золотой хрени он получит новый, с иголочки городской стадион и много ещё чего, ему, народу, плевать будет с высокой нашей колокольни на все эти ваши последние реликвии!
Кроме этого своего вновь приобретённого маниакального упорства Жарский отличался патологической ненавистью к пчёлам. В детстве те покусали его едва ли не до смерти. Беднягу можно было понять…
В дверь зала негромко, но резко и настойчиво постучали.
– Войдите! – отозвался Заусайлов, поднимая глаза от своих бумаг.
Дверь открылась, и на пороге показалась дежурная научная сотрудница Вера Павловна. На ней почти совсем не было лица.
– Жарский исчез, Пётр Петрович! – выдохнула она прямо с порога.
– Да ну?! – проговорил Заусайлов, вздымая брови. Его голубые детские глаза чуть близоруко и недоверчиво улыбались.
***
После шести часов работы водолазы МЧС трупа так и не обнаружили.
– Если его снесло до перекатов, то – поминай как звали! – выходя на берег и стягивая с лица маску, уверенно заявил эмчеэсник. – Там – течение, поток. И прямо в Волгу. Может, у Костромы выплывет! – с профессиональным цинизмом подытожил он, но, столкнувшись с возмущённо–суровым взглядом следователя, замолчал и окончательно выбрался на берег. За ним из глубин вод вскоре подтянулись остальные его коллеги.
Теперь со спокойной совестью можно было приступать к спасению «лендкрузера», уголок малиновой крыши которого торчал посреди реки. Прежде его опасались трогать, всё еще надеясь обнаружить труп в непосредственной близости от затонувшей машины.
Подполковник Семёнов, огладив несуществующую бороду, посмотрел на следователя. Тот кивнул.
– Давай! – обернувшись, крикнул Семёнов и призывно взмахнул рукой.
Боевая машина десанта была вызвана из соседней войсковой части. Свирепо взвыв и срывая гусеницами прибрежный дёрн, БМД медленно подползла ближе к реке. Закрутилась лебёдка, освобождая стальной трос с крюком на конце. Двое водолазов, взявшись за крюк, вместе с тросом скрылись в глубине. Через несколько минут водолазы вынырнули. Один из них поднял вверх обе руки: всё в порядке.
Водитель БМД запустил лебёдку в обратном направлении. Трос вскоре напрягся. Буквально несколько секунд он напоминал собой натянутую струну. А потом как–то вмиг ослаб и неожиданно легко начал извлекать из вод Сосны затонувший джип. Тот сначала совсем скрылся под водой, но вскоре показался его малиновый мощный зад. Ещё в реке машина встала на все четыре колеса и очень скоро выехала на берег, хотя и задним ходом и чуть юзом. Словно пообжилась она уже там в реке и теперь не могла решить – так ли уж ей хочется обратно, на грешную землю. Из открытых передних окон выплескивалась вода.
Когда поблёскивающий свежевымытый джип оказался на ровном месте берега, крюк лебёдки отцепили.
Внешне машина почти никак не пострадала. Только оказалась разбитой правая передняя фара, да колёса были опутаны зелёными водорослями. Видно, колёса ещё какое–то время крутились под водой, пока двигатель окончательно не заглох. Из сгустка водорослей вокруг левого заднего колеса на землю шмякнулся крупный серо–зелёный рак. На него никто не обратил внимания, и он потихоньку пополз себе в сторону родной стихии.
С небольшого пригорка, от самой границы оцепленного широкой красно–белой лентой участка за происходящим наблюдала Ольга Ильинична Жарская. Её бледное лицо казалось непроницаемо холодным. Ольга Ильинична была в довольно длинном чёрном платье в мелкий белый горошек, в чёрных же босоножках на невысокой танкетке и в широкополой шляпе из чёрно–белой соломки. За границей полосатой ленты, привязанной к редким тощим деревцам подлеска, толпились немногочисленные зеваки. Вели они себя тихо, и если что–то и комментировали, то исключительно шёпотом.
БМД отползла к опушке леса. Водолазы чуть в стороне, возле «рафика», разоблачались от своих ихтиандровых одежд. Там же стояла и «скорая помощь», пока никому так и не понадобившаяся.
На пятачке возле берега оставался теперь только джип, подполковник Семёнов, ещё двое милиционеров, долговязый эксперт с фотоаппаратом, двое понятых – пожилой мужчина и тех же примерно лет женщина – да следователь Генеральной прокуратуры Степанов. Судя по всему, он сейчас и был тут самым главным.
Степанов представлял из себя в меру коренастого мужчину среднего роста. На лице его заметное место занимал довольно крупный нос, который его, впрочем, совсем не портил. Скорее – наоборот, придавал общему выражению лица некоторую завершенность. Человеком Степанов был явно не злым, хотя сейчас пытался всячески выглядеть максимально суровым. Суровости этой мешали нос и большие, прозрачно–серые глаза. Чуть сбившиеся русые волосы и вовсе придавали ему чуть мальчишеский вид, хотя от роду следователю Степанову было почти сорок лет. Зная, видимо, о некоторых причудах своей внешности, он время от времени пятернёй приглаживал чубчик. Впрочем, без особого успеха.
Тем не менее, подполковник Семёнов перед каждым следующим следственным действием взглядом обращался именно к следователю Степанову. Тот вновь согласно кивнул.
– Глазьев! – скомандовал Семёнов одному из милиционеров. – Открывай!
Крепкого сложения лейтенант взялся за ручку водительской дверцы джипа. Едва он приподнял замок, как дверь распахнулась сама собой. Под напором хлынувшей из салона воды. Вслед за водительской открыли и все остальные двери машины, вплоть до багажной. Вода вытекла почти вся, только ещё чуть бултыхалась на самом дне салона. Попахивало тиной.
– Приступаем к осмотру? – поинтересовался Семёнов и, получив молчаливый, но утвердительный ответ, скомандовал. – Давай, Глазьев, приступай! А ты, Дрыгас, – это он бросил уже второму милиционеру, высокому старлею, – валяй протокол.
От этого неуместного «валяй» следователь поморщился, но Семёнов неожиданной оплошности своей не заметил.
Спустя примерно полчаса были запротоколированы и легли на малиновый капот «лендкрузера» все извлечённые из салона предметы. По крайней мере те, которые хоть в какой–то мере могли заинтересовать следствие.
Первым делом на капот лёг или, точнее, уверенно встал дорогой, какой–то особой рифлёной кожи ботинок с небольшой жёлтого металла пряжкой. Потом из бардачка выудили чуть расползшуюся карту автомобильных дорог области. За ней извлекли пистолет системы «макаров». А уже напоследок – пухлый и хорошо упакованный целлофановый пакет. Пакет был перетянут банковский красной резинкой, под которой был вложен листок из блокнота. На листке довольно хорошо читалась немного «поехавшая» надпись зелёной шариковой ручкой:
109600 для В. Г.
Следователь Степанов, прочитав внимательно надпись и взвесив пакет в руке, вежливо попросил:
– Открывайте, товарищ лейтенант! – и передал пакет обратно Глазьеву.
Малиновый капот уже окончательно высох, только из щелей по бокам кое–где ещё парило.
– Минуту, коллеги! – явно от природы сварливым голосом напомнил о себе эксперт с фотоаппаратом. – Не рви подмётки, Глазьев. Клади пакет взад. Общий план для протокола.
Глазьев, неопределённо пожав плечами, положил на прежнее место пакет. Долговязый эксперт сделал несколько кадров. После чего Глазьев, подозвав поближе понятых, принялся аккуратно распаковывать пакет. После недолгих манипуляций пакет был вскрыт, и из него извлекли перевязанные уже зелёной банковской резинкой пачки долларов. Всего одиннадцать пачек.
После довольно продолжительного пересчёта на глазах понятых оказалось, что в пакете ровно сто девять тысяч шестьсот долларов.
Следователь, задумавшись на несколько минут, в продолжении которых внимательно разглядывал свежие царапины на капоте, наконец вежливо обратился к Семёнову:
– Пригласите, пожалуйста, вдо… – он осёкся, бросив быстрый взгляд на так и стоявшую в отдалении Ольгу Ильиничну, – жену.
За Ольгой Ильиничной снарядили всё того же Глазьева.
Следователь, почему–то пряча глаза, спросил у неё:
– Можете опознать какие–то вещи, принадлежащие вашему мужу? – на этот раз он уже без запинки выбрал «щадящий» вариант обозначения родственной связи между Ольгой Ильиничной и Георгием Петровичем Жарскими. И даже не оступился в прошедшее время.
– Да, – просто ответила Ольга Ильинична и поправила шляпку так, чтобы солнце не падало на лицо. – Эти ботинки… ботинок… ботинки из крокодиловой кожи мы купили с Жорой, Георгием Петровичем в Монте – Карло. Точно, в прошлом году.
– Ваш муж – игрок?! – с интонацией доброго психиатра спросил следователь Степанов. При этом он по–прежнему не поднимал взгляда выше подбородка Ольги Ильиничны.
Ольга Ильинична сохраняла на лице всё то же выражение отрешенной холодности. И продолжала отвечать Степанову почти без выражения, будто озвучивала давно заученную наизусть речь:
– Он не был слишком азартен. В играх. В рулетку при мне играл один раз. Именно там, в Монте – Карло.
– И выиграл? – Степанов усердно полировал указательным пальцем царапину на малиновом капоте «лендкрузера».
– Пятьсот евро. Именно на них и купил эти дурацкие крокодиловые ботинки.
– Но ведь ваш муж и так был не беден? – Степанов всё же сполз в прошедшее время.
Ольга Ильинична отреагировала мгновенно:
– Вы считаете, что он погиб?
– Нет, что вы, простите, – теперь указательным пальцем следователь сосредоточенно потёр кончик собственного носа. – Ваш муж и так не беден?
– Но достаточно бережлив, – изящно ушла она от ответа.
– Хорошо, продолжим. Какие предметы вам ещё знакомы? Например, этот пистолет…
– Это его личный «макаров», – со знанием дела прокомментировала Ольга Ильинична.
– Точно, Георгия Петровича, – подтвердил Семёнов, – я номер проверил.
Вежливо кивнув в ответ, следователь продолжил:
– А он всегда… берёт оружие, отправляясь из дома?
– Когда берёт, когда – нет. Как и у всякого мэра у него опасная работа.
– А сегодня он брал его или пистолет был уже у него в машине?
– Когда он уезжал, я спала. И даже с ним не попрощалась, – от этих слов Ольги Ильиничны у всякого в горле могло бы запершить, но Степанов, кажется, вовсе не обратил на них внимания.
– Хорошо, – теперь Степанов уставился на красивые запястья Ольги Ильиничны – на правой руке её чуть колыхался тонкий и простенький серебряный браслет. – А об этих деньгах вам что–нибудь известно? Здесь ровно сто девять тысяч шестьсот долларов. Эта цифра была написана и на упаковке. И ещё инициалы – «В. Г.». Вам всё это о чём–нибудь говорит?
– Ни о чём, – чётко и раздельно ответила Ольга Ильинична. – И… господин следователь! – эти слова заставили Степанова наконец поднять глаза и встретиться с серо–зелёным взглядом Ольги Сергеевны. – Давайте перенесём наш допрос на другое время. Буду рада вас видеть у себя в мэрии. Я принимаю с десяти до тринадцати. Шучу, – мрачно добавила она, но всё же Степанову показалось, что она почти улыбнулась. – В любое время. А теперь позвольте мне уйти. У меня сегодня очень тяжелый день.
– Да, конечно, простите, я всё понимаю, работа у меня такая… – шевеля на весу пальцами, Степанов старался словно бы материализовать свои извинения.
– У всех – такая работа! – отрезала Ольга Ильинична и, резко отвернувшись, стала подниматься вверх по склону.
Следователь Степанов провожал её до неприличия долгим взглядом. Пока не услышал трезвый голос подполковника Семёнова:
– Думаю, подробный осмотр салона сможем произвести на стоянке?
– Что? Да–да. На стоянке, – следователь ещё раз бросил беглый взгляд в сторону удаляющейся женской фигуры. – Обязательно. На стоянке. Подробно, – а сам тем временем приблизился к «лендкрузеру» и заглянул в его глубину. – Интересно. Очень интересно, – сказал он уже исключительно самому себе.
Степанов достал из левого кармана клетчатого пиджака небольшой целлофановый пакет – причём можно было заметить, что пакет там наготове был не один. Из правого кармана он выудил медицинского вида пинцет. После чего несколькими быстрыми и ловкими движениями собрал что–то мелкое с заднего сиденья, а потом с водительского и даже с зеркала заднего вида и аккуратно поместил в пакет.
Пчёлы сквозь полупрозрачный целлофан напоминали маленькие, ещё не отмытые от земли золотые самородки.
***
Первый помощник нервно метался по кабинету и зверски матерился. Боже, как его подло подставили! Как банкеты гулять, прожекты строить да зажигательные речи произносить – так здесь градоначальник, пожал–ста, в первых рядах. А теперь, когда в город пришла настоящая беда, его и след простыл!
Ладно, пока вода подтопила лишь левый берег, он и сам справится. Но, если прорвёт плотину, под чьим руководством прикажете тонуть всему городу?