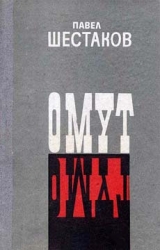
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Да, я помню. Он подражал русскому генералу, который бросал Георгиевские кресты в бою с Наполеоном.
– Ха! Вы только подумайте – великий полководец из черты оседлости! Конечно, можно и одуреть. Но, между прочим, что бросал генерал? Кресты, которые царь специально изготовил на этот случай. А что бросал Троцкий? Часы, конфискованные у буржуазии, то есть, между прочим, у нас с вами. Вы не представляете, сколько у меня отняли часов за эти годы! Последние совсем недавно, в поезде.
– Но это же сделали бандиты!
– Да какая мне разница, кто у меня отнимает! А если и бандиты, так куда смотрит власть?
Гросман покачал головой.
– Вы говорите опасные вещи, Самойлович.
– Ничего. Я читаю газеты. С этим завинчиванием гаек номера уже не проходят.
– Что с вами, Самойлович? Почему вы так недовольны властью? Насколько я помню, вы ведь всегда уживались с властями.
– Да! Я уживался. Я даже так уживался, что умные люди меня всегда уважали. И при царе, и потом… Меня даже погромщики предупреждали, когда начнется погром. Другим головы пробивали, а мне не разбили ни разу даже витрину. Потому что меня уважали. А этот золотушный мальчишка, которому я приносил на праздники конфеты, теперь держит меня за горло и грозится придушить! Они, видите ли, хотят делать мировую революцию за мой счет!
– О ком вы, Самойлович?
– О ком же, как не об этом мальчишке, Наумчике. Он теперь важная птица.
– А… вот вы о ком!
– Вот именно. Вы только подумайте, доктор! Им все мало. Они убили государя, прогнали Временное правительство, побили всех генералов и даже адмирала Колчака. Они запугали Антанту… А теперь, когда вроде бы наступила жизнь… конечно, не та, не настоящая, но хоть какая-то жизнь, и когда я могу быть полезен, они говорят мне: ладно, принеси нам пользу, а мы у тебя все отберем и выкинем на помойку! Кому говорят? Мне! А? Как вам это нравится? Нет! Я такого над собой не потерплю!
– Но что вы можете сделать, Самойлович? Всякая власть от бога.
– И вы думаете, бог назначил Наумчика навечно?
– Об этом я ничего не знаю.
– А я знаю, что их даже бандиты не боятся. Я же сам видел, как этот Техник прогуливался по вагонам. Все сидели, как мыши. Между прочим, у него большая сила.
– Лучше держаться от таких людей подальше..
Самойлович понизил голос:
– Мне говорили, что недавно они собрали свое собрание и решили там показать этой власти, чего она стоит. И они еще покажут. Вы слышите, доктор!
– Я ничего не слышу и вам не советую такое слушать.
– А вы бы послушали, что мне говорил Наумчик.
– Ах, оставьте его, Самойлович. Грех вам. Еврей не должен желать зла еврею.
– Почему же он мне желает?
Гросман вздохнул:
– В священной книге сказано: терпеливый лучше высокомерного.
И, забрав покупку, доктор вышел из магазина.
* * *
По странному совпадению эти же слова произнес Техник на том самом «собрании», о котором говорил Самойлович и которое в самом деле состоялось и могло бы показаться нелепым политическим анекдотом, если бы за фарсовой видимостью не скрывались вполне реальные корыстные побуждения жестоких и предчувствовавших близкий и неизбежный конец людей.
Происходило «собрание» в роще, где когда-то возникла любовь Тани и Юрия. Теперь там было запущено и пустынно. Люди не только давно перестали заботиться о некогда ухоженной роще, но и появляться там остерегались – место пользовалось дурной славой и не зря.
И хотя бандиты выставили в зарослях на окраинах своего рода сторожевое охранение, играло оно скорее роль символическую, нечто вроде почетного караула по случаю встречи вожаков.
Главные лица собрались и расположились на уютной полянке, на ковре вокруг широкой скатерти, которую вполне можно было принять за сказочную скатерть-самобранку, столько громоздилось на ней выпивки и закуски в дорогой посуде. Впрочем, ничего сказочного в этом не было – продукты и бутылки, первые плоды нэпманского изобилия, были вполне легально закуплены и привезены в рощу на извозчике.
Икра, балыки, окорок, колбасы, телятина и прочее вперемежку с гранеными штофами, зелеными бутылками, хрустальными бокалами и серебряными стопками призваны были удовлетворить разнообразные вкусы достаточно разных собравшихся здесь людей. Так, аккуратный, тщательно причесанный Техник, в пиджаке, с галстуком, ничем не походил на экзотического Бессмертного, одного из самых шумных и дерзких налетчиков. Он был одет в красную косоворотку, черные кудри расчесывал только пятерней и время от времени удалял пыль кружевным носовым платком с празднично блестевших лакированных сапог.
Как все знали, в карманах и за пазухой Бессмертный всегда носил три пистолета и ручную гранату. Поэтому Техник, у которого, кроме пистолета под мышкой на специально сшитой портупее, ничего не было, сразу же предложил:
– Послушай, Бессмертный, чтобы я не портил себе аппетит, отдай свою лимонку подержать кому-нибудь из ребят, кто подальше.
Бессмертный хохотнул:
– А мне с ней естся веселее.
Техник посмотрел серьезно.
– Однако нужно и общество уважать.
– Ладно, уважу, – уступил Бессмертный. – На, подержи, – сказал он молчаливому верзиле. – Только дальше чем на бросок не удаляйся.
Лишенный чувства юмора исполнительный верзила так и сделал, взял гранату и расположился поодаль.
– Теперь можно выпить и закусить.
Выпили для затравки.
– Какие будут предложения по повестке дня? – спросил Техник и посмотрел на Бессмертного.
– Еще чего… Об чем нужно, об том и потолкуем.
– Прекрасно. Тогда сформулируем повестку так: новая экономическая политика и наши очередные задачи – первый вопрос. Второй – разное. По первому вопросу собираюсь доложить я. Возражений нет?
Возражений не было.
– Перехожу к изложению. Мы, свободные люди России, до сих пор занимали одинаковую позицию по отношению ко всем властям. Если можно сказать, мы были к ним снисходительны. Мы говорили: «Кесарево – кесарю», – и довольствовались, в основном, экспроприацией нетрудовой собственности частных лиц. Мы проявляли к властям понимание и терпение, – ибо терпеливый лучше высокомерного. Мы не брали лишнего. Мы брали лишь то…
– …что удавалось взять, – хмыкнул Бессмертный и прихлебнул из фужера смесь водки с шипучим, которая, по его мнению, хорошо утоляла жажду в жаркое время года.
Техник посмотрел на него осуждающе.
– Вернемся к нашим баранам.
– Баранов стричь нужно, – снова перебил Бессмертный.
На этот раз «докладчик» кивнул согласно:
– Да, проблема стричь или не стричь перед нами не стоит. Мы не спрашиваем: «Ту би ор нот ту би?», как выражались английские феодалы. Мы смело говорим: «Стричь!» Однако как стричь баранов, если пастухи с нами не согласны?
– Темно говоришь, Техник.
Это сказал бандит по прозвищу Сажень – слово произносилось в данном случае в мужском роде, – высокий, болезненно худой и моложавый на вид человек, хотя впервые судим был и приговорен к каторге еще царским судом. Дело было уголовное, но Сажень считал себя идейным экспроприатором и не одобрял терминов типа «банда» или «грабеж». Он, разумеется, понимал, куда ведет свою мысль Техник, но предпочел бы услышать ее иначе изложенной.
– Прошу прощения! – согласился Техник. – Я всегда сторонник ясности. Уточняю. На наших глазах происходит возмутительное политическое явление – возрождение частного капитала, то есть эксплуататоров народа под охраной и с поддержкой власти. Что же нам делать в сложившейся обстановке? До сих пор мы старались сохранять по отношению к власти известный нейтралитет. За некоторыми исключениями, к сожалению…
И он посмотрел на Полиглота.
Человек с таким интеллигентным прозвищем, истинного смысла которого и сам не понимал, даже из родного языка знал, кажется, не больше полуторы сотни слов, во всяком случае, вполне обходился ими. Прозвал его Полиглотом сам Техник. На вопрос, что это значит, ответил так:
– «Поли» по-гречески «много». А «глот»– сам понимаешь. Любишь большие куски глотать, значит, Полиглот. Ферштейн?
Полиглот разъяснение принял и даже втайне кличкой гордился.
Обладая мизерным запасом слов, Полиглот, естественно, не был разговорчивым человеком. Каким он представлял окружающий мир, можно было лишь догадываться, но то, что убийство в этом мире является естественной и необходимой константой, у всех, кто его знал, сомнений не вызывало.
Уже с четырнадцатого года, когда он дезертировал из армии, был пойман, судим, бежал, скрывался, грабил, убивал и находился вне закона при всех властях, Полиглот усвоил пещерный образ жизни, бандитизм даже не был для него средством обогащения, а лишь единственно возможной формой существования.
Во время последнего его налета на подсобное хозяйство мыловаренного завода без всякой необходимости были убиты семь человек, в том числе трое безоружных красноармейцев, любителей молодой картошки. Картошка досталась Полиглоту, и это было все, чем разжился он в хозяйстве.
На убийство красноармейцев и намекал Техник.
Но Полиглот его не понял. Он отрезал большой кусок окорока и жевал с удовольствием.
Зато чахоточного Саженя лихорадила активность.
– Всякая власть рано или поздно выступает в защиту эксплуататоров. Большевики не исключение, и мы с ними не обязаны считаться!
– О чем вы толкуете? – спросил Бессмертный в недоумении, вытирая рот и черные усы тем же кружевным платком, которым стряхивал пыль с сапог. – Кто хозяева в городе – мы или они! Вот что показать нужно.
– Об этом и речь, – сказал Техник.
– Какая речь? Нечего и разговаривать.
– Мы вечно непримиримый народ! – крикнул Сажень сквозь кашель. – А они? Узурпаторы!
И пещерный Полиглот, и «идейный» Сажень были одинаково презираемы Техником. Чуть выше он оценивал Бессмертного, агрессивного дурака, но с некоторой хитринкой. Кроме того, он очень хорошо стрелял, и потому Техник в опасных случаях держал его постоянно под рукой. Именно Бессмертный шел за ним следом по вагонам на станции Холмы. Немного раздражала Техника только нескромная, по его мнению, кличка бандита. Но именно в этом он и ошибался. Бессмертный была подлинная фамилия, которую бандит сознательно выдавал за кличку, потому что лучшей, при своем тщеславии, и придумать не мог.
Но в целом в смертельной игре, которую вел Техник, люди, сидевшие сейчас с ним на поляне, были лишь картами разной значимости, цена которых могла и падать, и возрастать, переходя временно в козыри. Однако в общем, в интересах выигрыша он всегда был готов пожертвовать каждой из них, считая игроком одного себя и переоценивая собственную способность выиграть, что было равноценно понятию выжить.
Вот и сейчас, сидя в довольно неудобной позе на дорогом ковре и пробуя разного рода яства, он прикидывал, как сыграть получше, сохранить или сбросить сомнительные карты.
С некоторых пор сообщники все больше обременяли Техника. Он хорошо знал, что единственной их целью было по-прежнему грабить и убивать – ничего другого они не умели и не желали, – а так как до сих пор разбойничали почти беспрепятственно, то и в будущем не видели иной жизни и иных занятий. Они только хотели убрать встающие на пути помехи, и одной из помех, которая в кроваво-пьяном исступлении представлялась им вполне устранимой, видели они и Советскую власть, победившую в многолетней борьбе с генералами, армиями и целыми государствами.
Это беспредельное безумие давно уже беспокоило Техника, и одно время он собирался сделать все, чтобы созвать маниакальные замыслы, которые могли только приблизить неизбежную погибель, но теперь, после встречи с Софи, поверив в возможность выйти из игры, сорвав банк, он задумался, посмотрев на дело совсем иначе, под другим углом зрения.
Непроизвольно проведя пальцами правой руки над левой, будто перебирая собранные веером карты, Техник сказал:
– Интересно говорите.
Наступило незапланированное молчание, ибо все, зная Техника как человека осторожного, ожидали возражений своей решимости и потому приняли сначала поощрительные слова за насмешку, почему и умолкли, не зная, что говорить.
Жестокий к беззащитным Полиглот вообще побаивался Техника, «теоретик» Сажень, готовившийся к длительному спору, просто растерялся. Бессмертный потянулся к фужеру, пробормотав:
– Вот и я…
– Что – ты?
– Дело серьезное, треба разжуваты, – схитрил Бессмертный.
– Что значит в переводе «промочить горло», – поддержал Техник.
Такая мысль была и понятной, и бесспорной.
Полиглот прошелся штофом по серебряным чаркам.
Чарки были внутри позолочены. Падая из штофа на дно, жидкость вспыхивала на солнце маленькими алыми огоньками. И эти тонкие струйки напомнили Технику совсем другой, непрерывный поток, вращающий мельничное колесо на дальнем хуторе, где жили и учили детей его бабка и дед и где бывал он с отцом и матерью совсем маленьким, когда верят в волшебников и колдунов.
Колдуном считали и мельника и говорили, что он видит в потоке падающей на колесо воды то, что не дано увидеть другим людям, – их будущее и особенно то страшное, чему надлежит с ними непременно случиться.
И еще говорили, что, кроме мельника, такое же могут увидеть дети. И потому он вместе с хуторскими однолетками подолгу простаивал у мельничного колеса, не отрывая глаз от падающей воды.
Смотрели, смотрели и дождались. Произошло однажды такое, что перепугало, хоть и на короткое время, потому что случай сразу же разъяснился и оказался шуткой и чепухой… Самым страшным считалось увидеть в чистой стремительной воде кровь. И вдруг она появилась. Мелькнуло яркое, красное, и все замерли, пока хохот сверху не вывел ребят из оцепенения. Смеялся старший сын мельника, который только что зарубил петуха и сунул его шею в поток.
И хотя все разъяснилось самым неволшебным образом, маленькому Славе долго еще снилась кровавая струйка в серебряном водопаде, пока другие, городские, чудеса – биплан, паривший над переполненными трибунами ипподрома, поезд, мчавшийся с белого полотна в темный зал электробиографа, окутанная сизым дымом коляска без лошадей, перекатывающаяся толстыми шинами по булыжникам мостовой, и другие чудеса науки, щедро обрушившиеся на людей в начале века, – не вытеснили призрачное видение, но вот, как оказалось, не навсегда.
Он вспомнил и вздрогнул невольно, но тут же заметил кровоточащий порез на пальце Полиглота, неловко сработавшего ножом, стараясь отхватить кусок окорока побольше.
– Чего ты? Порезался, – сказал Полиглот, когда Техник инстинктивно отдернул чарку. – Брезгуешь?
Техник протянул руку со стопкой.
– Вот еще! Нам ли кровью брезговать… Мало мы ее повидали?
– А еще больше проливали, – добавил Бессмертный.
– Верно подмечено. Так о чем разговор! Ваше здоровье, братья-разбойники!
И первым, с несвойственной ему поспешностью; Техник опрокинул стопку.
– Пей мою кровушку, – пошутил Полиглот.
– «Зачем я хлебнул эту грязную кровь? Сдают нервы? Да, многоуважаемый сэр, а по-русски Станислав Викентьевич, кажется, Софи нашла меня вовремя. Нужно брать безделушки и уходить. Но действовать продуманно, очень продуманно. Прежде всего, отвести глаза чекистам. Подставить им эту шваль.
Шваль хочет набить себе цену – пусть подставляет голову. Пусть… В конце концов, я только умою руки».
– Итак, господа, ставки сделаны. Ваше единодушное мнение понятно. Приступим к делу. Какие будут предложения?
– Что еще? – спросил Полиглот, всегда туго понимавший витиевато-ироничные высказывания Техника.
– Я спрашиваю, что будем делать? Захватим город? Объявим его порто-франко? Провозгласим Бессмертного пожизненным президентом? Все это, конечно, замечательно, но слишком грандиозно. Может быть, будут другие, более простые предложения?
– Теракт, – изрек Сажень мрачно.
– Записано. Кто следующий?
– Я бы устроил им мощный бэмц, – сказал Бессмертный.
– Конкретно?
– С иллюминацией и фейерверком.
– Нападение на госучреждение со стрельбой и поджогом?
– Почему бы и нет?
– Внесено в протокол. Ваша очередь, почтенный Полиглот.
– Давить гадов надо.
– Коротко и ясно.
– А чего еще…
– Подвожу итоги. Нужно, чтобы они почувствовали.
– Прочувствовали! – поправил Бессмертный.
– Поправка принята. Что же мы имеем? Наш немногословный Полиглот внес предложение важное, но в самой общей форме. Бессмертный, как всегда, решителен, но это крайний случай. Вступать в открытую войну я считаю преждевременным. Сначала противника следует серьезно предупредить. Поэтому я поддерживаю принципиальную позицию Саженя.
– А не смельчим? – спросил Бессмертный.
– Твои вариант всегда наготове.
– Ладно. Повременим. Если так лучше…
– Так лучше.
– Значит, теракт? Голосовать не будем?
– Обойдемся.
– Вопрос: кого?
– Главного, – предложил Бессмертный.
– Третьякова?
– Кого же еще? На копейки распыляться?
– Это верно. В принципе. Но боюсь, что нас не поймут. Главный – фигура прежде всего политическая. И наш подвиг могут приписать каким-нибудь белогвардейским недобиткам, что окажется весьма обидным.
– Кого ж ты предлагаешь?
– Нашего непосредственного опекуна.
– Миндлина? – кашлянул Сажень.
– Ты против?
– Я?! – У Саженя сверкнули глаза. – Я его собственной рукой.
– Личная обида?
– У меня личных обид не бывает. Предатель он.
– Ты его знаешь?
– В двенадцатом в централе сидели вместе. Не думал я тогда, что он против народа пойдет. Настаиваю, чтобы теракт поручили мне лично.
– Возражений нет? Я думаю, мы должны уважить благородные побуждения нашего товарища.
«Ну, вот и сделано дело», – подумал Техник и расправил пальцы, будто бросив на стол карты.
– Прошу, соратники, наполнить чаши!
И он удовлетворенно потер руки…
* * *
Это было еще до случая на мельнице…
Как-то на хуторе свежевали коровью тушу. Редкобородый мужик, присев на корточки, сноровисто отделял шкуру от ребер, едва покрытых мясом. Корова была старая и тощая.
Слава смотрел с неописуемым удивлением. Он еще не имел никакого представления об устройстве живого существа и считал, что все оно сплошь состоит из мяса. А в корове его почти и не было. «Где же мясо?» – думал он, пока не заметил среди внутренностей большой, туго набитый не то пузырь, не то мешок. «А, вот там, наверно!» Но, когда мужик провел по «мешку» стальным лезвием, в нем оказалось вовсе не мясо, а темное, дурного запаха месиво.
– Что это? – спросил он разочарованно у крестьянского парнишки.
– Да говно, – ответил тот простодушно.
Славе стало противно.
Вечером он не выдержал и поделился с отцом:
– Знаешь, папа, я думал, в корове молоко и мясо, а там… какашки.
Отец рассмеялся.
– Поздравляю с первым познанием сути жизни.
– А что, папа?
– Какашек в ней много, сынок.
– А в людях, папа?
– В людях, друг мой, еще больше, – ответил отец, как казалось ему, философски.
Но маленький Слава воспринял слова эти буквально и вечером, когда улегся в кроватку, долго ощупывал свои тоненькие ребрышки и впалый животик, чувствуя стыд и недоумение – неужели и в нем так много грязного, неприятного? И настолько в это не верилось, что ему даже захотелось увидеть разрезанного человека, чтобы убедиться: это не так…
Разрезанного человека Слава увидел лишь через несколько лет, когда, собственно, совсем позабыл о корове.
По улице, где они жили, бельгийская компания проложила трамвайную линию. Электрическая новинка привлекала всеобщее внимание. Сам Слава, например, очень любил ездить на второй, открытой площадке, так называемой прицепке. Но проявлялся к трамваю интерес и другого рода.
Слава стоял дома у окна и глазел на улицу, когда молодая женщина быстро подошла к пути, сдернула с головы широкополую шляпу, швырнула ее на мостовую и бросилась на рельсы прямо под колеса проезжавшего в ту минуту трамвая. Остановить трамвай было уже невозможно.
Раздался многоголосый вопль пассажиров, но самоубийца даже не вскрикнула – правое колесо распластало ее на две части. Вагон остановился. Схватился за голову вагоновожатый в форменной тужурке. Некоторые убегали в ужасе. Однако Слава, тем временем выскочивший из дому, ушел, хотя взрослые и гнали любопытствующих мальчишек:
– Нечего вам тут делать!
Он дождался ненужной уже кареты «скорой помощи» и увидел, как санитары подняли и уложили туда обе части трупа.
Потом подъехала подвода, и человек в фартуке начал разбрасывать лопатой по рельсам и вокруг желтый песок…
Все это совсем не значит, что Слава рос жестоким ребенком, а тем более садистом. Он никогда не отрывал крылья у бабочек и стрекоз, не мучил кошек или собачат. Но и не любил их. В каждом живом он замечал прежде всего некрасивое, в том числе и у людей. И он был буквально потрясен, когда однажды, в отсутствие родителей листая полузапретного для подростка Мопассана, наткнулся на строчки, которых совсем не искал:
«Человек отвратителен! Чтобы собрать коллекцию гротесков, которая и мертвого рассмешила бы, достаточно взять первый попавшийся десяток прохожих, выстроить их, сфотографировать, как они есть – кривобокие, с чрезмерно длинными или короткими ногами, слишком толстые или слишком худые, багровые или бледные, бородатые или бритые, улыбающиеся или хмурые».
Был потрясен, потому что сам мыслил точно так же, только сформулировать не мог. Да и не принято было афишировать нелюбовь к ближнему, а Слава именно не любил людей.
Конечно, живя среди людей, он не мог постоянно испытывать к каждому из них только отвращение или презрение. Чувства эти носили в будущем Технике, если так можно сказать, характер обобщающий, пока теоретический. А теория создавалась легко. В те годы много писалось о несовершенстве человека, о непреодолимости его инстинктов, которые презрительно назывались животными, ибо самих животных резко и высокомерно отделяли от человека.
Короче говоря, после Мопассана Слава прочитал еще много такого, что помогло ему утвердиться в мыслях о том, что именно уродливое в человеке есть истинное проявление его сути, а доброе и красивое, если и встречается, то в виде исключения или, хуже того, всего лишь маскирует дурную суть.
И даже в тот, навсегда памятный для Тани и Юрия, осенний, отмеченный вечной красотой угасавшей природы день Слава испытал привычное ему уже чувство, когда юная, миловидная Надя, неумело выруливая, упала с велосипеда и на миг предстала перед ним жалкой, с искаженным страхом лицом. Он увидел это лицо и подумал, что на самом деле эта нравившаяся ему девушка глупа, зла и труслива, а он мог так обмануться и даже связать с ней жизнь и потерять свободу. К свободе же отношение у него было особое, ибо, если человек отвратителен, следует стать сверхчеловеком, а это само собой предполагает отсутствие каких-либо обязательств перед «человеками», то есть максимальную, по возможности неограниченную, свободу.
Но конечно же не странности характера, не случайные события и даже не ницшеанские парадоксы, которыми в то время увлекались многие, определили конечную судьбу этого человека, ставшего не инженером, а Техником. И вполне возможно, что Слава Щ., бывший реалист, благополучно окончил бы соответствующий институт, получил бы диплом и строил бы, например, хорошие мосты, отличаясь от коллег лишь склонностью к брюзгливости да повышенным самомнением…
Все могло быть, не сдвинься мировой пласт, не поползи земля под ногами не просто отдельных людей, но стран и народов. Миллионы людей сначала по мобилизации, а потом и по собственной воле взяли в руки оружие и двинулись друг на друга. И редкий из них, если он выжил, мог сказать, что не убивал и никого не убил.
Но и война к убийству приучает человека чаще постепенно. Сначала стреляют случайно и неумело, не ведая, поразила ли кого выпущенная пуля, потом – собственную жизнь спасая, лишь бы отбиться, и потом уж – умело, сознательно, с твердым намерением поразить и уничтожить.
Слава такой десницей не поднимался. Он сразу попал в пулеметную команду, изучил и освоил самый знаменитый в то время пулемет, созданный американцем по имени Хайрем Стивенс Максим, который и не предполагал, по всей видимости, что страшное его детище целых шестьдесят лет будет надежно служить многим армиям во многих войнах, в том числе в двух всемирных, ненасытно сжирая миллионы патронов, собранных в так называемые ленты, и выплескивая фонтаны пуль, получившие название длинных и коротких очередей.
В тот обычный прохладный день, когда он стал убийцей, Слава Щ. лежал на заботливо оборудованной, окопанной и обложенной дерном позиции и смотрел в отверстие в стальном пулеметном щите на немцев, которые шли сначала цепью, потом потянулись перебежками к проходам, заранее проложенным ножницами и ручными гранатами в колючей проволоке, и вдруг оказались совсем рядом…
Когда все кончилось, в полку много говорили о выдержке, которую он проявил, подпустив противника почти вплотную. На самом деле он лежал и смотрел на серо-зеленую немецкую цепь, точно кролик на удава. Удав неумолимо приближался, а он лежал в оцепенении, несмотря на то что отлично слышал команду. Да и как ее было не слышать, когда это не команда уже была, а сплошной разъяренный мат.
– Да стреляй же ты, проклятый стервец! Мать твою!..
А немцы, заметив, что именно здесь, на пологом склоне огонь не такой плотный, инстинктивно сбивались прямо под направленный на них ствол, заключенный в гладкий кожух, наполненный водой из ближнего болотца.
И тут Слава, собрав последние силы в руках, сжимавших одетые деревом рукоятки, двинул вперед большие пальцы… Пулемет загрохотал, торопливо втягивая ленту, которую держал на весу второй номер, и на землю хлынул дождь раскаленных гильз. Пуль он не видел. Потом ему казалось, что длилось это очень долго, хотя все двести пятьдесят патронов, уложенные в ленту, были выстрелены меньше чем за минуту одной непрерывной очередью…
После боя над позициями обеих сторон подняли белые флаги, и похоронные команды вышли на поле, чтобы забрать своих павших, – еще соблюдались обычаи прошлых войн. Он видел, как немцы с носилками столпились там, где он лежал накануне. Он стал считать, но после восемнадцати бросил, получалось, что на каждый прожитый им год жизни уже пришлось больше чем по одному убитому им человеку.
Однако это была только арифметика. Убийцей он себя не чувствовал. Убийца был Раскольников, который с топором под мышкой стоял у двери старухи-процентщицы. А он был солдат, хороший солдат, заслуживший всеобщее одобрение смелостью и выдержкой и представленный к награде. Он не знал еще, что намного превзойдет Раскольникова. Правда, он никогда и никого не убил топором или вообще холодным оружием. С того случая на трамвайной линии он терпеть не мог крови.
На войну Слава попал почти одновременно с Юрием. Обоих подтолкнула любовь. Но если Таня так горько и беспощадно корила себя за то, что Юрий оказался на фронте по ее вине, то Надя о своей роли и не подозревала.
«Вы охладели ко мне. Почему? Я ничего не понимаю. Нам необходимо объясниться!»
Так она писала ему почти в отчаянии.
Но что он мог объяснить? Сказать, что увидел ее перепуганной и потому решил, что она глупа, зла и труслива? Нет, в то время он еще не мог так открыто и жестоко оскорбить даже неумного человека. Он поступал, как и многие в подобных случаях, – уклонялся от встреч. А она, ничего не понимая, всячески их добивалась.
В один прекрасный день это ему надоело…
Между тем война ширилась, и вскоре, чтобы проливать человеческую кровь, уже не нужно было ехать в составе маршевой роты далеко на запад. С февраля по октябрь семнадцатого года в России произошел великий разлом. Главное в этих месяцах – выбор будущего. В феврале революцию приветствовали почти все. И Славу она привлекла, хотя и меньше, чем остальных. Свержение царя лично ему ничего не давало, к положению низов он был равнодушен, к политическим свободам относился скептически, как и к политике вообще, и даже война, на которую он попал совсем недавно, не успела еще надоесть – пока она приносила награды, а за собственную жизнь он, как и большинство молодых людей, опасался гораздо меньше, чем взрослые, несущие семейное бремя.
Зато Слава сразу, еще в феврале, когда толпы людей братались и ходили с полотнищами, на которых было написано: «Мир народам», уловил в воздухе не весенние сладкие ароматы, а острый, волнующий запах пороха и крови. Глубоко и верно почувствовал он, что не мир, но меч несет эта пахнущая фиалками весна, и порадовался, сам еще не зная чему. Чувствовал только – открываются невероятные доселе возможности, начинается ломка общества, на пороге время, личности, сверхчеловека.
Нет, его не влекла власть над людьми. «Лев, ведущий стадо баранов, уже не лев, а всего лишь главный баран», – говорил он, перефразируя Наполеона и твердо полагая людей баранами. Баранами за то, что побежали на убой, услыхав об убийстве эрцгерцога, – мало ли их, принцев, в царствующих домах!
Баранами потому, что ходят теперь кучами и выкрикивают несбыточные, противоречащие самой природе лозунги.
Особенно раздражал его лозунг о равенстве, оскорблял лично, ибо представить, что другие могут быть ему равны, просто не мог.
Однако и те, кто хотел загнать «баранов» снова на скотный двор, тоже не вызывали в нем симпатии. Он делил их на две категории – жаб и идиотов. Жабами считал тех, кто, вцепившись в свои заводы, имения, привилегии, готовы душить каждого покусившегося, а идиотами – верующих в свободы, Учредительное собрание и прочую чушь.
Ему нужна была только собственная свобода, и когда восторжествовала стихия и повалил народ с фронта, ушел и Слава с двумя револьверами за поясом, которые заменил вскоре на пистолеты. Браунинги он предпочел наганам потому, что были они плоскими, не выпирали барабаны, и носить их было сподручнее под мышками, на самостоятельно скроенной портупее.
В смутные дни поздней осени в Петрограде Слава впервые вошел в дом людей, которых считал богатыми, и взял все ценное, что мог унести в карманах. Громоздкое было ни к чему, он собирался в трудный путь на юг. В Питере уже ощущалась власть крутая, а в родных местах было еще вольно…
С тех пор прошло почти четыре года.
Но вот питерским колючим ветерком повеяло и нынешнее жаркое лето. А «сподвижники», слабоумные живодеры, хотят ветер остановить. Ну что ж… Пока вихрь будет выкорчевывать Бессмертного и иже с ним, Техник поставит свои паруса. Ведь ветер не только разрушает, он и корабли ведет.
Так думал Техник, идя запущенной дорожкой после встречи с «соратниками». Дорожка была той самой аллеей, где некогда упала Надя. Теперь тут и пешком идти было трудно. Трамвай, что останавливался поблизости, давно не работал. Было безлюдно и тихо.
«А что, если бы она не упала? Если бы меня не понесло на фронт?.. Фу, какая ерунда! А если бы войны не было?.. Чушь! Человек должен испытать все. И убить кого-нибудь хоть один раз. Знать, на что способен. Ничего не бояться. Я прошел все и теперь знаю меру своих сил. И могу сделать последнюю ставку и взять ее. А потом – к неграм. На острова. К дикарям, к рабам… Все будет в порядке. А началось здесь… ну что ж, спасибо, Надя!»








