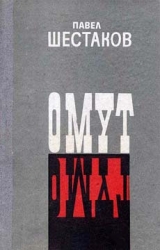
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
И тут он подумал о Софи.
Подумал и, перешагнув через заброшенные рельсы, пошел туда, где мог ее увидеть.
* * *
Софи жила в глинобитной, почти хуторской мазанке под камышовой крышей, на подворье, где лепились еще два таких же неказистых домика, один – хозяйский, другой, как и хатенка Софи, сдавался жильцам. Низкорослые, все они вросли в землю, и Технику пришлось опуститься на ступеньку и даже нагнуть голову, хотя был он и невысок, чтобы войти в комнату.
Он ожидал, что попадет в сырой полумрак, но в самом жилище, несмотря на маленькие окошки, было сухо и светло. Щедрое южное солнце, перевалив уже на запад, стояло прямо перед окнами, высвечивая белизну недавно побеленных стен и такие же светлые занавески и покрывало на узенькой коечке, какие раньше называли девичьими. Было очень чисто и тщательно прибрано.
– Как у вас, однако, – сказал Техник, оглядываясь, – тут… стерильно.
– Что случилось? – спросила она в ответ.
– Ничего особенного. Пока.
– Зачем же вы пришли?
– Разве это запрещено?
– Это неосторожно. Я говорила, кажется…
– Говорили. Но если бы я был всегда осторожен, поверьте, меня бы давно не было на свете.
– Риск должен быть оправдан. А вы сами говорите, что ничего не случилось.
– А если мне просто захотелось повидать вас?
– Надеюсь, вы шутите.
– Почему?
– Потому что идет четвертый после революции год.
– И был декрет, отменяющий чувства?
– В таком декрете нет необходимости. За это время чувства иссякли сами по себе.
– Может быть, не у всех…
Софи окинула его взглядом, каким смотрела обычно на тяжелобольных или тяжелораненых.
– Не смотрите на меня так. Я не сумасшедший.
– Тогда объясните свой странный поступок.
– Я ведь преступник.
– Вы, кажется, называли себя «налет».
– Дело не в словах. Я граблю и убиваю. Значит, я преступник. Я честен. Я не какой-нибудь псих Сажень, который величает себя идейным экспроприатором. Да вы и сами считаете меня бандитом. Разве не так?
– Я пока вас не поняла.
– А между тем это просто. Разве вам неизвестно, что преступники часто бывают сентиментальны?
– В вас я этого не замечала.
– Люди плохо знают друг друга, плохо видят, очень плохо понимают.
Она покачала головой:
– Вы сегодня не в своей тарелке.
– Разрешите мне присесть?
Техник все еще стоял посредине комнаты.
– Ах, простите. Садитесь, конечно. Прошу.
Техник опустился на стул с гнутой овальной спинкой, единственный черный предмет в этой белой комнате.
– Итак, вас интересует, почему я пришел?
– Признаюсь, удивили. Даже испугали. Зачем?
– Нет, именно «почему», а не «зачем». «Зачем» звучит корыстно, меркантильно. А я, как уже имел честь доложить, сентиментален. Я шел рощей…
– Прогуливались?
– Об этом позже. Я шел рощей и вспомнил, как в пятнадцатом году учил там девушку кататься на велосипеде… Вспомнил и зашел. Вот и все. Что же тут удивительного?
Трудно было понять, говорит он всерьез или шутит.
И Софи не понимала.
Она пожала плечами.
– И научили… девушку?
– Нет. У нее были плохие способности. Она упала.
– Разбилась?
– Отделалась царапиной. А я ушел на фронт.
– Это связано?
– В мире все связано. Вы же видите, я вспомнил, и только потому я здесь. А столько воды утекло…
– И крови.
– О крови вы говорите потому, что постоянно возились с ранеными. Вот она и кажется вам символом войны. А мой символ – пуля.
Техник взглянул, на свои руки, распрямил пальцы, сжал кулаки, снова распрямил, внимательно осмотрел ладони.
– Как ни странно, на моих руках никогда не было ни капли крови. В прямом смысле. Я, знаете ли, брезглив.
– Предпочитаете стрелять?
– Да! Я бы ни за что не вынес штыковой атаки.
Софи вспомнила: «Я пять месяцев шел штыковым строем…»
– Не стоит об атаках. Лучше о девушке. Вы любили ее?
Он засмеялся негромко.
– Как вы спросили? Любил? Бог мой! Ну почему вы все такие Евы!
– По происхождению, наверно. Но я, поверьте, меньше других.
– Тогда вы меня, может быть, и поймете. Любовь мне не дается.
Она ничего не сказала, и Техник счел нужным добавить, пояснить:
– Нет, не эта, – кивнул он на кровать, – а та, о которой писали стихи. Вам жаль меня?
– Откуда же ваша сентиментальность?
– Это вещи разные.
– А сегодняшние воспоминания?
– Какая вы…
– Какая?
– Как ваша комната. Чистая, стерильная и холодная.
– А вы?
– Я уже сказал. Чувства мне не даются.
– В наше время это преимущество.
– Я с самого начала подозревал, что мы родственные души.
– Мы сообщники.
– Вы все время держите меня под холодным душем. Пресекаете все добрые порывы…
– У вас есть добрые порывы?
– …да еще и обижаете.
– Вот это лишнее. Обижаться мы не имеем права. Это может повредить делу.
– Вы правы. Ох, уж это дело!
– Чем оно вам не нравится?
– Своей необходимостью.
– Ну отойдите от него!
– Не могу. Я жертва собственного бескорыстия.
– Да, сегодня вы склонны шутить.
– И не думаю. Я беден, Софи. В это трудно верится, но это неоспоримый факт.
– Однако у вас было время позаботиться о своем будущем.
– Было. Но я из тех охотников, для которых сама охота дороже ее трофеев. И я беден. Может быть, только и натяну, что на эту жалкую булочную. Иначе, зачем мне ваша пещера Лихтвейса? Я люблю свободу, чистый воздух, а вы заставляете меня ползти на четвереньках по подземелью. Чтобы обеспечить жалкую старость.
– Сколько вам лет?
– Не так много по документам. Но гораздо больше на самом деле. Я старею, как портрет Дориана Грея. Я слишком много плачу за прожитое. А дураки думают, что я много беру.
– Вы тронули меня. Я помогу вам обеспечить старость. Вы будете греться на солнышке на скамеечке в Люксембургском саду.
– Вы там были?
– Увы, родина предков известна мне только по книгам.
– Я там тоже не был. Послушайте, а что, если этот сад так же запущен, как эта роща?..
– Где вы бывали с девушкой…
– Далась вам эта девушка! Если бы не она, может быть, я стал бы красным инженером, претворял в жизнь план ГОЭЛРО.
– Поверьте, наш план реальнее. Но расскажите все-таки о роковой встрече с девушкой.
Она просила напрасно. Иногда Техник рассказывал о себе сам, но никогда – по просьбе.
– Никакой роковой встречи. Она упала – и все. А я не люблю, когда люди падают. Это неэстетично. Мой принцип – не падать!
– Кажется, вы еще и не совсем трезвы, – заметила Софи.
– Да. Пришлось. В интересах дела.
– Нашего?
– Других у меня сейчас нет.
– С кем же вы пили? С начальником охраны банка?
– Я пью только с друзьями. Соратниками по оружию.
– В роще?
– Да. Там состоялся некий совет, гофкригсрат, по-немецки. Присутствовали только важные лица.
– Бессмертный и другие? Вы с ума сошли! Неужели вы решили их привлечь?
– Я не идиот, Софи. А вот вы?
– Я произвожу впечатление идиотки?
– О, нет! Потому я и спрашиваю. Я веду игру честно. А вы? Кто такой Бессмертный, я знаю хорошо. И других тоже. А кто с вами? Или за вашей спиной? Или вообще играет вами, как куклой? Кто? Кто вы?!
Он перешел в эту внезапную атаку не потому, что был пьян, и не потому, что ему надоело пустословие о сентиментальности и бедности. Просто он всегда чувствовал в ней угрозу.
По-своему Техник был очень неглуп, но тут он не понимал главного: сама горячность напора показывала, что правда ему неизвестна, и это уже успокаивало Софи. И она ответила вполне спокойно:
– Кто я? Когда? Сейчас, в прошлом, завтра?.
– Всегда!
– Сегодня я вас не подведу. Завтра собираюсь стать богатой, ну, а вчера уже прошло.
– Вы и в чека будете так держаться?
– Всегда.
– Черт вас возьми! Я боюсь вас. Ну, докажите мне как-нибудь, что нас действительно что-то связывает, что мы не враги!
– Как это доказать?
– Ну, хотя бы нарушьте вместе со мной чистоту этой беленькой кроватки.
Софи рассмеялась:
– Вот до чего доводит сентиментальность!..
– Не смейтесь, или я вас изнасилую!
– Господи, до чего мужчины примитивны. Всю жизнь твердят о женской хитрости и не видят очевидного. Да если бы я обманывала вас, я бы давно уложила вас в эту кроватку.
– Не обманывайтесь сами. Соблазнить меня не так просто, а тем более водить на этой веревочке.
– Ах, простите. Вы же однолюб. Вы не можете забыть девушку в роще. А может быть, у вас такой половой комплекс… Я забыла. Французы, кажется, называют это «женщина на один раз».
– Вы проницательны.
Он встал со стула и подошел к окну. Оттуда еще жарко било низкое солнце.
– Успокоились? – спросила Софи. – Вы сами виноваты. Чувства нам только мешают. Мы сообщники – и только. Так лучше.
Он обернулся.
– Расскажите о гофкригсрате.
– Военный совет в Филях принял решение не отступать. Напротив, объявить войну Советской власти.
– А как же осторожный Кутузов?
– Вы мне льстите. Я поддержал это решение скрепя сердце.
– Но это опасно.
– Конечно. Их просто убьют.
– А вас?
– Разве Кутузов размахивал шашкой, как Багратион?
– Вы рассчитываете отсидеться в ставке?
– Нет, в нашей уютной булочной.
– А не…
– Не задавайте так много вопросов. Вы читали Жюля Верна – «Таинственный остров»? Чтобы добраться до нашего острова, нужно выбросить весь балласт.
– Это мудро.
– Вы сказали комплимент самой себе. Именно вы натолкнули меня на мудрые мысли.
– И как вы себе все это представляете?
– Дикси. Что значит «я сказал все». Моя покойная мама учила меня сдержанности.
– Благодарю. А чему учил вас папа?
– Это не совсем эстетично. То, что он говорил. Спросите сами, когда мы будем в Париже. Он там. Его очень шокировала моя репутация Робин Гуда, бандита, по-нашему.
Техник отошел от окна и снова сел на стул.
– Ну а теперь главное. Вы заметили, что наша беседа постоянно возвращается к проблемам отношений мужчины и женщины? Это не случайно.
– Может быть, на сегодня хватит… половой проблематики?
– Я говорю только от отношениях. Не обязательно половых, но официальных.
– Что это еще?
– Дорогая Софи! Я уважаю ваше целомудрие и непорочность, вашу лилейную чистоту и так далее, но вам придется выйти замуж.
– Я всегда думала, что брак мое личное дело.
– И ошибались. Глубоко заблуждались. Брак, если хотите, всегда был прежде всего делом общественным. Об этом говорили еще римляне…
– Пожалуйста, без цитат.
– С удовольствием. Тем более что я забыл соответствующую цитату.
– Спасибо. Но я все-таки плохо представляю, какое общество заинтересовано в моем браке?
– Конечно же наше. Акционерное. Или товарищество на паях, как вам угодно. Не могу же я приобрести булочную на свое имя? Вы сами однажды справедливо заметили, что это небезопасно. У славы, простите каламбур, есть свои издержки. Не можете этого сделать и вы одна. Если я слишком известен, то вы слишком скромны для такого начинания. Это тоже привлечет внимание. Вы понимаете мою мысль?
– Кажется, да. Значит, руку и сердце вы предлагаете мне не свои?
– Увы! Не жалейте об этом, – произнес он с небеззлобной иронией, – зачем вам мужчина на один раз? Или как там… Истинный брак заключается на небесах, навсегда…
– Я никогда не буду венчаться в церкви! – воскликнула она гневно. – Это кощунство!
– Я так и думал. Обойдемся гражданской регистрацией. Но уж этого не избежать.
– Хорошо. Вы и жениха подобрали?
– Я налет, а не сваха. Вам никто не понравился из тех двоих молодых людей?
– Только не нэпман.
– Жаль. По своему положению он более подходящая фигура. Значит, Юрий?
– У него невеста. Она может не понять…
– Понять должен он. А невеста может вообще ничего не знать.
– И все-таки мне нужно подумать.
«Нужно посоветоваться с Барановским!»
– Время не ждет.
– Я понимаю.
Техник поднялся. На этот раз, чтобы уйти. Но задержался у столика, на котором лежала Библия.
– Вы находите утешение в этой книге?
Она смолчала, потому что не могла говорить с ним о сокровенном.
– А я нахожу. Вот послушайте.
Он откинул переплет, перелистал несколько первых страниц и прочитал:
– «Всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер». Каково, Софи? Все-таки умер! Разве это не утешительно?
– А сколько рассчитываете прожить вы?
– Кто знает… Кто знает… Господь милостив к преступникам.
– Вы так думаете?
– Ну, еще бы! Вспомните судьбу Каина. Правда, сначала господь возмутился: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли!» И не удивительно. Ведь это случилось задолго до гражданской войны, люди еще не привыкли, чтобы брат шел на брата. Однако господь не хватается за наган и не тащит Каина в гараж, чтобы вывести в расход под шум первого автомобиля. Нет, он говорит ему: «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». По-моему, туманно. Но Каин – трус. Он еще не набил руку на убийствах и дрожит. Он боится, что его самого может убить всякий, кто встретится. И тут, Софи, главные для нас строки! Надежда и опора наша. Слушайте! «И сделал господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его»! – Техник захлопнул Библию. – Так станем же богатыми скитальцами и изгнанниками. С нами бог!
– Я не уверена, что эти строки имеют отношение ко мне.
– В каких же вы тогда ищите свое утешение?
– В писании сказано: «Не мечите бисер перед свиньями!»
Это сорвалось, потому что он был отвратителен ей, и, видя, как белеют его щеки, она тут же поправилась:
– Это значит, что я ищу утешение в себе самой.
– Ах, вот как… А я было обиделся. Меня, знаете ли, давно не оскорбляли. Отвык. Всего хорошего!
Проходя под старой, с темно-красным стволом, давно не приносящей плодов вишней, Техник произнес почти вслух:
– Она мне заплатит! Она заплатит…
* * *
Наум пересказывал Третьякову сведения, поступившие от Шумова. Третьяков слушал внимательно, но вдруг прервал:
– Черт!..
Наум остановился, ожидая пояснений.
– Да не вовремя этот Пряхин забузил! Он бы нам сейчас вот так полезен был!..
Третьяков провел по горлу ребром ладони.
– Теперь уже лишь бы не опасен. С его-то мутью в голове, – заметил Миндлин.
– Ладно. Значит, у него есть сестра, бывшая гимназистка. У той – жених, бывший офицер. И приятель Техника.
– Даже почитатель.
– Но пока не в банде?
– Вот именно – пока.
– А ты думаешь, Техник Шумова и офицера в банду затягивал?
– Куда ж еще?
– В банде у него другой народ. Тут что-то еще…
– Последнее время эта сволочь потеряла всякое чувство реального. Грозятся открыто. Подбрасывают листки на базарах – власть, дескать, наша…
– Читал: «Перебьем чекистов…» Вот эта наглость меня и настораживает.
– Техник фактически в открытую пьянствует по кабакам. Вербует людей…
– Вербует. Но нужно узнать, для чего.
– Значит, брать его пока не будем?
– Пока Шумов не собрал все об их замыслах, ни в коем случае.
– Я понимаю, взять Техника сейчас – значит демаскировать Шумова, но и позволять им подрывать наш авторитет…
– Не подорвут.
– Врагов слишком много.
– Ну, если б слишком было, мы бы уже тут не сидели.
Третьяков откинул на спинку стула свое крупное тело.
– Однако контрреволюция еще имеет резервы.
– Имеет. Ограниченные. Недобитки, в основном.
– А новый частник?
– Самойлович? Который тебя в детстве по головке гладил?
– Представляю, с какой радостью он свернул бы мне сейчас эту головку.
– Не исключено. Политические его симпатии понятны, а вот конкретные связи с врагами…
– Такой в шкурных интересах и с Техником свяжется.
Третьяков взглянул на часы:
– Поздновато, однако. Но что поделаешь, у каждого своя забота – им связывать, запутывать, нам распутывать. На сегодня задача ясна?
Задача была ясна. Она определилась не сегодня и всегда была трудна. Сегодня были только свои дополнительные особенности: узнать, выяснить, уточнить, принять меры, ликвидировать – все это почти полностью, до предела занимало время и мозг, а дома между тем болел, задыхаясь в кашле, горел в жару, а может быть, и сгорал ребенок, маленький и единственный сынишка.
Когда Наум заполночь вошел в свою комнату, у кроватки сидел Гросман. Сердце сжалось: неужели совсем плохо?
Доктор понял его состояние и сразу же сказал, вставая:
– Кризис позади. Он спит.
Мальчик действительно спал. Ослабевший, исхудавший, едва видный под простынкой.
На табурете рядом стояли медицинские банки, скипидарная растирка.
– Спасибо, доктор.
Гросман поклонился и надел старый пиджак, который повесил на спинку стула.
– Ваша жена знает, что нужно делать. А я пойду.
– Я провожу вас.
– Не стоит.
– Я все-таки провожу. Очень поздно.
Доктор взял маленький саквояж, и они вышли.
Стояла очень светлая ночь, какие бывают в ясное полнолуние. В голубом потоке света тени казались особенно черными и четкими. Тени домов стлались полотнищами, будто на какой-то огромной веревке вывесили гигантские простыни и наволочки. Зато деревья отражались причудливыми арабесками. Ступать по ним невольно хотелось с осторожностью, чтобы не повредить хрупкие узоры ветвей. Длинноногий Наум их перешагивал, невысокий доктор старался обойти.
– Вам нужно беречь вашего мальчика.
– Может быть осложнение?
– Нет, не думаю. Я о другом.
– О другом?
– Да. Совсем о другом. Я наблюдал за вашим ребенком. У него тонкая организация. Он очень впечатлительный. В его глазах я видел вековую печаль нашего народа…
Наум не любил таких разговоров, но ему не хотелось возражать доктору, который выходил его сына.
– Вы хотите что-то посоветовать?
– Да. Вот именно. Вам.
– Я вас слушаю.
– Если вы любите вашего мальчика – а как же вы можете его не любить! – вы должны больше думать о нем.
– Поверьте, дороже его…
– Вот-вот! И поэтому вы должны думать о нем. То есть вы должны беречь себя, чтобы сберечь его. Больше беречь себя.
– Вы же знаете, кто я, Юлий Борисович, я…
– Погодите! – не дал ему договорить Гросман. – Вы революционер, я понимаю, и поэтому есть много людей, которые желают вам зла.
– Не мне одному. Я не могу беречь себя больше, чем позволяет обстановка.
– Ах, я все это знаю. Вы верите в преобразование мира. Но если вы так уж верите, то подумайте, для кого вы хотите его преобразовать? И может ли всемирное счастье заменить ребенку отца?
– Всемирное счастье тоже кое-что значит, – возразил Наум мягко.
– Но я обыкновенный детский врач, и я думаю о детях, которых лечу. А что касается мировой революции…
– Вы просто не верите в нее.
– Если хотите знать правду, я не верю. Но я не собираюсь вас агитировать.
«Сколько же их, еще неверящих, – подумал Наум устало, – а ведь он умный человек. И не эксплуататор, не то что этот жулик Самойлович…»
– И не нужно. Но почему вы заговорили о людях, которые желают мне зла? Это общая мысль или конкретная?
– А вы не знаете?
– Я знаю, что моя жизнь всегда в опасности, но если вы имели в виду определенных людей…
– Я не осведомитель! – Доктор вскинул голову, и очки его сверкнули в лунном свете. – Я только человек одной с вами крови. Я хочу вам добра.
– А Самойлович? Он тоже хочет мне добра?.
– Почему вы спросили о Самойловиче?
– Недавно мы говорили с ним и не поняли друг друга. Вот вам и кровь. Нет, в кровь я не верю, как вы не верите в мировую революцию. Я верю в братство людей и в классовую борьбу.
– Как можно совместить братство и борьбу?
– По законам диалектики. Это наука.
– Мне чужда наука, оправдывающая вражду.
Что он мог ответить Гросману? Еще в детстве Наум не понимал, почему всемогущий бог разделил людей между своими пророками и они, поклоняясь кто Христу, кто Моисею, кто Магомету, так охотно поднимают руку друг на друга. Потом он увидел, что от вражды не защищены ни стан единоверцев, ни даже сердца родных. Он сам убедился в этом, когда ушел в революцию, не оправдав надежд семьи. Его дед выстаивал с лотком на улице под солнцем и снегом, отец был уважаемым бухгалтером, а сына прочили в солидные коммерсанты. Маркс открыл ему глаза, и темный мир вражды и бедствий оказался вдруг ярко высвечен всепроникающим светом единственно верной теории.
Но для Гросмана светил другой маяк.
– Тысячи сынов нашего немногочисленного народа уже сложили головы в этой вражде, которую вы называете классовой борьбой. Неужели вы не видите, что наш народ не может позволить себе такие жертвы?
– Это жертвы всего человечества.
– Я не могу думать обо всем человечестве, – повысил голос Гросман. – Меня волнует судьба только одного народа, давшего мне жизнь.
Они остановились. Один высокий, в пенсне, другой приземистый, в очках. Остановились посреди улицы, и тени их. – длинная и короткая – угрожающе сдвинулись.
– Доктор! Видит ваш бог, как я благодарен вам за моего мальчика. Но не смейте так говорить! Неужели к другому ребенку вы пришли бы с другим сердцем! Ведь вы врач!..
– Да! И никто еще не сказал мне, что я плохой врач. Но сейчас речь не о моей профессии. Я о вас говорю, Наум.
– Я революционер. Я интернационалист, доктор.
– Как вы слепы, Наум, как вы слепы! Мне жаль вас. Вы еще горько поплатитесь за то, что таскали каштаны из огня для чужих…
– Ну, достаточно, Юлий Борисович.
– Я только просил вас поберечь себя.
– За счет революционного долга? За счет снисходительности к классовому врагу? За счет попустительства кровососу Самойловичу, который всегда, кстати, прекрасно ладил с уголовным миром.
– Вот теперь вы ближе к пониманию, – сказал Гросман.
– А-а! – в негодовании воскликнул Наум. – Так вот кто мне угрожает!
– Бог с вами! Бог с вами, Наум, – замахал доктор короткими руками. – Самойлович религиозный человек. Он не сделает плохого единоверцу. Я говорил только о бандитах.
– Ах, Юлий Борисович, – вздохнул Наум, – ну, какой он мне единоверец! Он мой классовый враг, и он это понимает лучше вас.
Они уже подошли к небольшому каменному особняку, приобретенному доктором перед войной у разбогатевшего грека-негоцианта. Высеченные в камне мужчины и женщины в туниках разыгрывали на стене сцену из «Илиады». В руках у них были мечи и чаши. Луна четко высвечивала барельеф.
– Время рассудит нас, Наум. Если вы победите, я закажу другой сюжет. Вместо колесниц – тачанки, вместо мечей – буденновские шашки. А кубки придется заменить солдатскими кружками. Это будет ваш эпос. А пока желаю вам всего доброго.
Он хотел смягчить остроту спора.
– До свидания, доктор. Не нужно выбивать шашки. Будет другая жизнь и другие символы.
Наум возвращался с мыслью о сыне. Было больно, что он не может уделить ему больше времени, и радостно, что мальчик выздоравливает, что сейчас он увидит его, поцелует потный горячий лобик, и, может быть, ребенок улыбнется во сне.
Он не успел поцеловать сына, но спас ему жизнь.
Правда, он никогда не узнал, что Сажень взял с собой три гранаты, чтобы швырнуть их одну за другой в окно его комнаты, где душной ночью, невозможно было закрыть плотные ставни.
Сажень вошел в тень напротив дома и, слившись со стеной, продел палец в кольцо первой лимонки. Секунды оставались до броска, когда он увидел приближающегося человека и сразу же узнал его в ярком лунном свете. Он не мог ошибиться, потому что хорошо помнил по централу, да и по местной тюрьме, где они вместе со многими шагали вереницей, друг за другом, по квадратному двору на положенных прогулках.
Осторожно Сажень высвободил палец из кольца. Он был доволен, потому что, считая себя мстителем, не хотел крови посторонних людей, кто бы ни оказался в комнате. Покарать следовало только приговоренного, и сама судьба пошла ему навстречу. Опустив гранату в карман, Сажень взялся за рукоять «смит-вессона». Ему нравился этот тяжелый револьвер крупного калибра…
– Миндлин!
Голос резко вырвал Наума из радостных дум.
Рука рванулась к нагану, но задержалась. Подумал: если хотят убить, уже бы выстрелили…
Сажень по-прежнему стоял в темноте, и Наум его узнать не мог.
– Кто вы?
– Товарищ по борьбе. Которую вы предали.
– Что вам нужно?
Он все-таки дотянулся до нагана, но было уже поздно.
– Твоей смерти, изменник!
Жена не спала. Она слышала. Бросилась к окну и сначала увидела, как из черной тени сверкнул огонь. Наум сделал шаг вперед. Она еще успела подумать: не попал! Но трудно было промахнуться, стреляя с нескольких шагов в хорошо освещенного человека. Наум умирал быстро – две-три секунды. Падая, он был уже мертв.
Сажень слышал отчаянный крик жены. Но это его не тронуло. Его совесть была чиста. Он быстро сделал несколько шагов и свернул в подворотню проходного двора. Вышел на соседнюю улицу, завернул за угол и через несколько минут без стука отворил незапертую дверь.
Двое, сидевшие в неосвещенной комнате, поднялись навстречу.
– Как?
– Привел в исполнение.
На Саженя навалился приступ кашля.
В темноте забулькало.
– Возьми.
В протянутую руку сунули стакан. Глуша кашель, Сажень выпил водку большими глотками. Взял горбушку, натертую чесноком, откусил.
– Теперь они будут знать…
Еще разлили, и Бессмертный из темноты сказал весело:
– Со святыми упокой Рабиновича с женой!
* * *
Барановский сидел на клеенчатой больничной кушетке в крошечной комнатушке, которую занимал при медицинском факультете.
Кроме него, в комнате было еще двое – Софи и Юрий Муравьев.
– Юра, мне кажется, прошлый раз, на набережной, мы расстались с чувством некоторого недоверия, и я очень рад, что сегодня вы без промедления откликнулись на мою просьбу зайти…
Просьбу передал Воздвиженский. Она несколько удивила Юрия, потому что именно подполковник, по мнению Юрия, имел больше оснований к недоверию. Но как бы ни расходились их нынешние взгляды, Барановский оставался для поручика его первым боевым командиром, еще на румынском фронте…
Осенью семнадцатого года их полк отошел с передовой, где наступило затишье, и стоял в Бессарабии.
С каждым днем и часом страна и армия втягивались в революционный водоворот, но здесь было еще сравнительно тихо. Юрию нравилась Бессарабия в золотых, красных, а кое-где и зеленых, почти летних, красках, нравились красивые крестьяне в узорчатых безрукавках, белые хаты, убранные самоткаными коврами. По утрам, раздетый до пояса, выбегал он в сливовый сад, растирал лицо и грудь ледяной колодезной водой и радовался восходящему солнцу, синему небу удивительной чистоты, воздуху, наполняющему тело бодростью.
Юрий отдыхал от орудийной пальбы, от людей в окровавленных бинтах, от глинистых осыпей окопных брустверов, даже от изнурившей, оставшейся за тысячу верст любви отдыхал. Ему было хорошо…
А рядом, у древней церквушки на сельской площади, вооруженные, как на фронте, солдаты в расстегнутых шинелях выкрикивали, столпившись:
– Мир без аннексий и контрибуций!
– Долой войну!
– Смерть буржуазии!
Юрия мало волновали эти сходки. Он ждал Учредительного собрания, которое разрешит все споры и скажет миру свое, русское слово свободы и любви к ближнему.
Но вот однажды во двор вошел Барановский, бледный, застегнутый на все пуговицы, в надвинутой на лоб фуражке.
– Что-то случилось, господин подполковник?
– Случилось то, что не могло не случиться.
Он протянул телеграфный бланк:
«Имение разграблено. Проси отпуск. Отец».
– Какая дикость, господин подполковник!
Отпуск дали, и Барановский уехал.
Потом было двадцать пятое октября.
Юрий в растерянности ждал дальнейших событий.
Кажется, за неделю до рождества он получил письмо от Барановского.
«Пишу с дороги. Кругом меня все серо, с потолка висят ноги, руки… Лежат на полу, в проходах. Эти люди ломали нашу старинную мебель, рвали книги, рубили наш парк и саженные мамой розы, сожгли дом моих предков. Это полузвери или еще хуже зверей. Отец скончался у меня на руках. Я еду на Дон. Только оттуда может быть спасена Россия. На Дону Корнилов. Обливаясь кровью, пойдем мы за ним до конца. Предстоит священная война. Приезжайте, я верю в вас и жду. Но, если у вас есть хоть маленькое сомнение, тогда не надо».
Они выехали на третий день рождества. Муравьев и еще шесть офицеров. С солдатскими документами, в солдатских шинелях, с солдатскими вещмешками.
На пути, который показался бесконечным, – непрерывно облавы, проверки, обыски. Особенно по ночам.
– Документы предъявите! У кого есть оружие – сдать!
Юрий, закрыв глаза, притворяется спящим, беззвучно шепчет молитву.
– Чей мешок?
Он не отвечает.
Кто-то с винтовкой трясет за плечо.
– Твой, товарищ? Развяжи.
Юрий «просыпается», развязывает.
– А документы есть?
– Есть.
– Ну, ладно.
Еще раз обошлось.
Линию, разделяющую противоборствующие силы, проехали без помех. Фронта еще не было.
В Ростове сначала все показалось иным, как пробуждение после дурного сна.
По главной улице, Садовой, шагает отряд людей в погонах. Поют не лихо, но стройно:
Там, где волны Аракса шумят,
Там посты дружно в ряд
По дорожке стоят.
Сторонись ты дорожки той,
Пеший, конный не пройдет живой!
Но это лишь первое, обманчивое впечатление. Ясность внес Барановский. Обняв Юрия, сказал:
– Как вы вовремя. Еще несколько дней, и могли бы не поспеть.
– Неужели так плохо?
– Город обречен. Красные охватывают полукольцом.
– А мы?
– Я только что с позиций. Удержать нет сил.
– Что же с нами будет?
– Сейчас в штаб.
Штаб Добровольческой армии в особняке знаменитейшего на юге миллионера Парамонова.
По залу с колоннами, где недавно еще танцевали, нервно шагает вперед и назад худой генерал Марков.
В приемной Корнилова застыл неподвижно конвойный текинец. Кабинет маленький – письменный стол и два кресла.
Корнилов в штатском потертом костюме, черном в полоску, в брюках, заправленных в солдатские сапоги, бледный, короткие волосы с сильной проседью. С Барановским здоровается за руку.
– Рассказывайте, подполковник.
Барановский докладывает подробно, не забыв упомянуть, что видел трупы убитых офицеров, погруженные на открытые платформы, под дождем с мокрым снегом.
У Корнилова, подавленно слушавшего доклад, блеснули маленькие черные глаза.
– На платформах? В такую погоду?
Остальное он знал и сам.
У Юрия спросил коротко:
– Хотите быть с нами? В такой час?
– Так точно, ваше высокопревосходительство!
– Спасибо.
Когда вышли, Барановский сжал ему руки:
– Поздравляю. Теперь вы корниловец!
Так позвал он Юрия зимой семнадцатого, и тот пошел. Сначала буквально пешим строем.
Через несколько дней вечером, когда замерли улицы, офицерские отряды, оставляя город, двинулись в поход, который позже окрестили ледяным. Уходили тайно, запрещено было отбивать ногу, разговаривать.
Вдруг из темной подворотни чей-то голос окликнул проходящих:
– Это кто идет?
В ответ согласно приказу полное молчание.
Спросивший понял его по-своему.
– Заждались вас, товарищи!
Сбился с ноги идущий рядом с Юрием штабс-капитан Воронцов. Скрипнул зубами в ярости. Но шаг выправил. Еще вчера за крик на улице «пришел вам конец, буржуи!» какого-то плохо одетого человека расстреляли на месте, даже имени не спросили, но сегодня приказ молчать. И молча во главе походной колонны с вещмешком за плечами шагает Корнилов…
Шли почти раздавленные, но верили: идут путем славным, пусть даже на Голгофу, за поруганную Россию. Потом годы кровопролитной войны, временные, опьяняющие успехи и горькое похмелье, и главный итог – Россия выбрала другой путь, они не нужны. Не зря крикнул тогда неведомый человек: «Заждались вас, товарищи!» Юрий эти слова навсегда запомнил, но принять никогда не мог. Даже сейчас. Но куда зовет его сейчас Барановский?..








