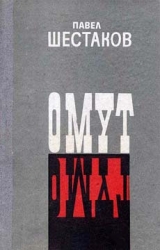
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Не обижайтесь! – говорил Воздвиженский. – Кажется, худшее уже позади. Вы удивились, почему произвел на меня впечатление этот действительно заурядный случай – нападение на поезд, и я отвечу. При каждом очередном насилии я спрашиваю себя: доколе же? Где предел? Кто же и когда скажет: хватит!
– В поезде, кажется, никого не убили.
– Это случайность.
– Я тоже так думаю. Во всяком случае, «хватит» скажут еще не скоро.
– Война, однако, утихла.
Барановский нахмурился.
– Война не может утихнуть, не достигнув своих целей. Людовик Восемнадцатый вернулся на родительский престол через двадцать пять лет после падения Бастилии.
– Неужели вы ждете нового Наполеона? Европейской войны? Пожара Парижа?
– Полагаю, Европа будет вынуждена обороняться.
Разумеется, Барановский не знал, как и когда начнет «обороняться» Европа, и что, прежде чем двинуться на восток, Центральная Европа поглотит Западную, и не буденновские конники, а германские кавалеристы проедут под Триумфальной аркой в Париже, и что, примкнув к этому походу новых крестоносцев, соискателей жизненного пространства, не цивилизацию и культуру понесет он на бывшую родину, а варварство и смерть.
Всего этого он, конечно, не знал и повторил уверенно:
– Сегодняшнее затишье – только передышка.
– Ужасно, – сказал Воздвиженский, – если вы правы.
– А как вы представляете события?
– Я предпочел бы, чтобы событий вообще не было.
– И история прекратила течение свое?
– По крайней мере, умерила бег к фатальному завершению. Раз у истории есть начало, неизбежен и конец. Но стоит ли спешить к нему?
– Как же вы его представляете?
– Я вижу последнего человека, который, обернувшись на прошедшие века, с ужасом схватившись за голову, воскликнет: «Зачем же все это было?!»
– Да вы и вправду пессимист. Вы даже не заметили, что у вас была выигрышная позиция.
– Да ну ее к лешему! – Воздвиженский смешал фигуры. – Зато вы оптимист. Предсказываете четверть века войн!
Лично ему предстояло прожить меньше. Но пока они были живы, сидели за шахматной доской, на которой Воздвиженский только что смешал фигуры, символы вечных сражений, и один мечтал о прекращении кровопролитий, не видя в них ничего, кроме слепой игры инстинктов и самолюбий, а другой ждал и готовился к новым битвам, чтобы убить множество людей во имя идей, которые считал гуманными и справедливыми.
В эту минуту к столику и подошла молодая женщина, которую Воздвиженский знал как сестру милосердия.
Барановский встал.
– Добрый вечер, Сонечка. Вы уже освободились?
– На сегодня да.
– Как ваши страждущие?
– Они страждут.
– А вы по мере возможности стремитесь облегчить их участь?
– Мои возможности невелики.
– Я слышал о вас много хорошего, – сказал Воздвиженский, тоже поднимаясь.
– Вы знакомы? – спросил Барановский.
– Соня, – просто протянула руку сестра.
– Я рад. Я часто вижу вас…
– Спасибо.
– Вы с нами, Роман Константинович?
– Был бы счастлив проводить. Но, пожалуй, займусь еще немного в лаборатории. Деликатные обстоятельства. К моей хозяйке вернулся сын, которого считали погибшим. У него здесь невеста, и я не хотел бы сегодня быть лишним среди близких людей.
– Считали погибшим? – переспросил Барановский.
– Да. Редчайшая и счастливейшая неожиданность.
– Мне помнится, вашу хозяйку зовут госпожа Муравьева?
– Да, именно так.
– Помнится, она заходила к вам сюда?
– Однажды.
– Я очень рад за нее. В наше время счастливые случайности так редки.
– Я тоже очень рад. Юрий очень приятный юноша.
– Это ее сын?
– Да.
– Прошу вас, Роман Константинович, передайте им мою радость. Когда-то на фронте я знавал офицера с такой фамилией. Хотелось бы надеяться, что это он.
– Вы хотите передать…
– Только то, что я вам сказал, Кланяйтесь матушке.
– Спасибо, обязательно.
И они разошлись.
Воздвиженский вернулся в клинику, а Софи и подполковник вышли на жаркую улицу.
– Вы взволнованны, Алексей Александрович.
– Не скрою, да.
– Это опасно?
– Напротив. Может быть, удача.
– Вы действительно знали этого офицера? Или его однофамильца?
– Я знал его.
– И это наш человек?
– Вот этого утверждать не могу. Когда мы расстались, если можно так сказать в данном случае, он стоял под дулами красноармейских винтовок. Я не знаю, почему он жив. Но я надеюсь… Но пока оставим это. Здесь требуется серьезная проверка. Что у вас? Это сейчас главное.
– Он согласен.
– Его условия?
– Пришлось поторговаться.
– И вы уступили?
– Еще бы! Он обещал мне жизнь.
– Впрямую?
– Абсолютно.
– Итак?
– Мы делим семь долей из десяти, но я думаю, что больше.
– Он убьет их?
– Я уверена.
Барановский посмотрел на Софи.
– Я понимаю вас, Алексей Александрович. Он убьет и меня.
– Нет.
– Я убью его?
– От этой грязной работы вы будете избавлены. Но риск остается. Не будем лицемерить. Я восхищен вашим мужеством.
– Спасибо.
– Верьте мне.
– Всякое может быть. Но я готова ко всякому. Я даже рада его намерению.
– Рады?
– Да. Тогда наша совесть будет чиста, – сказала она жестко.
* * *
Таня вошла в полутемную комнату.
От яркого солнца ее защищали ставни-жалюзи, от них по полу тянулись две полосатые дорожки. Юрий стоял посреди комнаты, но оба боялись сделать решающий шаг. Нет, совсем не так представляли оба эту минуту, когда прощались в слезах – он, выступая в победоносный поход на Москву, она, храня под сердцем его ребенка.
Два года прошло с того дня.
А кажется, что сто лет. И встреча – не конец разлуки, а начало нового, неизвестного, после разлома в жизни. Не состоялся поход, обрушилось все, не было больше счастливых упований, он пережил смерть, она – рождение новой жизни. Вот что осталось позади. Но сблизило или разделило, отторгло навсегда?..
И теперь оба, шагнув друг к другу, не знали, сделать ли еще один, последний шаг…
Но наконец решились и протянули друг другу руки.
Он положил свою ей на плечо и не узнал его. Два года назад оно было крепким, теперь Юрий ощутил вздрагивающую от волнения косточку.
– Таня! Я не вижу тебя.
И он повернулся к окну, чтобы распахнуть через форточку ставни.
– Нет, Юра! Нет!
– Почему?
– Я подурнела.
– Что ты!..
– Это правда.
Ей было стыдно своей поблекшей в муках внешности, и она совсем не ощущала его отцом своего ребенка.
– Таня!
– Да, Юра. Это я.
– Неужели мы вместе?
Он сказал фразу, которая может звучать восхищением перед чудом, а может быть и обычной банальностью. Сейчас она не была ни, тем, ни другим, в ней отразилось лишь тревожное недоумение. Он смотрел и не узнавал. Конечно, она изменилась и в самом деле подурнела. Но было и что-то еще, более важное. Изменилась не только внешность. Перед ним стоял уже не тот человек. А к этому он не был готов. И он растерялся.
Порыва не получилось.
– И все-таки мы вместе, – сказал он еще раз, настаивая на очевидном, может быть, потому, что не только ее, но и своих чувств не узнавал.
Он растерялся, в сознании как-то не укладывалось, что эта повзрослевшая, похудевшая женщина должна была стать матерью его сына или дочери, и, вместо того чтобы сразу спросить о ребенке, он сказал:
– Почему ты не пришла сразу?
– Я испугалась.
– Чего?
– Ведь я почти два года считала, что тебя нет. За это время так много произошло…
– Ты забыла меня?.
– Что ты!.. Но я привыкла не надеяться.
– И кто-то стал между нами?
Она ответила слишком поспешно:
– Нет, нет!
– Ты сказала так, будто это есть.
– Я не обманываю тебя.
– Прости. В самом деле, прошло много времени. Ты могла и разлюбить.
Наверно, он ждал решительного «нет», но Таня, скованная главным, что предстояло в их разговоре, не могла больше говорить о том, что только отдаляло неизбежную минуту.
– Юра. Почему ты не спрашиваешь о нашем сыне?
– Сыне?!
– Да. Почему?
– Я не знал, как задать этот вопрос. Мама сказала, что ты одна, что у тебя нет ребенка. И я подумал… Я сам не знаю, что я подумал. Я ждал, что скажешь ты. Значит, мама до сих пор ничего не знает?
– Она не знает.
– А ребенок есть?
– Его нет, Юра.
Она едва шевелила губами, но он расслышал.
– Что произошло?
– Он родился мертвым.
Как ей хотелось знать, что испытал он в эту минуту!..
Юрий думал о ребенке все эти долгие месяцы. Сначала он только радовался ему, веря, что ребенок, навеки соединив его с Таней, сломает навсегда тот лед, что возникал постоянно в их трудных отношениях. Но потом, когда он потерпел поражение и оказался пленником в собственной стране, когда стало ясно, что жизни, о которой они мечтали, не будет, мысли его изменились, и он уже думал о том, кому предстоит родиться, со страхом, казня себя за то, что погубил Танину жизнь. Но вот кончилась война, он выжил и был отпущен домой, где ждали его родные люди, чтобы вместе начать еще неведомую новую жизнь, в которой предстояло найти свое место. И теперь уже в этом предстоящем и конечно же нелегком поиске ребенок, которого Юрий, никогда раньше не испытывавший отцовских чувств, не видел и не знал даже, мальчик это или девочка, мог быть только помехой. И, услыхав, что такой помехи нет и не будет, Юрий, стыдясь себя, испытал чувство облегчения.
Он опустил голову, чтобы скрыть в полумраке это скверное чувство, и спросил:
– Как же это случилось?
– Я уехала в Вербовый, на родину.
– Почему?
– Здесь почти все время шли бои.
Она не хотела говорить о Максиме, щадя Юрия.
– И ты рожала в деревенской хате? И ребенка принимала повивальная бабка-знахарка?
– Да.
– Но почему ты не сказала маме?
– Ей было и так тяжко. Ведь ты не прислал нам ни одной весточки.
– Я не знал, что вам сообщат о моей смерти. И не знал, что со мной будет.
– Я не упрекаю. Я рассказываю, как все было. Потом закрепились красные…
– Это они!
– О чем ты?
– Они убили нашего сына. Если бы ты не была вынуждена бежать, если бы ты легла в клинику, если бы ребенка принимали врачи, он был бы жив!
Юрий прижал пальцы к вискам.
– Что ты, Юра! Такие несчастья случаются везде.
– Не говори так. Это сделали они.
И он опустился на диван. Он выглядел убитым и страдающим, но мысль связать смерть ребенка с победой красных успокаивала, позволяла подавить стыд гневом, и он разжигал этот гнев.
– Но они заплатят.
– Юрий! Умоляю! Хочешь, я стану на колени? Ты не должен больше ни в чем участвовать. Война кончилась. Бог отвел от тебя смерть, так побереги же и ты себя. Ради нас, меня и мамы.
– Простить? Жить в ярме, пока не пошлют под нож? Нет! Ты говоришь, война кончилась! Это неправда. Она кончится, когда победит народ, а он только поднимается, пробуждается от дурного сна, от обмана.
– Юра! Ты погубишь себя! Народ за большевиков.
– Он был за большевиков, но его обманули. Теперь правда открылась, и народ ее видит. Главное только начинается. По всей стране восстания. Даже на поезд, в котором я возвращался, напали.
– Это же банда напала, а не народ.
– Так говорят коммунисты. Это они называют повстанцев бандитами.
– Юра!
– Замолчи! Я вижу штормовую волну. Это будет девятый вал, и он сметет… И я буду с народом.
«Неужели он на новую мою муку вернулся? – подумала Таня и тут же раскаялась в этой мысли. – Я должна спасти его, должна. Только так я искуплю свой обман, свою вину».
– Успокойся! После этих ужасных лет… Мы оба живы чудом. Ведь и я могла умереть вместе с ребенком. А снаряд, который попал в наш двор!.. Я не могу больше выносить кровопролитие. Мы вместе всего считанные минуты, а ты снова о войне, о смерти. Остановись, прошу тебя…
Она провела пальцами по его спутавшимся волосам. Эта непривычная ласка и успокоила, и взволновала его. Он приподнял ее и усадил рядом. Его близость всегда и наполняла ее счастьем, и пугала. Даже в ту ночь, когда она уступила Юрию, она почти принудила себя сделать это, думая о близкой и неизбежной разлуке, о фронте, где уже через несколько дней он может погибнуть. А когда услыхала о его гибели, будто и сама умерла, подавив все живые чувства. И сегодня шла к нему, думая только о ребенке, о мучительном объяснении, но не о близости, не о ласке.
И будто бы все повторялось. И ее первая ласка будто бы от рассудка шла, а не от чувства, а тем более страсти. Но вот, когда услышала она его прерывистое дыхание, когда нашли ее его губы, произошло вдруг ей незнакомое – будто и не было никогда их противоборства, и каждое движение его наполняло ее теперь не тревогой, а счастьем, и хотелось во всем покориться, вместе забыть обо всем на свете…
– Ты моя жена, – шептал он.
– Да, да, муж мой…
– Сколько же тебе пришлось перенести без меня!
– Но теперь ты здесь, со мной.
– Да. И забудь об этом несчастном малютке.
Он не заметил, как она напряглась в его объятиях.
– Может быть, так даже лучше…
– Что лучше, Юра?..
– То, что его нет.
– Отпусти меня!
– Таня! Что с тобой?
Но она уже стояла посреди комнаты, лихорадочно поправляя одежду.
– Тебе этого никогда не понять.
Она постепенно приходила в себя. «Максим был прав. Но разве я меньше виновата от этого?»
– Юра! Я не хочу ссориться. Я исстрадалась. Я истеричка, наверно. Подумай, нужна ли я тебе? Подумай.
– Я думаю об этом всю свою сознательную жизнь!
– Сейчас все изменилось. И жизнь, и все.
* * *
Барановский искал встречи с Юрием, но встретил его «случайно», на набережной, где до революции играл в ротонде духовой оркестр, а в девятнадцатом пушки снесли колоннаду, и остатки ее полукругом возвышались среди сорной травы, напоминая развалины древности.
Юрий стоял у парапета и смотрел на водоросли, щупальцами спрутов скользившие по гранитным камням причальной стенки.
– Здравствуйте, господин поручик.
Муравьев вздрогнул и обернулся в изумлении.
Барановский, напротив, смотрел, будто ничего необычного не произошло.
– Вы удивлены. Это естественно. А я нет. Я знал о вашем возвращении.
Юрий даже не нашелся, как обратиться к Барановскому. Не величать же его, в свою очередь, господин подполковник!
– Это в самом деле вы?
– Понимаю. Я разочаровал вас. Обещал сражаться под Парижем, в Америке, а сам здесь… Что поделаешь… Судьба странная штука. Спасла вас от красноармейской пули, а меня свалила в тифу, чтобы мы снова встретились.
– Как вы узнали, что я здесь?
– Это просто. От вашего квартиранта, господина Воздвиженского. Но как вам удалось избежать смерти?
– Косвенно я обязан вам. Пока за вами гнались, подъехал какой-то высший чин и заявил, что расстреливать пленных в Красной Армии строго запрещено.
– Вы не представляете, как я рад. Поверить не мог. К глубокому сожалению, я не мог прийти к вам в дом.
– Вы… нелегал?
– Можно сказать и так. Хотя и не сменил фамилии. Но, если наше знакомство вас компрометирует…
– О чем вы говорите!
– Я не сомневался. Мы можем немного побеседовать?
– Конечно. Это такая встреча!..
– Спасибо, Юра. Тогда поднимемся. Наверху не так многолюдно.
Они подошли к каменной лестнице, тянувшейся по склону вверх, в город, и начали не спеша подниматься по истертым плитам-ступеням.
– Однажды я видел мельком вашу невесту. Конечно, она не узнала меня в этом шутовском облачении, да и вряд ли запомнила с того дня, когда я занес ей ваши стихи и часы… Но я видел ее и, надеюсь, она и ребенок в добром здравии?
– Как раз о них я думал там, внизу, когда вы окликнули меня. Таня здорова, а наш мальчик умер.
– Это большое горе.
– Оно не случилось бы, одержи мы победу. А вы, простите, не отказались от борьбы? Впрочем, я понимаю, это нескромный вопрос.
– Что же нескромного в том, если офицер спросит у офицера, верен ли он присяге. Я верен. А вы? Считаете ли вы себя по-прежнему офицером?
Юрий заколебался.
Они остановились передохнуть на одной из лестничный, площадок, и Барановский молча ждал ответа.
– Я по-прежнему не приемлю большевизма, но и белое движение себя исчерпало.
– Что же остается?
– Вечен один народ.
Они снова двинулись вверх.
– Вы, кажется, за Советы без коммунистов? Забавный довольно лозунг. Вроде – за дырку без бублика. И вы верите в это пустое место, в эту химеру?
– Но вы же готовы отдать жизнь за свои убеждения?
– Моя борьба реальна. Но я искал вас не для того, конечно, чтобы погрузиться в очередной бессмысленный русский спор. Где вы видите борющийся народ?
– Кронштадт. В Тамбовской губернии…
– Ах, Юра! Оставьте. Есть такая вульгарная пословица: «Хохол взад умен», – Сначала любимый вами народ захватил для большевиков власть, потом поколотил и изгнал нас, а теперь схватился за голову. Поздно. Все эти братишки-матросики, болтуны-эсеры с бомбами, мужичье, прижатое налогами, – это всего лишь глина истории, а не движущая сила. Их ум, как эти солнечные часы. – Барановский показал на столбик с медным треугольником наверху. – Когда небо затягивают тучи и грохочет гроза, они слепы, и доверять им глупо.
– Всякое сравнение хромает.
– Вы интеллигент, Юра. И не понимаете народа. А я из рода тысячелетних крепостников. Я лучше знаю это рабское племя, которое мы в муках совести возвели на пьедестал и сделали из него идола. Или, вернее, идолище поганое.
– Я согласен, что народ темен и развивается медленно, но он бунтарь по природе. Он взбунтовался против нас, теперь он восстал на новых господ. Пусть с опозданием, пусть стихийно… Недавно я оказался в поезде, который подвергся нападению…
– То есть ограблению?
– Разве отнимать жизнь гуманнее, чем отбирать кошелек?
Барановский рассмеялся, облокотившись на столбик солнечных часов.
– Юра! Российское краснобайство неистребимо. Его не выгрызли из вас даже вши в окопах. Да, мне много раз случалось убивать, но никогда грабить. Простите великодушно, так воспитан, предпочитаю восьмую заповедь шестой.
– Но тот, кто организовал нападение, не был краснобаем.
– Я что-то слышал об этой личности. Кажется, его кличка Техник?
– Да. И я его хорошо знаю.
– Вот как?
Барановский спросил очень серьезно.
– Мы были приятелями в свое время. Когда я учился в гимназии. А он в реальном училище.
– И вы узнали его?.
– Он меня тоже.
– И мило поболтали, пока он экспроприировал вашу нетрудовую собственность?
– У меня был только браунинг. Он вернул его.
– Да… Пушкин бы сказал: «И невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись».
– Нет. Мы не обнимались. Мы сделали вид, что не знаем друг друга. Я понял, что он так хочет. Но он намекнул, что мы можем встретиться.
– Зачем?
– Может быть, он хочет привлечь меня в свой отряд. Ведь у меня был пистолет.
– Как вам удалось сохранить оружие?
– Я выменял браунинг на пайковое пшено.
– Офицерское оружие – на пшено! О времена… Так что же представляет из себя ваш Дубровский?
– В свое время я считал его оригиналом.
– Видимо, вы не ошиблись.
Барановский произнес это с иронией, и Юрий тут же возразил:
– Он не бандит в вашем понимании. Я видел – он настоящий вожак, а его люди верят ему и идут за ним.
– Обшаривая селянские торбы?
– Простите, но я обязан возразить вам. Когда мы шли в бой, мы чтили только мертвых. Не говорю уже о государе… Но наши кумиры – Корнилов, Марков, Дроздовский, – прежде чем стать кумирами, должны были сложить головы. Живые же вожди были нелюбимы. Вспомните анекдоты о Шкуро, грязные сплетни о Мамонтове, да и о главнокомандующем сплошь и рядом говорили непочтительно. Эта желчь разъедала нас. А народ любит своих вождей. Он поет песни о разбойнике Стеньке. А притягательность Пугачева? А красные мифы о Буденном? Даже Троцкий – «вождь мировой революции». А ведь он, как говорят, в Херсоне или в Николаеве в редакции шубу украл.
– Ну, я думаю, это в Осваге выдумали. А всерьез, Троцкий – вспышкопускатель. Не зря же его в дни нашего наступления заменили Каменевым, царским генералом.
– Разумеется, народ его отринет.
– Предпочтет Техника?
Теперь уже Барановский сознательно подчеркивал неприязнь к Технику.
– Так далеко я не захожу.
– Однако старое знакомство собираетесь восстанавливать?
– Он дал понять, что хотел бы повидаться со мной, и намекнул, где это можно сделать.
– Что ж… Дело ваше. – Барановский развел руками. – Подробностей не спрашиваю. Мы, кажется, в разных станах, но, надеюсь, по одну сторону баррикад.
– Вы по-прежнему…
– Безусловно. Вы верите в народ, а я в русское государство. И это не парадокс.
– Единое, неделимое?..
– Для меня Россия может быть или великой, или никакой.
У солнечных часов они и простились.
Протягивая руку, Барановский сказал:
– Еще раз очень рад, что вы живы. Если сочтете желательным повидаться, меня всегда можно найти на медицинском факультете. Буду ждать. Честь имею…
Барановский очень хотел бы знать, к чему приведет встреча Юрия с Техником, но ему и в голову не приходило, что Техник может привлечь Муравьева к делу, им самим, Барановским, задуманному и подготовленному.
А случилось именно так…
* * *
По вечерам скромная чайная преображалась. Самовары исчезали, их место занимали многочисленные бутылки с напитками повышенной крепости, сизый табачный дым плавал под низким потолком, а на крохотной площадке в арке под сводом рослый в красной рубахе человек, похожий на палача, как их изображали на старинных лубках, пел заунывным голосом, растягивая меха гармони:
Не пропить мне тоски, не развеять.
Нам неволя судьбой суждена.
Эх, Расея, Расея, Расея…
Азиятская сторона!
Его мало кто слушал, стоял в небольшом зале гвалт, посетители шумно обсуждали каждый свое, иногда визжали пестро одетые женщины.
Юрий вошел и огляделся.
Свободных мест не было.
Техника тоже.
Потоптавшись, он повернулся, чтобы уйти, но в дверях один из служителей, по фигуре вышибала, остановил его жестом:
– Не спешите, господин товарищ. С вами желают повидаться.
Он сказал это скорее тоном приказа, чем оказывая услугу.
– Кто? – спросил Юрий, снова оглядывая зал и не видя ни одного знакомого лица.
– Попрошу за мной.
И, не спрашивая согласия, двинулся через зал в дальний угол, где оказалась малозаметная дверь, а за ней маленькая комната, своего рода «кабинет», где сидели за столиком Техник с молодой, не знакомой Юрию женщиной.
Буднично, как говорят с приятелем, которого не видел день или два, Техник сказал, показывая на свободный стул:
– Садись, Юра. Тут у меня маленькое убежище по вечерам… Я, видишь ли, не переношу табачного дыма. Но я имел в виду, что ты можешь появиться, и принял меры… Будь как дома.
Женщина рассматривала Юрия со сдержанным любопытством.
– Мой добрый гимназический друг, потом белый воин, поэт, э сетера, э сетера, – представил его Техник.
Почему-то из перечисленного она выбрала последнее:
– Поэт?
Юрию стало неловко.
– Совсем немного.
– А офицер?
Он не понял.
– Тоже совсем немного?
– Я вступил в армию в девятьсот шестнадцатом.
– «Ледяной поход»?
Ему показалось, что она не столько спрашивает, сколько утверждает.
– Мы виделись?
Она чуть улыбнулась:
– Может быть… В другом мире.
Кто жив – умрет,
Кто мертв – воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину…
Где были вы? – вопрос, как громом, грянет…
– Это Соня, – пояснил Техник. – Когда-то я любовался ею на черноморском берегу. Она сестра милосердия.
– Разве милосердие еще существует? – спросил Юрий.
– Иногда, – ответила она серьезно.
– И зря, – возразил Техник. – Милосердие – это ловушка для малодушных..
– Это очередной перевод или плод ума холодных наблюдений?
– Это плод. Довольно кислый, как видите.
– Так запьем же его горькой.
– За встречу!
– Где же вы встретились? – поинтересовалась Софи.
– На одной маленькой железнодорожной станции, – усмехнулся Техник.
– Ели котлеты в буфете?
– Нет, поезд стоит там очень мало.
– Но вы все-таки повидались?
– Мне пришлось попросить машиниста задержаться немного. Я расчувствовался, увидав старого приятеля.
– И он тоже?
– Разумеется, раз он пришел сюда.
– Значит, это не деловая встреча?
– Ни в коем случае! Что за дела?.. Вы меня просто не знаете, Софи! И это не удивительно. Я не такой, как все. Об меня даже Фрейд обломал бы зубы. Он утверждает, что тайное и злое мы прячем в подсознании. Короче, по Фрейду, мы лицемеры. И даже во сне мы видим только символы своих дурных устремлений. Это ерунда. Я устроен прямо противоположно. Я беру врага на мушку только наяву. А сны мне снятся совсем другие. И не только ночью. Вот и сейчас я вижу прекрасную страну, окутанную туманной дымкой. Я вижу парус на горизонте, я верю в любовь и дружбу. Я вижу широко открытые глаза юной девушки и камешек, отшлифованный морем, в ее руке. Сейчас она бросит его навстречу волне. И он не утонет, он скользнет по глади и устремится навстречу солнечному лучу, и они сольются… Вы умеете разгадывать сны, Софи?
– Вряд ли.
– И все-таки попытайтесь. То что я видел, это было или будет?
– Мои сны похожи на ваши.
– И что же?
– Я тоже вижу парус на горизонте.
– Это корабль надежды?
– В своем роде. Это королевский галион с грузом золота.
Техник засмеялся.
– Тогда атакуем его. Огонь!
И он выстрелил пробкой от шампанского.
– Выпьем же за флибустьеров, которые подстерегают галион в море!..
– На станции Холмы, – Добавила Софи.
Техник вздохнул:
– Вы разбудили меня.
– Кажется, вовремя. Посмотрите, какой балык.
Действительно, приведший Юрия вышибала снова вошел в комнату, неся тарелку с великолепным розовым балыком.
– Позвольте предложить на закуску?
– Давай, – кивнул Техник, но смотрел он не на рыбу на блюде, а в зал через полуприкрытую дверь.
– Кто это?
Вышибала оглянулся.
– Не знаю, – сказал он виновато, разглядывая молодого человека в броском клетчатом костюме.
– Нужно знать всех, кто здесь бывает.
– Это новенький. Сейчас я его спроважу.
– Погоди. Взгляни-ка, Юрий.
Муравьев, сидевший спиной к двери, обернулся.
– Да ведь это Шумов.
– Собственной персоной. Давненько я его не видел. А ты?
– Не помню, сколько.
– Пригласим? Уж больно забавно он вырядился.
Софи заметила осторожно:
– А стоит ли?
– Сейчас узнаем. – И Техник кивнул вышибале: – Зови.
– Будет сделано.
Шумов вошел и огляделся.
– Муравьев? Слава?
– Узнал? – спросил Техник.
– Еще бы! Да я, собственно, и искал…
– Кого? Нас?
– Ну, врать не буду. Такая встреча – приятный сюрприз. Позвольте и вам эти слова адресовать, – поклонился он Софи.
– Позволяю, – кивнула она. – Кого же вы искали?
– Подобно Диогену, я ищу человека. Вот вернулся в город. Все перевернулось, но какие-то люди же остались, верно?
Он говорил, добродушно улыбаясь.
– Остались, – согласился Техник. – Если мы тебе подходим, присаживайся.
– С удовольствием. Почтение всей честной компании.
– Вы что, нэпман? – спросила Софи.
– Похож? – откликнулся Шумов заинтересованно.
– На ряженого.
Он огорчился:
– Фальшь чувствуется?
– Чувствуется.
– Плохо. Обидно.
– Почему плохо? – поинтересовался Техник, отрезая кусочек от ломтика балыка.
– Да хочется поучаствовать в этой новой политике, а как вести себя, не знаю.
– А ты что, лишние деньги имеешь?
– Почему лишние? Лишних денег не бывает.
– Справедливо. Значит, нелишние имеешь?
– Есть немножко, – скромно ответил Шумов.
За столом переглянулись.
– Позвольте поухаживать, ваше степенство, – сказал Техник с иронической почтительностью и наполнил чистую рюмку, предусмотрительно доставленную вышибалой вместе со всем столовым прибором.
– Рад вас видеть, друзья, – поднял рюмку Шумов. – В наше время жить да еще пить и закусывать – это что-то значит.
С ним согласились.
Потом, когда закусили, Техник спросил:
– Откуда же ты появился?
– Из Курска.
– Это там, значит, наживают теперь состояния?
– Скажешь – состояние! Небольшое наследство.
– Понятно. Ездил в Курск получать наследство?
– Шутники вы, однако. Все случайно вышло.
– Случайно? Счастливая, конечно, случайность.
Шумов расплылся в улыбке:
– Как посмотреть. Вначале ничего счастливого не было. Я неподрассчитал немного с мобилизацией. Перебрался в Новочеркасск, думал, что Всевеликое без меня обойдется. Ан нет.
Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет, когой-то ждет…
Оказалось, меня.
– И что же? – с интересом расспрашивал Техник.
Софи слушала внимательно.
Юрий вежливо улыбался.
– Да что? «Шашки вон! Пики к бедру! Справа по четыре… Рысью марш!..» И в мамонтовский рейд.
Техник снова разлил.
– Ура белым орлам!
Софи поморщилась и пить не стала.
Шумов отметил это, не подав виду.
– И сколько же ты геройствовал?
– Дошел до Ельца.
– А дальше?
– Дальше я вспомнил, что у меня в Курске престарелый, почтенный дядюшка. И я подумал, что грешно не навестить единственного родича.
– И навестил?
– Исполнил христианский долг.
– Короче, вы дезертировали? – спросила Софи.
Шумов смущенно развел руками:
– Можно, конечно, считать и так. Но дядюшка думал иначе. Я застал его, увы, при последнем издыхании, и он был счастлив благословить беспутного племянника перед кончиной. Конечно, война всех делает немного циниками, но я проводил старика со слезами. Мне было жалко его. Честное слово!
– Но наследство, наверно, утешило вас?
Софи посмотрела прямо на Шумова.
– Простите, мадемуазель, если я затронул…
– Вы ничего не затронули. Просто мы по-разному смотрим на некоторые вещи.
– Я чту чужие убеждения.
– А свои? У вас есть свои?
– Мой девиз: «Не сотвори себе кумира».
– Кроме золотого тельца?
– За которым сбежал из Ельца, – рассмеялся Техник.
И Шумов смеялся.
«Лавочник!» – думала Софи брезгливо.
«Идейная», – наблюдал за ней Шумов, «держа улыбку».
Такого рода враги вызывали в нем особого свойства неприязнь. Горячо и непоколебимо убежденный в правоте и справедливости революционного дела, Андрей Шумов просто не мог понять тех, кто защищал неправду и несправедливость не столько из корысти, сколько по убеждению.
«Ну, ладно… Защищай свою собственность, мошну, привилегии, но не подводи базу! Ведь идейным может быть только движение за свободу, за интересы угнетенных. Рука, поднятая на народ, преступна, ибо ею движет не идея, а корысть, выгода, как ни прячь ее в велеречивой софистике…»
Так он думал, так он верил.
Андрей Шумов навсегда отринул жизнь старую не потому, что сам был беден и угнетен. Его лично никто не эксплуатировал, и семья его жила в скромном достатке. Он никогда не завидовал богатым сверстникам, но не мог принять порядок, при котором одни позволяли себе не только обирать других, но и презирать ограбленных, делить людей на низших и высших и выдавать ограниченность и самомнение за убеждения и даже идейность.
И он сразу почувствовал, что эта незнакомая ему женщина способна презирать и презирает тех, кого считает низшими, хотя сейчас, в трактире, она презирала Шумова за то, что тот собирается стать лавочником, то есть пробиться наверх.
Зато Юрий ей понравился.
Софи призналась в этом сразу, потому что не любила хитрить с собой и обладала достаточно ясным умом, чтобы быстро и откровенно разбираться в собственных чувствах.
Правда, она сказала себе:
«Он похож на Мишеля».
Впервые после самоубийства Михаила ей нравился другой человек. В сущности, в этом не было ничего удивительного: время шло, она была молода, а Юрий всегда привлекал женщин. Сочетая внешнюю мужественность с внутренней мягкостью, он притягивал одновременно и силой, и слабостью, соблазняя возможностью покорить эту силу.








