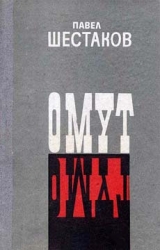
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
– Даже против совести?
– Не смей!..
– Ого! Да вы что, братцы?
В дверях стоял розовощекий, благоухающий одеколоном, расчесанный на косой пробор молодой нэпман в шевиотовом костюме-тройке.
Оба оглянулись и замолчали, Максим – изумленно, а Миндлин – нахмурившись. Оба узнали вошедшего, но Наум его ждал, а Пряхин увидел неожиданно. Последний раз они виделись два года назад, а это было долгое время. За такое время многое могло произойти.
– Шумов? Андрей? – спросил Пряхин.
– Собственной персоной.
И молодой человек шагнул навстречу, протягивая обе руки, но Максим отступил на шаг, разглядывая одежду Шумова.
– Что за маскарад? и ты в буржуи подался?
– Иду в ногу со временем, – улыбнулся тот.
Но Максим не заметил иронии.
– Куда идешь?
– Да вот… К товарищу Миндлину.
– Откуда? Зачем? – продолжал Пряхин резко.
А Шумов еще шутил:
– По торговым делам.
– Неужто лавочку открыл?
– Есть кое-какие замыслы.
Максим повернулся круто.
– Ясно. Торгуйте. Только без меня.
И вышел, хлопнув дверью.
– Что это с ним? – спросил Шумов обескураженно, теряя улыбку. – Я так соскучился по вас, черти. А у вас тут что? Неужели драчка:?
Вместо ответа Наум сказал строго:
– Ты не должен был входить в кабинет без предупреждения, когда я не один.
– Мне сказали, что у тебя Пряхин.
– Тем более.
– Неужели серьезно?
– Пряхин разошелся с партией, а ты знаешь: кто был своим, опаснее того, кто был врагом.
– Только не Максим. Это же подлинный красный орел.
– Об этом я ему только что говорил. Сердце у него орла, а в голове что?
– Вы ему не доверяете?
– Не знаю, как он поведет себя завтра.
– Пряхин не предаст.
– Но дров наломать может. Ну, ладно. Оставим это пока. Тебя Третьяков ждет.
* * *
Когда-то Третьяков был грузчиком в порту.
Из тех, что знали себе цену. Цену такие грузчики писали химическим карандашом на босой пятке и дремали в тени, дожидаясь серьезных предложений. Цифра на ноге означала, что торговаться бесполезно, за меньшую сумму грузчик работать не станет и просит по пустякам не беспокоить.
Работал Третьяков красиво и неутомимо, а когда нужно было подкрепиться, брал французскую булку, выщипывал мякоть, набивал икрой – дед у него браконьерствовал понемножку. – и закусывал этим «бутербродом» стакан казенного вина.
Третьяков был силен, смышлен, уважаем и жил в достатке, но он видел вокруг себя много слабых, бедных, темных людей и понимал, что это выгодно богачам и охраняющей их власти.
В девятьсот втором году в городе произошла большая, ставшая на всю Россию известной стачка. Дело было зимой, порт опустел, и Третьяков ходил на сходки, слушал ораторов. В пятом году он уже валил телеграфные столбы на баррикады и метал бомбы…
Потом был суд, каторга, побег через таежные сопки и распадки, вместо бескрайней Сибири миниатюрная Япония, неизвестно как одолевшая Голиафа, длинный переход в Австралию матросом на английском «купце», первозданная страна с невиданными животными, которых природа снабдила сумками…
Потом еще более длительный переход во Фриско и бесконечные мили рельсов, до которых рукой можно дотянуться из ящика под пульмановским вагоном. И вот самый большой в мире город, ревущие над головой поезда, эмигрантские ночлежки, россыпи бриллиантов в витринах магазинов на Пятой авеню.
И всюду люди, новые люди. Он старался понять их язык и обычаи, научиться полезному, побольше узнать. В Европу вернулся в костюме с галстуком, читал газеты на английском, а потом и на немецком языках, рвался на родину, но колючая фронтовая проволока отрезала его от России еще на три года. Именно тогда сблизился он с большевиками-эмигрантами и сделал свой окончательный и сознательный выбор – только одна партия может изменить мир.
В октябре семнадцатого года он участвовал в аресте министров Временного правительства, а в декабре в Смольном его встретил знакомый еще по Сибири Дзержинский, взял за локоть и увлек в одну из пустующих нетопленых комнат.
– Послушайте, Третьяков. Вместо Военно-Революционного комитета организуется Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией. Вы нужны нам.
Он принял это предложение.
На суровой работе он был суров, исполнителен, инициативен и стоек. Его ценили. Когда возник ложный слух о его гибели, из Совнаркома встревоженно телеграфировали в Реввоенсовет Кавфронта:
«Верен ли слух об убийстве Третьякова деникинцами?»
Но Третьяков был жив и продолжал выполнять революционный долг. А в душе он мечтал о мире. Когда стало ясно, что белые разгромлены, он говорил радостно на одном из митингов:
– Шаг за шагом, мы приближаемся к моменту, когда можно будет сложить оружие, в том числе оружие насилия…
Но путь оказался дольше, чем он полагал…
Потому сейчас и сидел в огромном кабинете с лепным потолком, в городе, где когда-то взбегал по сходням, перенося с берега на борт гнущие к земле мешки, и слушал Андрея Шумова.
Шумов рассказывал о себе:
– Я здешний. Учился в гимназии. Отец пропал без вести в пятнадцатом. Мать – революционерка, член РКП(б), умерла от тифа в девятнадцатом в Саратове. Сестру расстреляли семеновцы под Читой. При Деникине был в подполье вместе с товарищами Наумом и Пряхиным. По решению ревкома был отправлен в зафронтовое бюро связным. Оставили там. Сейчас направили сюда в ваше распоряжение.
– Задачу свою представляешь?
– Да.
– Кто же ты?
– Бывший гимназист, от мобилизации уклонялся, сохранил кое-какие средства, которые намерен вложить во что-нибудь прибыльное. А пока человек без определенных занятий. Не гнушаюсь и сомнительными делишками.
– Техника знал?
– Очень мало. Но надеюсь на «репутацию», чтобы войти в контакт.
– А деньги откуда?
– Немного по наследству, но в целом распространяться, думаю, не стоит. Шальные деньги у темного человека.
– Да, это, пожалуй, достовернее. А вот как с подпольем? Кто об этом знает?
– Только Максим и Миндлин. И вы…
– Как к Пряхину относишься?
Шумов подумал.
– Пряхину верю.
– Ну, смотри. Он, конечно, поймет, кто ты. Советую встретиться с ним и поговорить… начистоту. Не о задании, понятно, а принципиально. Чтобы понять его позицию без ошибки. Ошибиться тут, брат, – ой-ё-ёй!
– Он человек открытый.
– А ты? Конспиратор хороший?
– Важность работы понимаю.
– Работа у нас чистая. А нырять в грязь придется. С подонками дело иметь, с бандитами, да и поопаснее найдутся… Знаешь, куда потянуться может? Далеко. Готовься, что противник и поопытнее тебя окажется. Ко всему готовься. Но надежда на тебя большая. Трудно тут, на юге.
– Понимаю.
– И заруби на носу: мы тебя не в драку посылаем, а в разведку, никаких фокусов! Сближайся, ищи, слушай, входи в доверие, узнавай. Никаких мелочей не упускай. Сегодня они мелочь, а завтра совсем наоборот. Короче, очень ты ценный человек будешь, если важные сведения принесешь. Желаю тебе…
Третьяков поднялся, крепко сжал руку Шумову.
Шумов вышел.
– Справится? – спросил Третьяков у Миндлина.
– Очень на него надеюсь.
– Щеки больно розовые.
– Поработает – побледнеют.
– Возможно. Крови ему попортить придется. Смычка контрреволюции с бандитизмом – это, брат, серьезно.
* * *
В то, что ценности существуют и Софи знает, как их взять из банка, Техник поверил сразу. Правда, работает ли она на себя или на дядю, для которого ему придется вытащить из огня каштаны, еще предстояло выяснить. А пока, не полагаясь на воспоминания и впечатления многолетней давности, он узнал все, что смог, о самой Софи.
Собранные сведения его удовлетворили: добросовестная сестра в клинике, одинока, в любовных связях не замечена. Последнее ему особенно понравилось. Техник мало интересовался женщинами и не только не стыдился этого и не испытывал чувства неполноценности, но, напротив, считал достоинством. Увлекающиеся люди представлялись ему пустыми и опасными рабами низменных страстей. Не имея понятия о подлинных причинах одиночества Софи, Техник предположил в ней родственную душу, такую же холодную, корыстную и беспощадную, как и он сам.
По убеждению Техника, сама жизнь в процессе естественного отбора формирует и сближает таких людей, хотя бы во временных, обоюдовыгодных интересах, против тех, кто, защищая на словах интересы общества, на самом деле – а в этом он не сомневался – отстаивает ту же собственную корыстную выгоду, только под фальшивой и лицемерной личиной.
И он вполне допускал, что «родственная душа», Софи, способна предложить ему союз в деле, с которым в одиночку не справится. А дело выглядело не только заманчиво. Оно было необходимо.
Техник был совсем не глуп, он хорошо понимал, что разбойничий успех не может сопутствовать ему вечно, особенно теперь, когда власть на глазах стабилизируется и укрепляется. И разум, и инстинкт подсказывали ему, что пришло время стушеваться, подумать о гарантированной безопасности. Но уйти нужно было – так требовал его характер, – поставив не расслабленное многоточие, а твердую, запоминающуюся точку.
И, кажется, такой случай представился.
Техник решился.
Они снова встретились в чайной днем, когда мир кажется добрым, – двое молодых людей за чашкой чая.
– Надеюсь, я услышу речь не мальчика, но мужа, господин налет?
– Я готов обсудить реальные предложения.
– Я так и знала.
– Это лестно для меня? Или напротив?
– Это серьезно. Вот что главное.
– Пожалуй. Итак, мы создаем нечто вроде…
– Общества.
– Не благотворительное ли?
– Да уж нет. Не опасайтесь.
– Вы меня успокоили.
– Успокаиваться рано. Наше деловое предприятие требует мужества и ума.
– Пусть это будет моим вкладом.
– Не только. Я говорила еще о деньгах.
– Я помню. Это проза.
– Будет и романтика.
И она развернула перед ним лист бумаги, ка который были нанесены две схемы: одна изображала какое-то внутреннее помещение, другая – участок улицы.
– На глаз тут мало что понятно, – сказал он, просмотрев чертеж.
– Это же не прокламация, которую клеют на стенку для каждого дурака.
– Спасибо, что не считаете меня дураком. Однако надеюсь на пояснения.
– Имеющий уши да слышит.
– Мои уши в вашем распоряжении.
– Перед вами план подвалов банка.
– Это я понял.
– Ценности – вот здесь.
– Очень интересно.
– А это улица, как видите.
– Вижу.
– С одной стороны банк, с другой – дом.
– Дом, который слева от банка?
– Совершенно верно.
– Там, кажется, булочная?
– Была.
– А что же сейчас?
– Булочная закрыта, а в остальной части дома живет бывшая владелица, вернее, вдова хозяина, недавно скончавшегося.
– Одна.
– В этом и дело. Она стара, одинока, дом ей просто в тягость.
Техник уже все понял, но спросил:
– Вы хотите, чтобы я женился на ней?
– Слава! Мне нравится ваше чувство юмора, но, увы, я ревнива.
– Виноват, я поступил бестактно. Но что же я должен сделать? Стать дворецким, домоуправителем, мажордомом, что по-русски означает…
– Я знаю, что это означает. Вам не придется стоять у подъезда в ливрее. Вы, просто купите этот дом.
– О!
– Дом прекрасный, просторный, с подвалом и погребом во дворе. А главное, от дома до банка ровно двадцать семь метров.
– Это не так уж мало.
– Хорошо. Пусть будет пятнадцать саженей. Но фактически гораздо меньше. Посмотрите сюда.
И Софи со знанием дела принялась излагать технические подробности своего плана.
– Ну, теперь вы понимаете, что сделаете выгодную покупку?
– Цыплят, как говорится, по осени считают.
– Значит, вы не оценили мою идею?
– Идею, я оценил вполне, но она требует воплощения в жизнь, а жизнь, как известно…
Техник замолчал, прервавшись на полуслове.
– Вы колеблетесь?
– Я думаю, – ответил он, на этот раз очень серьезно.! – Как говорится по-латыни, когито, эрго сум.
– Что ж, подумайте. А я попью чаю.
Она положила сахар и стала не спеша размешивать его ложечкой.
– Вдвоем нам не справиться.
– Я думала об этом.
– И что же?
«Если она предложит своих людей, это ловушка», – решил Техник.
– Потому я и обратилась к вам. У вас должны быть подходящие люди.
– Люди найдутся, – заверил он с облегчением.
– Только не ваши бандиты. Это обойдется слишком дорого.
– Согласен. В той новой жизни, которую вы предложили мне, они, пожалуй, ни к чему.
– Кто же тогда?
– Я найду. Но и с ними придется делиться.
– К сожалению.
– Кстати, как вы мыслите этот приятный процесс?
– Давайте договоримся сразу. Дело открыла я, и мне полагается приз.
– Согласен. Это справедливо. Сколько?
– Сколько нас будет?
– Думаю, двоих еще хватит.
– Вы забыли человека из банка.
– Значит, пятеро.
– Делим все на десять частей. Трое получают по одной, вы – две, и я – три.
– Остается еще две.
– Если вы поведете себя мужественно, они могут стать нашим общим призом.
– Вы очень серьезная женщина, – сказал Техник, – но я всегда тяготел к ровному счету. Коли уж мы взялись за математику, я предлагаю такую формулу: десять равно трем плюс два по три с половиной.
– Однако вы признали мое право на приз.
– Вы его и получите. Это гарантия вашей жизни. Разве она не стоит небольшой денежной уступки?
– Вы откровенны, ничего не скажешь.
– Зачем лукавить! Да и неловко как-то в таком серьезном деле находиться в неравном положении. Я за полное и сердечное согласие.
Софи улыбнулась:
– Или по-французски – антант кардиаль.
– Итак, договор парафирован?
– Мне нравится откровенность. Пусть так и будет.
Техник протянул руку через стол:
– По рукам. – И он повернулся к стойке: – Хозяин!
Подошел приземистый человек без всяких примет на широком лице.
– Слушаю вас, Станислав Адамович.
– Абрау!
– Сей секунд. Прямо со льда.
Вино явилось моментально. Хлопнула пробка. Пена поднялась до краев бокалов.
– За нашу антанту, Софи! Надеюсь, в ней не найдется места для изменнической России.
* * *
Когда Таня смогла наконец подняться со скамейки и пройти во двор, Максим возился в сарае, в который превратил наскоро восстановленный злосчастный флигель. Снова сдавать постройку под жилье он воспротивился категорически, видя в этом одну из форм эксплуатации и наживы.
Так возник на месте флигелька полусарайчик-полумастерская, где Максим поставил верстак и разложил по полкам столярные инструменты. Впрочем, руки до них пока не доходили – мастерство, которым овладел он, между прочим, не хуже учителя, Максим объявил сомнительным, мелкобуржуазным ремесленничеством.
И вот теперь, войдя во двор, Татьяна увидела в дверях сарая сутуловатую фигуру старшего брата. О причине его появления дома днем и о странных словах она не думала не до того было, – потому и попыталась проскользнуть мимо, чтобы избежать очередного неприятного, а то и невыносимого сейчас разговора.
Надежда эта, однако, не оправдалась. Максим увидел ее и окликнул:
– Татьяна!
– Что тебе?
– Подойди на час.
Слова эти в казачьем говоре означали – на короткое время.
Татьяна приблизилась, но в сарай не вошла.
Максим стоял с длинным фуганком в руках.
– Зайди, говорю.
– У меня очень болит голова. Раскалывается.
– Не расколется. Меня сейчас знаешь, как гвоздят по башке, а я ее таскаю пока на плечах. Не развалилась.
– Ты из тех, что другим головы разбивают, – не сдержалась она и тут же пожалела: «Сейчас в бутылку полезет!»
Но брат вздохнул только:
– Было и такое…
– А… Ты говорил что-то. Насчет революции. Извели классовых врагов?
Максим присвистнул:
– Куда махнула! Они, как гидра…
– Ну и сноси головы. А мою в покое оставь.
– Да не ершись ты, Татьяна. Беда у меня.
Слова были для Максима почти невероятные. Беды свои он в себе переживал, сочувствия не спрашивал. Но, с другой стороны, какая же беда может быть страшнее еебеды!
– Что ж за беда, если мировая революция побеждает?
– Думаешь, побеждает? Почему же тогда чекист должен буржуйскую лавочку от бандитов охранять, а красному подпольщику не доверяют?
Татьяне хотелось поскорее остаться одной, а не выслушивать глубоко чуждые ей политические словопрения, которые по ее убеждению, всегда касались судеб человечества, в лучшем случае отдельных народов и классов, но никогда отдельных людей, таких, как она, которая страдает бесконечно в эту минуту и которой нет никакого дела до страданий рикшей и кули где-нибудь в Китае или африканцев, порабощенных колонизаторами. И даже новая экономическая политика в этот час была ей безразлична…
– Оставь, Максим. Во все века человек покупал в лавке необходимое, а власти ловили жуликов.
– Ага! – выдохнул он. – Во все века! Значит, опять по-старому?
– Зачем ты меня позвал?
Он положил фуганок на верстак, повторил тихо:
– Они мне не доверяют.
– Кто?
– Но я им тоже, – сказал он вместо ответа, повысив голос, твердо.
– Кто тебе не доверяет?
– Наум с компанией.
– Да ты ж молился на него.
– Никогда я ни на кого не молился.
Сказано было убежденно, и все-таки о Науме здесь, дома, Татьяна слышала немало слов в превосходной степени. И вот!..
– А кто тебе велел Дягилева убить?
Как-то брат проговорился сгоряча, что провокатор Дягилев, кровельщик, живший неподалеку, был убит по решению и приговору подпольного комитета при его, Максима, участии.
Тогда он гордился:
– Собаке – собачья смерть!
А Татьяна сказала с отвращением:
– Убийцы!
Теперь Максим пробурчал:
– Провокатора ликвидировали по приказанию партии.
– А Наум кто? Он и есть ваша партия.
– Один человек – еще не партия.
– Но один-то – ты, а не Наум.
Это было так просто, так больно и неоспоримо, что Максиму и возразить было нечего.
– А ты и рада.
– Рада! – сказала она.
– Да за что ж? Разве я тебе когда плохого желал?
– Делал ты, а не желал. Ты меня сына лишил.
– Опять за свое! Чем ему сейчас плохо?
– Мне плохо, мне! Слышишь?!
– Да не шуми ты.
– Буду! Кричать буду! Потому что не все еще сказала. Не все ты знаешь, какое мы зло учинили.
– Сказилась, что ли? Чего еще я не знаю?
– Юрий вернулся.
Максим ахнул, взялся за затылок.
– С того света?
– Его не убили. В плену он был.
Брат смотрел, пораженный до глубины души.
– Погоди, Татьяна? Точно это? Живой?..
– Живой! Живой! Здесь он, дома.
– Вот, значит, чего «свекруха» прибегала… А ты с ней не пошла. Почему?
– Да что я ему скажу? Что?! Он же про ребенка спросит… Подумай сам! Что я ему скажу? Что сына его на хутор подбросила? Что от материнства отказалась? Что его ребенок чужую фамилию носит, чужому человеку «папа» говорит! Да ты можешь представить все это!
И она присела бессильно на топчан, что стоял у стены, поодаль от верстака.
Он вздохнул тяжело.
– Да уж без интеллигентских фортелей не обойдется.
– Постыдись! А если б с твоим сыном так?
Врать он не любил.
– И мне б вряд ли понравилось.
– В том и дело. В безвыходном я положении. Понимаешь?
– Ну, так говорить не нужно. Ребенок живой, ты живая, даже этот, офицер твой, ожил. Значит, разобраться можно.
– Не простит он.
– Скажи! Не простит… Его-то и живым не считали, когда ты тут одна, в положении, да еще обстановка такая… Снаряды во двор летят… Не простит… Ну и пусть! Неужто так он присушил тебя, что не обойдешься?.. Свет на нем клином сошелся?
– Не понимаешь ты. Они ж потребовать ребенка могут.
– Кто?
– Он же отец.
– Да беляк он прежде всего. Пусть попробует дитя отобрать! К ногтю его, контру…
– Юрия? К ногтю? После всего, что он пережил? За то, что мы его сына, как цыгане, украли?..
– Да ладно тебе! Мелешь несуразное. Какие цыгане?
– А ты что говоришь? Убить его хочешь?
– Не убью. Прав теперь у меня никаких не будет. Я, сестра, решил из партии выйти.
Татьяна всплеснула руками:
– Сумасшедший! Мало нам бед, а тут и тебе вожжа под хвост попала.
– Ну, ты в политике не смыслишь.
– До этой новой политики люди голодали, а сейчас кормятся.
– Чечевичной похлебкой? Первородство продали!
– Что ж тебе, голод больше по душе?
– Идея мне по душе.
– Но ведь большевики у власти!
– У власти. Да не легче от этого. Когда переродятся, в лавке сладко кормясь, что будет? Нет, я в этом не участник.
– Что ж ты, против пойдешь?
Он отер пот со лба.
– Против не могу. Душу я в эту власть вложил.
– Что ж делать будешь?
Максим провел рукой по фуганку.
– У меня руки есть. Не пропаду. Видишь инструмент?
– Вижу. А кто говорил, что ремесленник тоже людей обдирает?
– Обдирать не буду. Буду трудиться по совести. За многим не гонюсь.
– Все-таки безумный ты. Сам себе всю жизнь вред делаешь. Всю жизнь. Сам.
Но такое Максим обсуждать не любил.
– Ладно. Будет обо мне. Не пропаду. Вот с тобой что, в самом деле, придумать?..
– Что ты придумаешь! – сказала она так отчаянно, что слова ее резанули Максиму по сердцу, и хотя беды ее личные по сравнению со своими, с судьбой революции связанными, полагал все-таки обывательскими, вину свою ощутил определенно и захотел помочь, найти какое-то решение, выход, чтобы и толк был, и для нее приемлемым оказалось, потому что Максим знал: теперь уже не приказывать, а убеждать нужно.
Максим задумался, и подходящая, с его точки зрения, мысль, пришла.
– Послушай меня, Татьяна. Только без бзыку. Есть у меня мысль одна.
– Говори, куда мне деваться…
Он подошел, присел рядом.
– Ребенок-то по закону сейчас не твой, верно?
– Это и есть самое ужасное.
– Понимаю твои мысли. Но попробуй иначе посмотреть.
– О чем ты?
– По закону у тебя дитя нету…
– Есть он, Максим, есть.
– У Настасьи, племянник твой.
– Да что ты? Что предлагаешь?
– Предлагаю так и сказать. Как в бумагах записано.
– Обмануть Юрия?
– Ну, в чувства я не вдаюсь. Сказал, что, по-моему, сейчас сделать нужно. Ездила ты в Вербовый рожать. И сестра родила. Один ребенок помер, другой живой. Племянник.
– Да что ж это будет такое, если так скажу?
– Ну, посмотришь, как он… Короче, будет горевать или нет? А если нет? Может, ему свобода сейчас нужнее, чем семья… А?.. Бывает-то всякое. А порадовать сыном никогда не поздно. Присмотрись сначала. Вот как я думаю.
– Обман. Опять…
– Не обман, а ложь во спасение. Ты вот все повторяешь: Юра да Юра! О нем думаешь. А ты о сыне подумай. Какой отец ему нужен? Если действительно любовь у вас вечная, то поймет он, как тебе пришлось… А если увидишь, что дело ненадежное, так мальчишке с таким отцом какой толк?.. Ну, что? Несогласная? Ну, пойди в дом, полежи, поразмысли, пореви, если хочешь…
* * *
Барановский ходил в толстовке и сандалиях и считал, что выглядит нелепо и смешно.
Но он ошибался. Те, кто не представлял его в гвардейском мундире или даже в обычной военной шинели, ничего странного в его наряде не находили. Бывший подполковник принадлежал к той породе, что смотрится под любым седлом, любую одежду носил он так, словно сшита она была по заказу у лучшего портного. Однако он не видел себя со стороны и пережил стыд и ярость, когда впервые вышел на улицу в одежде совслужащего. Смириться заставили «высшие интересы». С помощью влиятельных друзей из местного подполья Барановский устроился чем-то вроде завхоза при одной из клиник медицинского факультета местного университета. Как ни странно, сами служебные обязанности внутреннего протеста в нем не вызывали, он и в полку распоряжался всегда по-хозяйски, вникал в мелочи солдатского быта, любил порядок и нынешние свои обязанности исполнял добросовестно не только по соображениям конспирации. Мелкое вредительство и саботаж вызывали в нем брезгливое отвращение. Белое подполье рассчитывало на большее, манил мираж успешного вооруженного выступления.
Медицинский факультет университета занимал особое помещение, вернее, группу красных кирпичных строений, где до войны находилась городская больница. Потом, когда с фронта потоком хлынули раненые, в университете решено было открыть медицинский факультет. Развернули его при больнице, и он успешно функционировал, было уже два выпуска, и поговаривали об отделении и превращении факультета в самостоятельный медицинский институт.
На факультете работало много неместных людей, перебравшихся на юг в разные годы гражданской войны. Несмотря на сомнительное, с точки зрения победившей власти, социальное происхождение, люди эти ценились, они умели и учить, к лечить. Среди них было легче затеряться и Барановскому.
Со многими из здесь работающих он находил общий язык, особенно с приват-доцентом Воздвиженским. Оба не обремененные семьями, они иногда засиживались светлыми вечерами, когда спадала жара, и играли одну-две партии в шахматы в больничном садике. Играли от нечего делать, не усердствуя, в меру несложных познаний, ценя беседу и общение больше, чем саму игру.
И в тот вечер они, как обычно, расположились за вкопанным в землю столиком в дальнем уголке под старым каштаном и расставили на доске фигуры. Шахматы были старенькие, с выщербленными, зубцами на коронах и сломанными шишаками у слонов-офицеров, зато доска, явно не о тех фигур, блестела благородными оттенками карельской березы.
– Прошу, Роман Константинович! – предложил Барановский.
Споров о первом ходе у них не бывало. Независимо от исхода партии новую начинали поочередно.
Приват-доцент сделал вечный ход е2—е4.
Барановский ответил так же стандартно.
– Говорят, бандиты ограбили поезд, – сказал Воздвиженский, выдвигая коня.
– Говорят.
– А в газетах ничего не было.
– Это же не достижение, а нынешние газеты предпочитают сообщать об успехах.
– Тем не менее поезд ограблен.
– Это могло быть сенсацией только до революции.
– Я не помню, чтобы до революции грабили поезда.
– Зато сейчас это повседневный быт.
– И все-таки…
– Роман Константинович! С вашим-то философским складом ума удивляться такому ничтожному событию…
– Я не перестаю удивляться.
– Чему? Тому, что одна группа людей, малочисленная, решила улучшить свое положение за счет другой, более многочисленной? Да ведь на этом вся история держится или держалась, по крайней, мере, как нас теперь хотят уверить.
– Но вы еще не уверились?
Барановский сделал очередной ход.
– Поверить в то, что отныне история станет служить большинству, конечно, заманчиво. Но не слишком ли просто? Я всегда опасаюсь простоты. На поверку она всегда оказывается более коварна, чем сложность.
– Речь идет о равенстве.
– Ну, это старая история. Еще Христос предлагал нечто подобное. Но, как мне кажется, без особой уверенности.
– Любопытно, – заметил Воздвиженский.
– А знаменитый денарий кесарю? Христос был реалистом. Он понимал, что без кесаря не обойтись, будь он в тоге или в кожанке.
– Вот в этом и заключается мнимая простота, – возразил приват-доцент. – Люди ищут равенства не там, где следует.
– Тысячи лет иллюзий, – сказал Барановский.
– Вы, я вижу, в равенство не верите?
– А вы?
– У меня свой взгляд на эту проблему…
– Поделитесь. Мне всегда интересны ваши мысли.
– Мой взгляд пессимистичен и потому не может рассчитывать на популярность, – предупредил Воздвиженский, не замечая выгодной позиции на правом фланге.
– Я тоже не поклонник пошлых истин.
– Ну что ж… Я, видите ли, диалектик. Вас не пугает это слово?
– Вы марксист?
– Меньше всего. Марксисты, собственно, больше шумят о диалектике, они, как и все пророки, объясняют больше, чем знают. А что значит знать? Истина, если хотите, это зеркало из сказки, которое разбила царица, увидав в нем совсем не то, чего ждала. Так вот… диалектика – ключ к истине, а не лозунг.
– Я вас слушаю очень внимательно.
– Благодарю. Лозунг воодушевляет, и это очень хорошо. Поэт сказал недаром: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». А истина всегда страшит.
– Любая?
– Именно. Потому что не существует явления однозначного. А верующие и до Христа и по сей день всегда прямолинейны. Иначе зачем веровать?
Барановский будто по ошибке отодвинул ладью, ставя всю партию под проигрыш.
– В самом деле… Вера исключает сомнения.
– Однако верующие во все века, подобно алхимикам, вопреки природе вещей стремятся получить некую субстанцию добра, магнит с одним полюсом.
– В том числе и равенство?
Воздвиженский увлекся и не видел выигрышной позиции на доске.
– Равенство существует. Но не в той форме, которая нравится людям. Оно диалектично, как и все в природе. Оно есть, и его нет, как нет подобия, ибо даже отпечатки пальцев, по мнению криминалистов, никогда не совпадают. Люди не могут быть подобны, а следовательно, и равны. Но они всегда будут равно подвержены страданиям, как кесарь, так и раб, в поте лица добывающий денарий.
– Все-таки это спорно, – сказал Барановский, подумав.
– Я этого ждал…
– Согласитесь, что как раз страдания распределяются крайне неравномерно.
– Вы не совсем поняли меня. Я имел в виду не меру мук, а то, что от страданий не защищен самый твердокаменный комиссар, не говоря уж о русском интеллигенте, мазохисте прирожденном.
– Вы и себя к таковым причисляете?
– Нет. Я естественник. В страданиях отдельных живых существ я вижу общие и неизбежные закономерности.
– У вас философский ум.
– Я бы сказал скромнее. У меня есть склонность к размышлению, и я стремлюсь, по мере возможности, выработать собственные взгляды и принципы поведения. Заметьте, собственные. Я не пытаюсь учить. В этом мире переизбыток пророков, неусыпно стремящихся объять необъятное. Но я не из их числа, хотя бы потому, что понимаю, что это неосуществимо.
– Каким же принципом вы дорожите больше других, если это не секрет?
– Сторонись зла…
– Я вам завидую.
– Это ирония?
– Нет, характер. Мне было бы трудно следовать этому принципу.
– Да, в вас заметен человек действия.
«Неужели он догадывается?» – подумал Барановский и отшутился:
– Потому я и добываю вам собак и кроликов, а вы их всего только режете.
– Увы! Мне нечего возразить. С точки зрения моих подопытных, мы мало отличаемся друг от друга. Но это все-таки лучше, чем ловить и убивать людей.
– Вы уверены?
– Так предполагает наука. Она надеется, принеся в жертву бессловесных, возвысить человека.
– Какая чушь! Впрочем, простите.
– Что вы!
– Позвольте откровенность…
Оба уже не следили за доской.
– Когда я убивал людей – а я убивал, как и все почти мужчины моего поколения, – я чувствовал себя нравственно выше, чем сейчас, когда обрекаю на смерть невинных животных.
Воздвиженский не возмутился.
– Это не удивительно. Многим людям убить себе подобного легче, чем кошку или собаку. Особенно во имя идеи. Чем возвышеннее цель, тем больше она развязывает руки. Нет! Не руки. Наши темные инстинкты.
– Но существует и справедливость. И кара!
– Я обидел вас?
Он не обидел, но все-таки задел Барановского. Бывший подполковник, ныне ловец подопытных животных, убивал давно и много. Сначала он убивал, следуя присяге, в Маньчжурии и в Галиции. В тех войнах еще существовал дух древнего рыцарства, поединка, поначалу к врагу не испытывали личной ненависти, да и враг назывался, согласно воинским уставам, всего лишь противником, а победитель не чувствовал себя убийцей. Все изменила революция, теперь он убивал уже не врагов державы, а собственных, – личных врагов, мстя за сожженный дом предков, за разбитые в куски статуи итальянских мастеров, привезенные в приусадебный парк двести лет назад, убивал в лицо, беспощадно, но убивал еще отдельных людей… И только когда вызрела в нем необходимость войны не личной, а идейной, не за себя уже, а за цивилизацию, за Европу, в голове возникли цифры миллионные, ибо таково было количество людей, которых, по его мнению, нужно было уничтожить, чтобы культура и цивилизация сохранились и восторжествовали.








