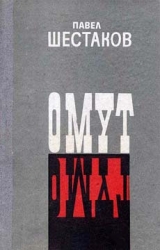
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Так говорил Воздвиженский.
И Вера Никодимовна его поддерживала.
– Да-да, самовар – прекрасно. Подумать только – чай с примуса! Напиток с промышленно-керосиновым ароматом. Нет, я решительно против такого прогресса. Просто унизительно кипятить чай на примусе.
Таня невольно улыбнулась.
– У вас замечательный чай, Вера Никодимовна.
– Спасибо, милая вы моя. Кладите побольше варенья, прошу вас. Это же свое.
– Благодарю. Я люблю чай с вишневым вареньем.
– А вишневый дымок? – спросил Воздвиженский, который порубил на растопку сухие ветки, срезанные с вишни в саду.
– Чудесно.
– Чудесно, дорогие мои! – продолжала разговорчивая Вера Никодимовна. – Я боюсь сглазить, потому что суеверна. У нас так повелось от мужа, ведь моряки все верят в приметы… Я боюсь сглазить, но сегодня, мне кажется, добро вновь постучалось в наш дом. Я была одна, совсем одна… Я почти смирилась. Но вот господь, бесконечно мудрый даже в испытаниях, что нам ниспослал, вернул Юрия. И Таня, которую я всегда любила, снова с нами. Я виновата перед ней. Но откуда мне было знать, сколько вам пришлось перенести, бедняжка! А у вас еще нашлись силы щадить меня!
Таня наклонила голову к фарфоровому блюдцу, на дне которого галантно раскланивались кавалер и дама в высоких париках, перепачканные вишневым вареньем.
– Простите меня, Танюша, но Роман Константинович подлинный друг. Он столько сделал для меня в трудное время. Он все знает. И о вас… Мы открылись ему. Да и как можно скрывать такое? Зачем ложный стыд? Это же одно из самых горестных испытаний. Но и оно позади. И я прошу вас поскорее оформить, как это теперь говорят, ваши отношения с Юрой и переселиться к нам. Как дочь и жена. Дурной сон кончился. Я верю в хорошее. А вы?.
– Я бы тоже хотела… верить.
– Но разве не так? Жизнь налаживается понемногу. Стало гораздо легче с продовольствием. Бог даст, все постепенно образуется и раны заживут. А власть… Что ж поделаешь, если большевики победили! И разве мы капиталисты, буржуа, помещики? Мы всегда были интеллигентными тружениками, честно служили своему народу. Нам незачем враждовать с властью, которую предпочел – народ. Я правильно говорю, Роман Константинович?
– Целиком разделяю, Вера Никодимовна.
– А вы, Танюша?
– Да. Я тоже.
– Вот видите! Мы все согласны. И мы будем мирно жить. Каждый найдет себе место в новой жизни. Говорят, скоро будет прием в университет?
– Так решено, – подтвердил Воздвиженский.
– Замечательно.
– Набор будет с классовых позиции, я думаю.
– Я понимаю. Конечно, Юру сейчас не примут. Придется поискать другое приличное занятие. Пока. А потом наладится. Он же был совсем мальчик! Ему обязательно дадут возможность получить образование. Я уверена, они поймут, кто был врагом, а кто попал к белым по сложившимся обстоятельствам, случайно. А Танюшу примут. Тут не может быть и речи. Ведь ваш брат, Таня, влиятельный партиец?
Таня покачала головой.
– Не понимаю, душенька.
– Он вышел из партии.
– Как – вышел?
– Сам. Сейчас у них разногласия по поводу экономической политики. Максим не согласен.
– Странно. Неужели он против того, чтобы мы были сыты, одеты?
– Я не дружна с братом. Мы всегда по-разному понимали многие вещи. Он очень упрям.
– Как жаль! Я подозревала, что он максималист.
– Даже по имени.
– Очень жаль… Но не беда. Все равно вы из рабочей семьи. Вас должны принять.
– Кем вы собираетесь стать, Таня? – спросил Воздвиженский.
– Я всегда хотела быть учительницей.
– Вечная и благородная профессия, – сказала Вера Никодимовна.
– Да, это достойная цель, – согласился Роман Константинович. – Я надеюсь, вы сможете начать учебу еще в этом году.
– Очень хочется.
– Большевики уделяют огромное внимание народному образованию. Им нужна пролетарская интеллигенция. Это так понятно. Целиком одобряю ваш выбор, Танюша, – болтала, прихлебывая чай, Вера Никодимовна.
А Таня думала:
«Как легко они смирились с моимгорем!»
В это время взвинченный Юрий подходил к дому. Радостный хмель уже прошел, а мысли все еще метались. Меньше всего ему хотелось сейчас видеть Таню. Что он скажет ей? Нужно что-то придумывать, лгать… Ему это никогда не удавалось.
«Ладно, – решил он про себя. – Утро вечера мудренее. Завтра прояснится голова, и я найду выход».
Он обогнул дом и увидел на веранде Таню.
– Юра! Вы посмотрите!. Вот и Юра. Как кстати. Мы ждем тебя, Юра! – воскликнула обрадованная Вера Никодимовна.
– Что случилось, мама?
– Ничего, Юрочка, ничего. Мы только говорили о вас с Таней, о вашем будущем.
«Очень вовремя!..»
– Здравствуйте, Роман Константинович. Здравствуй, Таня.
– Здравствуй, Юра. Ты немного бледен.
– Может быть.
– Откуда ты, Юра? Что с тобой?
– Я был на кладбище. Немного устал.
– Почему на кладбище? Зачем? Что тебя занесло?
Юрий пожал плечами.
– Стихи вспомнились:
Вспоминайте, мой друг, это кладбище дальнее,
Где душе вашей, больно-больной,
Вы найдете когда-нибудь место нейтральное
И последний астральный покой.
– Ах, как я не люблю декадентов!
– Что за минор, Юра? – спросил Воздвиженский.
– Минор? Ну, нет. Мы провожали в последний путь большевика, застреленного бандитом. Так что особенного повода огорчаться не было. Скорее, наоборот.
– Юра! – ахнула Вера Никодимовна. – Зачем ты так?
– Как? По-твоему, я должен быть в самом деле огорчен?
– Такие слова опасны. Мы только что говорили…
– Потом, мама, потом, – перебил Юрий.
– Подумайте! Он не хочет слушать.
– Я же сказал: я устал.
– Вера Никодимовна! – вмещалась Таня, – Юра действительно устал.
Говоря это, она искала его взгляд, но Юрий все время смотрел куда-то в сторону.
А Вера Никодимовна упорно продолжала:
– Юра! Мы решили, что Таня должна переехать к нам.
«Кажется, меня сегодня сведут с ума».
– Раз вы решили, я покоряюсь.
– Ты говоришь как-то странно.
– Он ведь с кладбища, Вера Никодимовна, – снова вступилась Таня.
Юрий принял помощь:
– Да, я с кладбища.
– Но зачем ты туда пошел? На эти похороны.
– Меня затащил приятель.
– У тебя есть приятели среди большевиков?
– Скорее, он нэпман. Возможно, ты помнишь его, мама. Это Андрей Шумов.
– Я не помню.
– Я помню Шумова, – сказала Таня.
– Да? – переспросил Юрий.
Слова Тани неприятно удивили его, но то, что она сказала дальше, было хуже, чем неприятность.
– Он жил недалеко от нас перед войной. На нашей улице мальчишки недолюбливали гимназистов. Я это сама испытала. А Максиму он почему-то нравился. Он заступался за Андрея. Ведь ты его Андреем назвал?
– Андреем.
– Максим старше. Его побаивались.
– Ваш брат защищал гимназиста? – спросила Вера Никодимовна. Вот бы не подумала!
– Они дружили… по-своему. Шумов был начитан. Он носил книги Максиму… Помню, они спорили, прав ли Симурден, приговоривший к смерти Говэна… Это все давно было. Я уже не помню, когда видела Шумова. Значит, он здесь?
– Здесь.
– И нэпман?
– Начинающий.
– Странно. Он мне казался красной ориентации.
– Ах, милая! Революция все поставила вверх ногами. А ваш брат…
«Они могли видеться. Могут увидеться. Просто встретиться», – думал Юрий.
– Ты уверена, что Шумов и Максим…
– Максим даже с партийцами разошелся из-за нэпа. Если Шумов нэпман, у них не может быть ничего общего.
«А если не нэпман?»
– Все это очень печально, – вздохнула Вера Никодимовна. – Все эти споры, разлады. Подумать только, оба сочувствовали революции, а теперь ничего общего! Нет-нет, всем пора положительно примириться. Юра! Тебе покрепче?
– Да. Покрепче. Только не чай.
– Не чай? Но мне кажется, ты уже…
– Представь себе. Мы зашли в подвальчик. Там хозяйничает очень толстый грек. Из тех, что отсиделись и теперь пожинают плоды этой… новой политики. Он хвастался хорошим вином, и мы…
– Вы его попробовали? – улыбнулся Воздвиженский.
– Как видите.
– И оно действительно стоящее?
– Пожалуй. Не вызывает жажду.
Юрий подошел к буфету, открыл дверцу и взял рюмку.
– Юра! Неужели ты еще собираешься пить?
– Оставь, мама.
Он наполнил рюмку.
– Здоровье присутствующих!
После выпитого стало спокойнее.
«Не нужно преувеличивать. Главное, у них разногласия… У кого с кем? У Шумова с Максимом или у Максима с партией? Да не все ли равно! Сейчас они не друзья. Конечно, я наломал дров… В следующий раз нужно быть осторожнее. И всё».
– Итак, вы обсуждаете наше будущее? За чаем? Очень серьезно, да? Что же это за обсуждение? Жомини да Жомини, а об водке ни полслова!
– Юра!
– Я шокирую?..
– Ты не так воспитан!
– Мама, но я кое-что поутратил. В штыковых атаках и разных других… проявлениях дурного тона. Но если общество разрешит еще одну… я не буду шокировать… я прилягу. Я же устал, я говорил…
Вера Никодимовна прикрыла глаза руками, а Роман Константинович сам наполнил рюмку.
– Пейте, Юра, и отдыхайте. Вы устали.
Юрий выпил, чуть расплескав водку.
– Вы тоже думаете, что я… должен покинуть…
– Конечно. Иначе вы сделаете или скажете; такое, о чем будете жалеть.
«Я уже… сказал… нужно лечь…»
– Благодарю. Вы благоразумны и благо… благосклонны… Прошу прощения.
Он вышел, собравшись с силами, чтобы не покачнуться по пути.
Вера Никодимовна открыла глаза.
– Мне стыдно.
– Успокойтесь, Вера Никодимовна!
Таня встала и обняла ее за плечи.
– Он так много пережил…
– Бедный мальчик, бедный мой мальчик! Вы не должны осуждать его, Танюша.
– Я не осуждаю.
– Спасибо, добрая вы наша. Посмотрите, пожалуйста, как он там. Если пойду я, ему это не понравится.
Юрий лежал на диване, но не спал. Широко открытыми глазами он смотрел в потолок, где в кругу над люстрой сошлись в хороводе не то ангелы, не то амуры. Сейчас они тихо закружились, плыли друг за другом.
– Это ты? – спросил он, переводя взгляд с потолка на Таню.
– Я.
– Зачем?
– Вера Никодимовна беспокоится.
– А… мама… Ты тоже? Осуждаешь. В первый раз в жизни я осужден по заслугам.
– Ты много выпил.
– Ерунда. Дело совсем в другом.
– Не нужно сейчас. Усни. Я пойду.
– Погоди.
Таня остановилась.
– А если бы у нас было много денег?..
– Каких денег?
– Много. Ты заслужила. Ты мучилась, страдала. А если бы деньги… мы бы бежали…
– Юра! О чем ты! Отдохни.
– Я не хочу отдыхать. Но ты должна. Там. В Париже, в Сан-Франциско. Где хочешь…
– Ради бога. Успокойся.
– Я спокоен. Ты только потерпи еще немножко. Совсем немного. И мы спасемся. Если нам не помешают…
– Кто? О чем ты?..
– Шумов. Кто же был прав? Симурден? А теперь он хочет стать лавочником. Ты не должна ему верить. Ты должна верить мне.
– Я верю, Юра.
– Это хорошо. Это очень хорошо. Никому не верь. Если мне придется уехать…
– Куда?
– Я скоро вернусь. Но ты не верь.
– Во что?
– Ничему не верь. Даже если скажут…
– Что мне могут сказать?
– Все. Что я женился…
Она отступила на шаг, но он потянулся, схватил за платье, притянул к себе.
– Ты единственная, единственная. Я до конца с тобой, только с тобой.
И бормотал, целуя платье:
Там в любви расцвела наша встреча печальная
Обручальной молитвой сердец,
Там звучала торжественно клятва прощальная
И нелепый прощальный конец…
С трудом она освободилась.
– Юра! Приди в себя. Что ты говоришь? Женился, деньги…
– Да, деньги.
– Это серьезно? Максим говорил, что тебя видели с каким-то бандитом, Техником.
– Ерунда. Это же Слава Щ. Оригинал.
– Он?! И на поезд… он?
Юрий вдруг закрыл глаза.
– Я хочу спать.
И отвернулся к стене.
На веранде к ней бросилась Вера Никодимовна.
– Таня! Только вы можете ему помочь. Я вас умоляю. Вы должны как можно скорее соединиться по-настоящему, переехать к нам. Вы слышите, Таня!
«Я слышу это только от вас. Разве он зовет меня?» – подумала Таня.
В самом деле, среди множества слов, которые Юрий только что произнес, не было самых простых: приходи, и мы будем вместе! Сейчас, а не когда-то, здесь, а не в Сан-Франциско. Наоборот, он говорил: терпи…
Домой она шла с помертвевшим сердцем. И причиной тому было не само поведение пьяного Юрия, хотя пьяным она видела его впервые и это отталкивало, настолько не вязалось с его сложившимся обликом, с воспоминаниями, столько лет согревавшими душу. Другое было страшнее. С каждым шагом открывалась перед ней беспощадная правда – говоря о будущем, он на самом деле прощался с нею.
В ушах навязчиво повторялись убивающие строки: «…клятва прощальная и нелепый прощальный конец». И, главное, когда Вера Никодимовна сказала, что Таня должна переехать – она-то еще и согласия не дала! – Юрий не обрадовался. Даже мать заметила! А уж она сама-то ощутила глубоко и больно. Очень больно, потому что не привыкла, ведь до сих пор все в их отношениях от нее исходило!..
«Кто ж тут виноват? Кто из нас?» – пыталась она обратиться к рассудку, поочередно виня то себя, то его, но так никогда и не ответила на этот вопрос, хотя задавала его себе еще многие годы, особенно когда, бывая в городе, приходила, чтобы положить букетик простых цветов на могилу Веры Никодимовны…
Так оно решилось в тот день, хотя впереди еще было и последнее объяснение, и последние слова.
* * *
Юрий не знал, что решилось.
Он проснулся среди ночи. Болела голова, и мучила жажда. «Не нужно было смешивать вино и водку», – подумал он с отвращением, но легче от этого не стало. На веранде стоял синий кувшин с питьевой водой, куда Вера Никодимовна, по обычаю, клала серебряную ложку. Юрий спустил ноги с дивана, в носках прошел на веранду, напился прямо из кувшина, звякнул ложкой, показалось, что отпустило немного, однако ненадолго.
«Кажется, вчера я сделал все глупости; какие только мог», – признался он себе уныло и присел на ступеньки, обхватив голову руками.
– Не спится?
Юрий разжал ладони и увидел Воздвиженского.
– Как видите.
Ему сейчас было неприятно появление любого человека, но Воздвиженский, будто не понимая этого, подошел и присел рядом.
– Мучаетесь?
Он хотел сказать в ответ что-нибудь резкое, но голова так ломила, что он не нашел сил.
– Ужасно.
– Хотите… лекарство?
– Что?
– Лечебная доза спирта.
– Опохмеляться? Какая мерзость. Это же пошло.
– То, что облегчает физические и нравственные муки, не может быть пошлым.
– Поверите? Я войну прошел, а до такого…
– Охотно верю. Вы не похожи на пьяницу. Но, коли случилось… Впрочем, вольному воля.
Голова клонилась, если он не поддерживал ее руками.
– А поможет?
– Я надеюсь.
– Тащите. Черт с ним!
Глотать было нелегко, но Воздвиженский не обманул.
– В самом деле, – сказал Юрий через несколько минут, – такая гадкая штука, а помогает.
– Клин клином.
– На себе опробовали?
– Однажды в Галиции. Работали в госпитале несколько суток без малейшего отдыха. Думали, конец. Расслабились и напились. А тут новая партия раненых. Чувствуем себя полумертвыми. Что было делать? Приняли лечебную дозу, и за обработку раненых…
– Руки вместо ног не пришивали?
– Не помню такого.
Юрию уже стало легче, даже легко, и он смог улыбнуться.
– А вам почему не спалось?
– Я часто не сплю в это время.
– Бессонница? Наверно, неприятно?
– Когда как. Сейчас хорошо.
Воздвиженский посмотрел в небо. Небо было очень темное, хотя звезд светилось бесчисленное множество.
– Считаете звезды?
– Просто смотрю, вспоминая Канта. Он говорил, что две вещи его поражают – небо над головой, и сложность души человеческой. Кажется, так. Во всяком случае, меня поражают именно эти вещи.
– А то, что между ними?
– Простите?..
– То, что между человеком и звездами? Хаос окружающего бытия вас не поражает?
– Хаос бытия лишь следствие взаимодействия главных сил – вселенной и человека.
– Да вы философ! Завидую вам.
– У меня перед вами одно только преимущество, мне осталось жить меньше.
Воздвиженский ошибался, ему предстояло жить еще больше двадцати лет, а Юрию меньше двух.
– Вы так мало цените жизнь?
– Как вам ответить, Юра?.. Жизнь нельзя ценить меньше или больше. Или вы ее цените, или… смотрите со стороны. Я так думаю.
– И это можно… смотреть со стороны?
– Я стараюсь. Однако не уверен, что уже преодолел себя.
– А что делать мне?
– Ваш путь, кажется, определился.
– И что бы вы сделали на моем месте?
– Боюсь, что никто и никогда не может оказаться на месте, предназначенном для другого.
– Почему же? Идешь в наступление, спотыкаешься о кочку, невольно ступаешь в сторону, и тут твое место в цепи занимает другой и получает пулю, направленную в тебя. Только потому, что оказался на твоем месте.
– Нет. Вы не ушли от своей пули. Вы лишь посторонились, пропуская чужую пулю.
– Так просто?
– Пожалуй.
– Вы верите в предназначение?
– Да. Мир только представляется нам хаотичным. Мы не можем его понять и боимся сознаться, что он непостижим, а следовательно, и независим от нашей воли, наших усилий, даже мольбы, которую мы вкладываем в молитву.
– Вы отвергаете религию?
– Маленьким я был очень религиозен. Я ведь из семьи священнослужителей.
– А теперь?
Воздвиженский ответил не сразу.
– Я не изменился. Но изменился мой бог. Теперь мне понятнее мнение греков о том, что мир создан плохими богами.
– И вы верите в плохого бога?
– Нет, это упрощение. Я верю в непостижимого… Мой отец верил в справедливого бога. Верил душой. Я помню. А потом он погиб на рельсах, спасая ребенка…
– Из-под поезда?
– Да. Ребенок упал с дебаркадера железной дороги. Я тогда порвал с религией. Мне не нужен был иной бог, кроме справедливого. Конечно, это было наивное, детское представление о боге.
– И вы преодолели его?
– Не сразу. Сначала я стал воинствующим атеистом. Даже на естественный факультет пошел, чтобы разоблачать… Но это оказалось слишком просто. Ведь атеизм привлекателен именно обманчивой простотой. Бога нет, все случайно. Порыв ветра подхватил полу рясы, и она зацепилась… И отец погиб. Ужасно, но очень просто. И понятно. В атеизме все просто и понятно. Откуда мы? От обезьяны. Освободили конечности и начали трудиться. Только зачем пулеметы и пушки делаем, если разумны и трудолюбивы? Разумный ведь не убьет, а трудолюбивый не разрушит… Вот в чем вопрос.
– Зачем же пулеметы?
– Не знаю.
– Но шаг в сторону я сделал не случайно?
– Убежден.
– К чему же наши усилия? Цель жизни?
Воздвиженский спросил мягко:
– А какая у вас цель?
Это был трудный вопрос. К чему он стремится? Свергнуть Советскую власть? Завладеть драгоценностями из банка? Или просто жениться и жить тихим совслужащим? Все это перепуталось сейчас в голове.
– В детстве, по примеру отца, я хотел стать врачом.
– Хотели?
– Да. После первого госпиталя не хочу.
– Оттолкнуло?
– Разочаровало. Слишком много раненых умирало. Что это, по-вашему, судьба или бессилие медицины?
– Судьба тоже загадка. Может быть, звезды слушают нас…
Как влияют на жизнь человека поступки, заметно почти всегда, но далеко не каждый замечает влияние слова, даже собственного. Воздвиженский не собирался и не хотел влиять на жизнь Юрия. В эту темную летнюю ночь он и не думал о том, как слово его отзовется. Он всего лишь делился навязчивыми мыслями, преломляя и замыкая их на себе, не подозревая, что муки его незнания отзываются в хмельной голове Юрия странным «познанием», превращая цепочку случайностей в якобы закономерный ряд заранее предопределенных событий. Встреча с Техником, появление Барановского, знакомство с Софи, авантюристический план ограбления банка – все, что недавно совсем казалось странной игрой ничем не связанных неожиданностей, предстало перед ним в ином свете.
«Я натыкаюсь на ухаб и делаю непроизвольный шаг, чтобы предоставить возможность произойти неизбежному… Как это верно. Не могут же все те ухабы, на которых я спотыкаюсь непрерывно в, последнее время, быть случайными? Нет, это вехи, расставленные судьбой на моем пути. Куда же ведут они?
– Не знаю. Но наверняка к намеченной и неизбежной цели…»
Мысль показалась глубокой, а на самом деле это было лишь – самооправдание слабовольного человека. Но оно пришлось по душе, вносило ясность в хаос. Мнимую ясность…
– Вы очень интересный человек, – сказал Юрий.
Воздвиженский пожал плечами в темноте.
– Возраст располагает к размышлению.
– Разве вы старик?
– По годам еще нет. Но душой… Не зря считается, что впечатления детства сопровождают нас до гробовой доски, а иногда и определяют ход жизни. Моя детская трагедия – отец погиб на моих глазах – как бы разъединила меня с жизнью, выбросила на галерку, откуда сверху я смотрю на сцену. Я наблюдатель, зритель, а не актер, не участник. Да и как участвовать в такой жизни?
Он выделил слово «такой».
– Как можно ее любить или даже ненавидеть? На нее можно только взирать в печальном изумлении. Вспомните Пилата. Наместник могущественного Рима не смог предотвратить зла. А оказалось, что так было нужно. Пока он с горечью умывал руки, вершилась высшая воля. Наверно, и сейчас звезды что-то решают…
– Что?
– Этого нам не узнать.
Вернувшись в комнату, Юрий долго не мог заснуть.
«Этот человек прав. Разве можно осмыслить и понять то, что произошло в мире, в России, со мной всего за несколько лет! Наш разум бессилен. Если это высшая воля, нужно склониться перед ней. А если все-таки хаос случайностей? Тем более. Случай не повторится. Нельзя от него отказываться…»
Еще не изреченная, но ложная мысль звала к логическому завершению. Он вспомнил слова Барановского: «Пока мы живы, мы обязаны сделать все для нашей несчастной страны. В сущности, мы делаем это для себя. Так в чем колебаться?»
И отсюда мысль собственная:
«Богатая сволочь, что ценила нашу кровь по двугривенному, где-нибудь в Монте-Карло швыряет деньги под колесо рулетки, а я буду лезть в земляной норе под чекистские пули. Для кого?»
«В сущности, мы делаем это для себя. Так в чем же колебаться?..»
И зачем, если ведет сама судьба. Через столько препятствий! Через тоннель к свету…
Так ему казалось.
* * *
Поздно заснула в ту ночь и Таня.
Собственно, легла она довольно рано, но спать мешали думы и Максим. В открытое окно все время врывались действующие на нервы будоражащие звуки – то визгливые прогоны фуганка, то бессистемный стук молотка. Это плотничал в сарае Максим. Визг и стук не давали ни спать, ни думать. Измучившись, Таня встала, накинула на плечи платок и как была, в длинной ночной сорочке, пошла в сарай.
А Максим как раз отложил инструменты и присел на пороге. Как и Воздвиженский, он смотрел в небо и видел тысячи звезд, но не думал ни о них, ни о себе. Физическая усталость успокаивала, и он просто сидел, с удовольствием ощущая наработавшиеся мышцы.
– Закончил, Максим? – спросила Татьяна. Она была рада, что он уже не у верстака и не придется пререкаться, это было ей почти не под силу.
– Да нет еще.
– До утра колотить собираешься? Раздражение, что подняло с постели, сразу же вновь охватило ее. Она напряглась, готовая к схватке, но Максим пояснил спокойно:
– Не поняла ты. Работу не закончил. А на сегодня – будя. Хотя делов накопилось. Пока мировую революцию делал… накопилось.
Миролюбивый тон располагал к взаимности.
– Что за дела?
Максим вздохнул, но без огорчения:
– Начать да кончить. Рамы жучок поел. Две двери перекосило. На чердаке кое-что подправить нужно. Но это по мелочам.
– А главное что?
Он ответил охотно:
– Мебелью займусь. Посмотри, какую я доску мраморную купил. По случаю досталась.
Максим, встал, освобождая вход в сарай. Там под керосиновой лампой действительно стояла отшлифованная каменная доска.
– Зачем она тебе?
– Умывальник сделаю хороший. С зеркалом. А главное, хочу за письменный стол взяться. Для тебя.
– Для меня? – удивилась она.
– Тебе. Ты ж у нас образованная. Может, и дальше учиться будешь. Раз уж начала. Это мое дело стружку гнать… Выучишься, сама учительница станешь. Где ж детские тетрадки раскладывать? Стол нужен.
Говорил он буднично, без нажима, но в то же время уверенно, как о деле решенном, исключая возможность ухода сестры в другой дом. И хотя это совпадало со всем ее сегодняшним настроением, Таня слушала в растерянности. Трогала забота брата, ей непривычная, но и ранили его слова, вроде бы разводит, не спросившись.
Развязывая и снова непроизвольно завязывая платок на груди, Таня сказала:
– Меня сегодня Вера Никодимовна к ним переехать просила.
– Кто?
– Вера Никодимовна, мать Юрия.
– А… «свекруха».
«Зачем я сказала? Ведь все равно не перееду», – пожалела о сорвавшихся словах Таня.
Максим молчал.
– Что ж ты? – нарушила Таня молчание.
– Он что?
Вопрос был негромкий, но оглушительный. Зазвенело в ночной тишине.
– Он-то просил? – повторил брат.
– Почему ты так спрашиваешь?
«Потому что с другой его встретил», – хотел сразу сказать Максим, но сразу не решился.
– Да ведь сколько уже канитель эта тянется…
– Это не канитель.
– Знаю. Любовь. А все равно, тянется, да не получается. Потому что, если прямо на вещи смотреть, как был он тебе не пара, так и сейчас не пара.
– По-моему, революция всех уравняла.
Сказано было это из годами сложившейся привычки противоречить.
– Думаешь? А по-моему, людей, Татьяна, не сравняешь. Арбузов и то двух одинаковых не бывает. Один красный, а другой… белый. Юрий твой тоже навряд ли порозовел. Вот и суди сама – раньше ты хоть в приличную семью входила, к лучшей, по твоим понятиям, жизни приближалась. А теперь? Брат из партии вышел, а муж кто? Никуда от его прошлого не денешься.
– Что ж его, всю жизнь преследовать будут?
– Преследовать, может, и не будут, но резво скакать не дадут. Потому что клеймо. Прошлого не сотрешь. Раньше ноздри рвали, а теперь анкета метит. Куда ни придет, ему прежде всего бумажку в руки и чернила. Садись, мил человек, пиши, кто ты есть. А куда ему и идти-то? Ничего не умеет. Попросту говоря, недоучка. Вот и выходит, что снова не пара, хоть и с другой стороны. Ты-то еще расти можешь.
– Максим! Не говори так.
– Разве неправда?
– Может быть, и правда. Но тем более!
– Я так виновата перед ним.
– Уверена?
– А ты не знаешь!
– Знаю. Потому и говорю.
– Ты его всегда ненавидел.
– Ну уж и ненавидел. Не любил, точно. А за что мне его любить? Чужой он мне по духу человек.
– Ты и мне так говорил.
– С тобой дело другое. Хоть и жили, как собака с кошкой, а кровь одна. Вот и жалею. Ну на что он тебе… такой?
Все говорил Максим правильно, но он всегда правду говорил – во всяком случае, верил, что говорит правду, – только правда его всегда была тяжелая, прибавляла груза, а не облегчала. И сейчас тоже. И потому Татьяна не соглашалась, а спорила, возражала.
– Да не дрянь же я! Когда выгодно – любить, когда плохо ему стало – бросить… И так виновата, что б ты ни говорил!
– А я скажу. Он по ребенку горюет?
Таня натянула платок на плечи: показалось, ветерком повеяло.
– Он иначе переживает, он же никогда не видел мальчика.
– А если б увидел? Порадовался?
Она вспомнила первую встречу с возвратившимся Юрием.
– Как я знать могу? Не спрашивай.
– Думаю, не возрадовался бы. Куда ему в нынешнем его положении еще камень на плечи! А если переедешь, придется все рассказать, верно?
– Верно, Максим, верно. У тебя что ни слово, то гвоздь забитый. Одним ударом по шляпку.
– Не я бью. Жизнь. – Он вошел в сарай, взял табурет, вынес. – Да ты сядь. В ногах правды нет.
– Какую еще ты правду от меня хочешь?
Но села. Устала на ногах.
– Не обижайся, Татьяна. Ничего я от тебя не хочу. Переезжай, если решилась. Живи, пока сложится. А не сложится – сейчас воля: сегодня расписался, завтра выписался. Вот тогда и вернешься в отчий дом. Я стол тем временем сделаю. Хороший. Положишь тетрадки просторно. Одну проверила – направо. Слева другую возьмешь. Места много будет. Посреди прибор письменный поставим, с бронзовыми чернильницами, с пресс-папье, все, как у людей!
– Максим, не шути, прошу тебя.
– Я от души говорю. Запуталась ты. Одна сейчас у тебя надежда – на нас, на родных. На отца с матерью, на брата старшего. А сестра уже выручает. Вот так. А Юрий твой… Помнишь цацки?
Конечно, она помнила. Только когда это было?..
Весной, после того как сходил снег, в прорытых талыми водами канавках на вербовских пустырях заманчиво поблескивали осколки битой посуды, зеленые и светло-коричневые бутылочные стеклышки. Изредка попадались и фаянсовые черепки с кусочками рисунка – цветком или золотой полоской, «цацки», как называли их хуторяне, подчеркивая бесполезную, фальшивую красивость. Но Таня думала иначе.
Усевшись под плетнем, она старалась поживописнее расположить заботливо собранные стеклышки, втыкая их между прутьями. В детском воображении возникла тайная, никому больше не доступная красота, обладавшая магической силой. «Цацки», воткнутые в старый плетень, превращались в волшебную лавку. Выглядывая из-за плетня, Таня следила за прохожими. Вот появилась вдова Ухрянченкова, муж которой не вернулся с японской войны, а младший сын был слабеньким и хворым – о нем на хуторе говорили «не жилец». Таня закрывала глаза, и ей виделась такая картина:
Вдова заходит в лавку.
«Здравствуй, Танюшка. Мне нужна красивая мисочка. Сынок мой, Яша, плохо кушает. Может, из красивой он больше кушать станет и поправится?»
Таня вынимала осколок белой чашки с голубой розочкой.
«Берите вот эту, тетя. Это мисочка волшебная. Захочет Яша лапши – лапша сама в ней появится. Поест лапшу, а там уже узварок сладенький или молочко. Вот Яша и будет кушать и кушать, пока не выздоровеет».
«Спасибо, добрая девочка».
А по улице с палкой, в овчинном тулупе шел уже злой старик Антип Волков, хуторской нелюдим, всегда готовый спустить цепного пса на ребятню, покусившуюся на его кислые груши.
«Слышь, девка! Говорят, ты лавку волшебную держишь?»
«Да, дедушка Антип. Что вам нужно?»
«Чугунок побольше, чтобы в нем борщ сам варился».
«Вот, берите».
Таня протягивала старику кусок закопченного металла. Конечно, такая «цацка» не украшала магазин, но волшебной силой обладала вполне. День и ночь будет вариться в чугуне жирная свинина, такая жирная, что жадный дед оторваться не сможет, пока не помрет от расстройства живота…
Постепенно фантазия переплеталась с повседневной жизнью.
Однажды отец с Максимом отправились на сенокос, а Таня, как обычно, сидела под плетнем, мечтала о том, чтобы волшебные стеклышки принесли счастье не ей одной, но всем в семье. Потом ей казалось, что думала она о старшем брате…
Вернулись отец с сыном под вечер, и, едва въехали во двор, Василий Поликарпович, не распрягая лошадь, торопливо вошел в хату и истово перекрестился. Случилось, что, возвращаясь, он решил спрямить путь и переехать речку вброд. В воде лошадь попала ногой в яму и перевернула арбу. Максим сидел на возу с острой косой в руках. К счастью, при падении лезвие лишь коснулось горла мальчика, только окровянило кожу. Отец отнес это к воле божьей, но Таня не сомневалась, кто именно спас брата…
Кончилась «магия» печально.
Детская мысль даже в фантазии развивалась по-своему логично, последовательно. Если «цацки» волшебные и могут многое сделать, то еще больше они сделают, если число их и качество возрастут. Но где взять всемогущие осколки?
Как-то мать возилась по хозяйству, а Таня присматривала за младшими братьями. Подойдя к погребу, Алена Ивановна крикнула ей:








