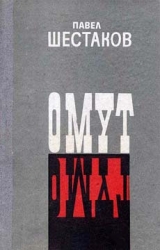
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Так неожиданно, но не случайно, заканчивалась поначалу восторженная запись. Любовь трудно давалась Тане. Что-то постоянно сдерживало ее чувства – темперамент или воспитание, природная осторожность или предчувствие будущих бед – сказать трудно. Скорее, все, вместе взятое. Как Золушка, она всей душой стремилась на бал, но по-крестьянски недоверчиво опасалась принца.
И вот…
«12 апреля.
Сюрприз!
Ю. прислал письмо с настоящим признанием. Письмо написано стихами и кончается настойчивой просьбой подтвердить мои чувства тоже письмом.
Читаю, и все ликует в моей душе».
Казалось, ничто больше не препятствовало полному счастью.
Но на следующий день, тринадцатого, Тане в голову пришла убийственная мысль:
«Почему он хочет, чтобы я написалаответ на его послание? Почему он не нашел возможным сказатьто, о чем написано в стихах, и спросить моего устногоответа? Почему?
А что, если ему надо всего лишь доказать друзьям силу своего обаяния? Эта мысль настолько страшна, что сводит меня с ума. Я сидела с письмом за отдельной партой на уроке рукоделия, и невыносимая тоска охватывала, мое сердце. Он ждет письменного ответа, он умоляет прислать его скорее. Зачем так спешить? Чтобы не дать мне опомниться?
Письмо жгло сердце, так как лежало на груди, за фартуком. Все в нем кажется таким искренним! Но что, если я открою ему душу, а он сомнет все лучшее грубой рукой и пришпилит мой ответ под очередным номером к коллекции легкомысленных женских сердец?
Нет! Такого мне не пережить! Лучше потерять Ю., чем оказаться в жалком, унизительном положении! Могу ли я судить о нем правильно? Ведь мне только шестнадцать лет. Какой у меня опыт? Из книг? Да, я читала много, но разве все Инсаровы и Елены? Нет, конечно!
На уроке русского языка я незаметно написала:
„Ю! Я не могу ответить Вам“.
Пусть понимает, как хочет. Мое чувство к нему навек, и именно потому я не могу рисковать им. Любит ли он меня так, как люблю я? Нет, лучше оставить наши отношения невыясненными, тогда он никогда меня не забудет. Благодаря моей недоступности я останусь в его душе до гроба. Это лучше, чем сделаться очередным увлечением.
Вечером я никуда не пошла и рано легла, положив его письмо под подушку. От него шел запах любимых мною духов „Цвет яблони“. Очевидно, Ю. умышленно надушил бумагу этими духами».
Через несколько дней:
«Что со мной творится? То молю небо, чтобы он был со мной, то сама бегу от его и держусь резко и неровно. Как бы я хотела стать другой!»
«Стать другой» Таня решилась только осенью. Приближался традиционный гимназический бал 24 ноября. Этот день, по замыслу Тани, должен был соединить их окончательно. Она готова была сделать первый шаг.
Но произошло непредвиденное. Вмешался нелепый и жестокий случай.
«Уже в 8 часов начались выступления наших артистов. Ю. не было. Меня снедало беспокойство. Нет его, нет… Неужели я его не увижу? Не помню, что было на сцене, не видела и не слышала ни одного номера. Все во мне горело. Я встала и пошла в буфет, чтобы выпить воды.
И вдруг на лестничной площадке столкнулась с Ю.
Мы оба растерялись, покраснели. Он остановился, посмотрел на меня выжидательно. Но… точно злой рок преследовал меня. Я услыхала снизу голос классной дамы:
– Мадемуазель Пряхина! Пожалуйста, зайдите в учительскую.
Ю. посторонился, и я почти сбежала по лестнице. Ну зачем я понадобилась в то самое мгновенье, когда мы могли протянуть друг другу руки, что-то сказать! Войдя в учительскую, я мельком взглянула на себя в зеркало, Лицо пылало, но следовало держать себя в руках, помнить о реверансах и прочем этикете.
На большом диване лежала Нина Ч. Классная сказала;
– Она поскользнулась на паркете и упала. Ее тошнит. Вероятно, сотрясение мозга. Мы уже вызвали врача, а вас я прошу сходить к родителям Нины. Пригласите их сюда по возможности тактично, не особенно волнуя.
Я молча взяла деньги на трамвай, пальто на вешалке и ушла за родителями Нины. А когда через час вернулась, Ю. уже не было. Мой уход он принял за очередную выходку и не стал меня дожидаться!»
Последняя страничка из дневника:
«Он уехал! Он уехал… Уехал, не сказав мне ни слова. Уехал, не простившись. Поступил в армию, хотя срок его призыва еще не подошел. Как это пережить! Мой эгоизм, моя чрезмерная гордость, мое слишком большое самолюбие – и вот результат. Даже если бы я умоляла сейчас его вернуться, ничего уже поправить нельзя. Он пленник войны, он больше не принадлежит ни себе, ни мне. Какое безумие! Настоящее самоубийство. Сколько уже погибло и солдат, и офицеров!
О Юра! Какую тяжелую рану ты мне нанес! За что? За мою черствость? За мои капризы? Но что они в сравнении с тем шквалом страданий, которые ты обрушил на меня! О, как скорбно на душе! Нет его, и нет жизни… А если я его на смерть толкнула? Как тогда жить?!.»
Больше Таня не вела дневник..
Сначала ее подавила тяжесть разлуки, а вскоре Россию захлестнули события, не вмещавшиеся на тетрадных страницах. Три года прожили они, встречаясь лишь изредка и ненадолго. В одну из таких кратких встреч Таня и Юрий, стали мужем и женой. Она уступила из страха вновь допустить ошибку, мучаясь своей виной, в смятении перед бушевавшей грозой, однако неумолимая волна обрушилась и унесла Юрия, как казалось, навсегда.
Израненная и измученная, Таня медленно привыкала к жизни, в которой разбились все ее мечты и надежды, когда однажды утром Вера Никодимовна, не подозревавшая, что Таня уже стала матерью ее внука, постучала в окно дома Пряхиных, чтобы вырвать ее из тусклого смирения, но не для радости, а лишь для новых волнений, испытаний и разочарований.
* * *
Тем же утром, хотя и чуть позже, двое молодых людей – мужчина и женщина – встретились в чайной на Софийской улице. Хотя вечерами в этом подвальчике с кирпичными сводами и полукруглыми окнами под потолком собирался и шумно засиживался допоздна народ явно подозрительный, в ранний час чайная выглядела скромно и вполне прилично. Так же скромно и прилично выглядели эти двое за чистым столиком, покрытым белой крахмальной скатертью. Они пили чай из приземистого медно-красного самовара и ели, французскую булку с маслом.
Хотя оба были молоды, не молодость обращала на себя внимание, напротив, суровая жизнь в суровое время наложила на обоих характерный отпечаток ранней зрелости.
Мужчина пришел раньше, женщина на несколько минут припозднилась. Когда она вошла, самовар уже стоял на столе.
– Простите, – сказала она, глянув на маленькие часики.
– Что вы, Сонечка! – Он помог ей выдвинуть стул. – Это право дамы.
– От дамских прав я давно отказалась.
– Это ужасно. По-французски – террибль.
– Слава! Прошу вас, не злоупотребляйте познаниями в языках.
– Пардон, перехожу на русский. Я счастлив нашей встрече. Вы всколыхнули прошлое. Последнее перед войной лето. Море… Как я завидовал волнам!.. Я, почти мальчик, самолюбивый, угрюмый мечтатель… А вы…
– А я? – усмехнулась она.
– Я бы сказал «шарман», но вы запретили… Вы были изумительны. Как в стихах:
Мы читаем Шницлера. Бредим мы маркизами,
Осень мы проводим с мамой в Туапсе.
Девочка с привычками, девочка с капризами,
Девочка «не как-нибудь», а не так, как все.
– Я тронута, Слава. Но ничего этого не было, дорогой мой. Хотя мы действительно были знакомы тысячу лет назад. И даже в Туапсе. Однако с тех пор минула вечность. И, признаюсь откровенно, я бы не узнала вас, если бы встретила случайно.
– Но вы узнали. И даже предложили повидаться. Здесь.
– Я хотела вас видеть. Вы нужны мне.
– Польщен, – слегка наклонил голову бывший реалист Слава Щ. – Я к вашим услугам. Однако кто тот любезный посредник, которому я обязан?..
– Вы его не знаете. Но о вас ходят слухи. Услыхала и я. Вот и все. Теперь я приступлю к делу.
– Минутку. Вы упомянули о слухах, а я терпеть не могу сплетен. Что же вы слышали обо мне?
– То, что я слышала, мне понравилось, хотя пассажиры восемьдесят шестого поезда, возможно, и не разделяют мою точку зрения.
Техник пробарабанил пальцами по скатерти.
– Вы прекрасно осведомлены.
– Стараюсь.
– Это заслуживает поощрения. Позвольте маленький презент.
– По-французски – подарок?
– Вот именно.
Техник протянул через столик кулон в тонкой оправе.
Софи сделала отрицательный жест.
– Вам не понравилось?
– Мне этого мало. Мне нужно гораздо больше.
Он вздохнул и спрятал кулон в карман.
– Увы, девочка с капризами. Сейчас по железным дорогам передвигаются одни бедняки.
Техник взял нож, чтобы намазать масло на булку.
– Вы не поняли меня. Я пришла не просить, а поделиться.
– О!..
– Но прежде один вопрос.
– Я весь внимание.
– Как вы собираетесь жить дальше?
Он задержал в руке нож с кусочком янтарного масла.
– Вопрос в некотором смысле исповедальный. К сожалению, мысль о завтрашнем дне – проклятье современного цивилизованного человека. Ученые утверждают, что людоеды в отличие от нас никогда не планируют ничего, кроме ближайшей трапезы.
– Но вы не дикарь.
– Пожалуй. Я думаю, что людоеды добрее несчастливее меня.
– И все-таки?
– Вы о будущем? Что ж… Я хочу преуспеть вместе со страной.
– Разве страна преуспела?
– Страна двинулась новым путем. Оживает торговля. Вы же видите, мы уже едим масло. У меня тоже есть скромные сбережения. Почему бы не вложить их в какое-нибудь маленькое, но надежное дело? Так сказать, кусок хлеба на старость.
– Вы не доживете до старости, Слава, – перебила она жестко. – И вы это прекрасно знаете.
– Не уверен в вашей правоте. Однако Сенека сказал: «Не все ли равно, сколько времени уклоняться от смерти, которой в конце концов все-таки не избегнешь?» И тем не менее он протянул до семидесяти, прежде чем ему вспороли вены. А за что казнить честного торговца?
– Слава! Может быть, я девочка «не так, как все», но это еще не значит, что я идиотка. Зачем вы городите эту чушь о нэпманской лавочке? Во-первых, вас сразу же разоблачат, а во-вторых, разве вы не понимаете, что вся эта новая политика всего лишь большевистский трюк, чтобы заставить дураков вытряхнуть кошельки?
– Вы так думаете?
– Ленин так думает. Но главное, в-третьих. Вы не сможете быть лавочником.
– Мой почтенный родитель был коммерсант.
– А вы налетчик.
Техник сморщился:
– Как я не люблю это слово! Если б вы, Сонечка, знали, как оно мне не нравится. Оно коробит меня, раздражает.
– Почему?
– Я люблю точность. Нужно говорить не «налетчик», а «налет»! Так назывались на Руси издревле те, кого с легкой руки французов прозвали в двенадцатом году партизанами.
– Значит, вы партизан?
– Ни в коем случае! Партизан – это один из партии, я не хочу быть ни в какой партии – ни в политической, ни в партии ссыльно-каторжных. Я сам по себе. Я – налет. Вихрь, поражающий на лету. И я самолюбив. Меня отталкивает уничижительный суффикс «чик». Нет, Сонечка, я не налетчик, я – налет. Вы чувствуете разницу? Я убедил вас?
– Вполне. Ваши лингвистические изыскания производят впечатление. Для будущего лавочника вы весьма образованны. Но читаете ли вы газеты?
– Газеты? – удивился Техник.
– Да. Эти серые листки, которые ежедневно обещают вам неизбежную революционную кару?
– Еще бы! Я даже делаю из них вырезки.
– Коллекционируете сообщения о смертных приговорах?
– Вы почти не ошиблись.
Техник вытащил из внутреннего кармана френча бумажник и извлек из него клочок плохой газетной бумаги.
– Вот, например. Прошу ознакомиться.
Софи прочитала:
«Приказ по городской милиции № 71.
Кровью лучших своих товарищей милиция запечатлела свою преданность рабоче-крестьянской власти. Около двухсот работников милиции погибли на боевом посту в борьбе с наймитами капитала.
С целью увековечения имен погибших и погибающих работников милиции учредить „Книгу памяти погибших работников милиции“.
Ныне в этом скорбном списке сто восемьдесят шесть фамилий».
– Каково сказано – «погибших и погибающих», – повторила Софи, и глаза ее блеснули. – Вам не хочется округлить эту цифру?
– Я не люблю стрельбу.
– А если она принесет вам состояние?
– Я скромен.
– Оставьте. Я говорю серьезно. Речь идет о сумме, которой хватит на всю жизнь. И на какую! Разве нас не привлекает настоящаяжизнь?
– Где она, Соня? – откликнулся Техник меланхолично.
– Там.
Она показала чайной ложкой на запад.
Но он только покачал головой.
– Как сказал Марк Аврелий, какая разница, на каком клочке земли мы пресмыкаемся? Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет… И, кроме того, там нужен оборотный капитал в твердой валюте.
– Именно такой я и хочу, вам предложить.
Техник посмотрел с насмешливым интересом.
– Вы приобрели на толкучке лампу Аладдина?
– Нет, я кое-что узнала из газет.
– Забавно. Хотелось бы почитать.
– Пожалуйста.
Софи раскрыла сумочку, и теперь уже в руках Техника оказалась вырезка из газеты.
Он бегло просмотрел ее.
«…В здании бывшей городской управы всю ночь кипела работа, писались ордера на обыски, проводили задержания, шел допрос, освобождали случайно задержанных. И делал это пролетариат.
…собралось свыше двух тысяч человек, которые с энтузиазмом отозвались на призыв Военно-Революционного комитета пойти и проделать эту работу…
В эти дни проводится целый ряд мер для укрепления Советской власти… Пусть буржуазия плачется по поводу расправы с ее классовыми братьями! Фактически ничего подобного не было: расстрелы не проводились, а больше всего буржуазию страшило то, что ей не было выхода, что придется расстаться с бессовестно награбленным у трудового народа…»
– Что это, Соня?
– Статья. Она называется «Повальные обыски и диктатура пролетариата». Автор – здешний наместник Дзержинского, некий Третьяков.
– Ну и что?
– Ему можно верить.
– Да кто ж ему не верит! Эту ночку состоятельные граждане запомнят надолго. Как он пишет: «кипела работа», «свыше двух тысяч с энтузиазмом…» Подумать только, что значит потрошить карманы во имя идеи! Это вам не рутинный налет на поезд с нищими.
– Не на идею они работали.
– Разве они поделили конфискованное между собой?
– Нет. Они оставили его нам.
Техник рассмеялся.
– Милая! Это же было в прошлом году. Все ценности давно брошены в жертвенный костер мировой революции. Где-нибудь в Германии, разоруженной в Версале, на них приобретены за границей винтовки, которые по ночам протирают тряпочкой аккуратные немецкие пролетарии в ожидании команды Коминтерна. А сами ценности там, где им и положено быть, – снова у богачей. Украшают дам на Елисейских Полях.
– Вы ошибаетесь. Они находятся в подвале нашего городского банка, бывшего Коммерческого.
– Вы шутите?
– Такими сведениями не шутят.
– Откуда же у вас эти феерические сведения?
– У меня есть добрый друг в банке.
– И он не уберег тайну вклада?
– Можно считать и так.
– Ваш друг, надеюсь, серьезный человек?
– Да.
Техник подставил чашку под струйку кипятка.
– Хорошо. Предположим, что ценности в банке. Но вы знаете, как он охраняется? Одни стены метра полтора толщиной. Это же был солидный, известный на всю Россию банк. Он гарантировал интересы вкладчиков.
– Разве я предлагаю брать банк штурмом, как замок барона Фрон де Беф?
– У вас есть волшебная палочка?
– Что-то вроде этого. У меня есть план.
– Фантазия!
– План реальный.
– Сонечка! Вы поражаете меня. Но я слушаю.
– Нет. На сегодня достаточно. Я вижу, вы сомневаетесь. А здесь не может быть колебаний. Дело слишком серьезное. Решиться нужно твердо. Подумайте… Я подожду… немного.
Он не стал возражать.
– Согласен. Я подумаю. Но почему вы обратились именно ко мне?
Она улыбнулась.
– Я помню, что когда-то ваш любимый герой был граф Монте-Кристо. Считайте, что я аббат Фариа. Как и он, одна я не справлюсь. Кроме того, для реализации плана нужны деньги.
– Много?
– Не очень. Своего рода вступительный взнос. Уверяю, вы не пожалеете о затратах.
Софи встала.
Техник поднялся следом.
– Я провожу вас.
– Ни в коем случае. Нас не должны видеть вместе.
– Вы говорите так, будто я уже согласился.
– Вы обязательно согласитесь, господин налет. Когда и где ждать вашего согласия?
– Я дам вам знать. А пока возьмите все-таки эту безделушку. В залог будущего сотрудничества!
* * *
Вера Никодимовна считала Таню девушкой с сильным характером и не могла представить, что она упадет в обморок.
Однако это случилось. К счастью, Таня успела присесть на скамейку у забора на улице, куда вышла по зову Веры Никодимовны, и поэтому не упала, а только поникла на ее плечо.
– Ничего, это пройдет, – прошептала Таня, приходя в себя, слова, которые говорят обычно в таких случаях, чтобы не волновать близкого человека.
«Как она любит Юру!» – подумала Вера Никодимовна.
– Душенька! Славная вы моя девочка! Ну что с вами? Ведь это счастье. Он жив. Вы понимаете – жив!
Но не от внезапно обрушившегося счастья, как полагала Вера Никодимовна, лишилась чувств Таня. Она уже не была той девушкой, для которой в мире не существовало никого дороже Юрия. Между ними встал третий человек. Их сын…
Когда последние отряды марковцев по речному льду покинули город, домой вернулся отступивший с красными Максим.
Во дворе он окинул хмурым и довольно равнодушным взглядом разрушенный флигель и выслушал весть о гибели вдовы Африкановой вместе со всеми ее богатствами. Максим не любил вдову, общественного паразита, как называл он Дарью Власьевну в глаза и за глаза, и сказал только:
– От своих свое и получила. А флигель подымем.
Потом прошел в дом и, положив на комод маузер в деревянной кобуре-прикладке, начал расстегивать красноармейскую шинель с красными поперечными клапанами.
– Дома, значит, в порядке?
– Бог миловал, – ответил отец.
– Помиловал бы он, если б наши с тылу по гадам не ударили… Поесть найдется? Голодный, как собака.
Мать достала из печи чугун с борщом.
– Ешь, сынок, ешь.
Несмотря на голод, Максим ел неторопливо, обстоятельно, тщательно растирая по дну миски стручок горького перца.
– Что, не горький? Я сейчас…
– Не суетись, мать, перец как перец.
Он доел борщ и вытер хлебным мякишем деревянную ложку.
– А теперь, батя, и вы, мамаша, садитесь к столу, разговор будет. И ты, Татьяна, садись. О тебе речь.
Все поняли, что разговор предвидится тяжелый. Да у Максима легких разговоров и не бывало.
Сели. Отец напротив, мать с краю, Татьяна в стороне, сложив руки на животе, схваченном теплым платком.
– Если коротко и без антимоний, – сказал Максим, глядя на сестру в упор, – так чтоб офицерского ублюдка не было. И точка.
Тишина наступила мертвая. Даже дальний орудийный гул будто приумолк на минуту.
Наконец тяжело вздохнул Василий Поликарпович:
– Как же тебя понимать, сын?
– Я сказал ясно. Свекор твой, Татьяна, несостоявшийся, что в прошлом году помер, флотский врач был. Значит, есть у них в медицине знакомые. Обратись. Обязаны помочь.
– Помочь? – переспросила мать. – Да как же они помогут?
– Темная вы, мамаша.
– Я не темная. Я все понимаю. Вытравить плод предлагаешь?
– Позор наш я вытравить предлагаю.
– Это грех, Максим.
– Грех? – Он стукнул по столу деревянной ложкой. – А ублюдка в подоле в дом принести не грех?
Отец сказал по возможности спокойно:
– Это ты зря, сын. Жизня надломилась. Всякое с людьми теперь случается. Если б не война, повенчались бы они, как положено. А теперь что говорить, когда его самого на свете нет.
– Вот и хорошо. Пусть и следа не останется.
Татьяна кусала губы. Стучало в висках. Хотелось плакать от невыносимого унижения. Но все больше поднимался в душе и креп гнев. Она и сама хотела броситься в ноги Вере Никодимовне, попросить… Но знала: та никогда не согласится. А теперь вообще поздно. Скажи она только это и, с поддержкой отца и матери, наверно, утихомирила бы Максима.
Все-таки не зверь он. От характера крутого завелся. От неведения. А если разъяснить, что ей угрожает, задумается. Поорет, конечно, еще, позлится, но на своем уже вряд ли настаивать будет… Но не могла она стерпеть унижения, оскорблений, торжества его, а ее смертельного поражения, всей своей жизни погибели. Ибо только так видела она происшедшее с ней. И потому мысль о примирении отвергла напрочь.
– Разговор этот, мама и папа, – сказала она, взяв себя в руки, насколько смогла, и умышленно обращаясь к родителям, а не к брату, – бессмысленный и бесполезный. Судьбу моего ребенка, кроме меня, никто решать права не имеет. И убить его я не дам.
На последних словах голос ее окреп. Так говорила она, когда решила поступать в гимназию, так отстаивала право встречаться с Юрием.
Максим, как и родители, хорошо знал этот тон, он понял, что не добьется, не сломит ее, и вскипел до предела:
– Твоего ребенка?! Да разве это наш ребенок? Нашего рода? Белогвардейское это семя. И ты сама контра настоящая. Ты скажи, ты кому победы хотела? Нашим, или им? Отвечай!
– Я хотела, чтобы Юрий победил. Ты это услышать хотел? Слушай. Я тебя не боюсь.
– А нас в расход? Брата на фонарь? Б… белогвардейская! Да я тебя сейчас собственной рукой…
И рука его в самом деле потянулась к комоду.
Мать кинулась, схватила тяжелый маузер.
И тогда Татьяна ударила запрещенным приемом:
– Положи эту трещетку, мама. Никого он не застрелит. Ты думаешь, почему он разорался? О пролетарском позоре кричит. Он боится, что мой ребенок сломает ему большевистскую карьеру. И все.
Каждое ее слово было неправдой, и она знала это. Но шла на смертельный риск, чтобы ударить больнее, расквитаться… Не с ним. С повергшей ее судьбой, которая сейчас глумилась над ней голосом брата.
Максим задохнулся в ярости. Еле выговорил:
– Ты это в самом деле?
– А разве не так?
– Ну, гнида… Гнида какая, а?
Мать заплакала тихо, как плачут, когда горю конца нет.
Отец встал, обвел всех глазами.
– Ну, будя. Мать! Утрись. Слезами горю не поможешь. Тебе, Максим, стыдно должно быть. Кому ты ливорвером грозишься? Не германцы мы, а родные тебе люди. И навряд твой Карла Маркс по родным сестрам палить учил. А тем более выражаться при матери. Она от меня скверного слова не слыхала, и ты не смей в родном доме уличную ругань нести, дочь ее родную обзывать. Понял, что я тебе сказал?
– Я-то понять могу. А вот она это поняла?
– С ней у меня свой разговор будет.
– Повлияешь ты на нее, как же!..
– Я влиять не собираюсь. Это у вас агитация. А у меня родительский разговор. Вот и все. А сейчас шуму конец. И так наговорили лишнего,…
Разговор с отцом состоялся с глазу на глаз.
– Думал я, дочка, думал об наших делах…
Говорили ночью, тихо. Василий Поликарпович сидел на табуретке у Таниной кровати.
– О чем: думать, папа?.. Эту… операцию, о которой Максим говорил, делать уже поздно. Сроки вышли.
– И хорошо, что вышли. Разве б я стал тебя к такому делу неволить?
– А что ж вы хотите? Чтобы я удавилась? В омут кинулась?
Отец покачал головой.
– Смири, Татьяна, гордость. Послушай с открытым сердцем. Отец плохого не пожелает.
– Слушаю вас, папа.
По старой деревенской привычке она иногда говорила родителям «вы».
– Дите твое, конечно, не ко времени. Тут – Максим прав. Но дело это природное, спокон веку дети родются. И когда хочут их, и когда нет… Но дитя вырастим. Здоровье есть пока. На кусок хлеба заработаем. Вырастим. Не в том дело.
– А в чем же, папа?
– Дело в общей линии твоей жизни.
– А… вот оно что. Об этом говорить поздно. Была линия, а сейчас сам видишь, порвалась.
– Вижу, что порвалась. Значит, непрочная была, неправильная. Выдумывала ты много. Но виноваты мы оба.
– Да вы-то при чем?
– И я вины не снимаю. Я ведь всегда за тебя вступался, побурчу, а желаниям не перечил. Захотела быть образованной, – я уступил. Решила с благородным жизнь связать – что ж, любовь да совет. А вышло-то не по-нашему.
– Разве я плохого хотела?
– Нет, наверно. Но ты в старой жизни место себе искала, а против нее весь народ поднялся. Ты подумай, какая война третий год идет. У Деникина и генералов сколько, и офицеров полно, и Антанта с ним, и танки прислали, а сделать ничего не могут. Выходит, Максим, хоть и грубиян и крикун, а умней нас оказался, правду почуял верную.
– Что ж мне делать с его правдой?
– А ты ее никак принять не хочешь?
Татьяна долго не отвечала.
– Теперь уже все равно… Вот как емужить?
И она провела рукой по животу поверх одеяла.
– Я тоже об этом…
– Ты хочешь мне что-то сказать?
– Хочу.
– Говори.
– Только ты не взбеленись. Не шуми, если не одобришь.
– Что я должна сделать?
– Да ничего такого… особенного.
– Ну, говори, говори. Тебя я послушаюсь. Ты же не Максим.
– Скажу. Поезжай в Вербовый. Там и родишь.
Она молчала, а он обрадовался, что она не пыхнула, не возмутилась, не супротивилась.
– На родине нашей. Родная земля поддержит. И Настасья там, сестра. Под отчей крышей душе спокойнее..
Таня почувствовала – отец говорит верно. Нужно укрыться, уйти, остаться наедине с собой, с близкими и добрыми людьми.
– Настасья сама маленького ждет.
Старшая сестра рожала по-деревенски, ждала уже четвертого.
– Вот и родите мне двух внуков.
Таня вспомнила, представила землю без края, зерно на ладони, спокойных коров на лугу, зеленые левады, старую грушу во дворе… И никто не узнает, не попрекнет белогвардейским отродьем…
– Хорошо ты придумал, папа…
– Я ж люблю тебя, дочка.
– Спасибо. Благослови вас господь, папа!
И она, взяв ладонями его натруженную, жилистую руку, поднесла ее к губам и поцеловала.
– Что ты, Татьяна…
Никто и никогда не целовал ему рук.
Невольно она сравнила его руки с другими…
У Юрия руки были другие, нежные, они волновали, их хотелось ласкать, но они не давали чувства покоя, надежной защиты. А отец, старый и малообразованный человек, проживший жизнь в кругу людей, что вечно толковали о пудах, быках, золотниках, о чем-то еще таком же скучном, с ее точки зрения, пошлом, понял все и вник в ее беды и сказал именно то, что нужно было ей сейчас услышать.
– Папа! Папа родной… Прости меня. За все прости. Я так виновата, так виновата…
– Да ладно тебе, ладно.
– Нет, виновата я, виновата.
– Да что ты… Мы ж как лучше хотели…
Он наклонил голову.
Что и говорить, и Василию Поликарповичу в душе хотелось, чтоб дочка его когда-нибудь в родной хутор барышней приехала, в шляпе, в какой ни на какую работу не выйдешь, в платье чистом, что то и дело подбирать приходится… Благородная, ученая… А теперь, униженная и жалкая, укрыться от стыда, приедет…
– Ну, ничего, переживем.
– Переживем, папа.
– Поедешь?
– Поеду.
Покоренная его простой убедительностью, Таня решилась сразу и окончательно, хотя до сих пор о таком и не думала.
– Я поеду, папа.
Он обрадовался:
– Ну и хорошо, ну и слава богу.
– Я поеду.
– Все хорошо будет, дочка.
И так они повторяли – «поеду», и «хорошо будет», и «папа», и «дочка», хотя уже и не было надобности повторять. Но они повторяли, и обоим становилось легче от этих простых слов, которые срывались непроизвольно, со слезами.
* * *
От железнодорожной станции в степь, где находился дальний хутор Вербовый, Таню везла на подводе, запряженной парой захудалых лошадок, бабка Ульяна, своего рода хуторская знаменитость, горбатая, похожая на ведьму, острая на язык и умелая на все руки старуха.
Ульяна была на хуторе незаменимым человеком, – всеобщим помощником – и лечила, и роды принимала, и советом подбадривала, никому ни в чем не отказывала. Потому именно она в смутное, опасное время вызвалась съездить за Татьяной, которая приходилась ей внучатой племянницей, за сотню верст, по беспокойной степи.
– Он меня спрашивает, девка, дед твой, брат мой единокровный: «А ты, Ульяна, не боишься?» А я ему: «Еще чего!» – «Так ведь много лихого народа по степи хоронится». – «А мне что? Меня не тронут. Зачем им старая? А кони видишь какие? Зубов у них меньше, чем у меня. Лихим людям конь нужен справный. И за Таньку не бойся. Со мной доедет благополучно».
Так она говорила Тане, когда, покинув маленькую станцию с разбитой снарядом водонапорной башней, двинулись они необозримым равнинным пространством, которому, казалось, и конца быть не может.
– Вы всё лечите, бабушка?
– А то как… И лекарства знаю – травы, и другое все знаю, и слово знаю.
– Слово?
– Ну а как же! Без слова снадобье не поможет.
– Что ж это за слово? Секретное, тайное?
– Почему тайное? Хочешь, тебе скажу.
Бабка улыбнулась, обнажив голые десны – у лошадей зубов все-таки побольше было, – и сказала, водя в такт сухоньким пальцем, с сильным украинским выговором:
Ишла кишка через мист,
Чотыре ноги, пятый хвист,
Шоста голова.
Хай тоби бог помога!
Бог помог – не помог.
А бабке – пирог!
Таня грустно посмеялась.
– Шутите, бабушка?
– Почему? Я эту прибаутку всегда говорю, особливо детям. Они, глядишь, и улыбнутся. А раз улыбнутся, лечение бойчее идет.
– Много лечить приходится?
– Сейчас поменьше. Людей-то поубавилось.
– Неужели так поубавилось?
– А то нет! Приедешь на хутор – сама увидишь.
И она стала называть знакомые на слух, но почти ушедшие из Таниной памяти имена.
– Да что я тебе святцы читаю! Их разве всех упомнишь! В хуторе у нас, считай, сто дворов. В каждом по два-три мужика здоровых было. Выходит, почти триста, а сейчас и сотни не наберешь.
– Неужели столько народу погибло?
– А ты думала! Кто в германскую еще, кто у красных, кто у белых, кто от тифа, кто без вести пропавший.
– Как это страшно, бабушка.
– Уж как есть. Да у нас ничего еще, а у соседей-казачков поболе полегло. Они ж злее нас. Вот они, сердечные, по всей земле лежат…
И старуха указала кнутом на придорожный могильный холмик с грубо обструганным крестом.
– Видишь, добрые люди чужака схоронили.
Таких неказистых могилок у обочины и поодаль попадалось по пути немало. Таня с волнением оглядывала окружившую их пустынную степь.
Справа и слева тянулись желтовато-бурые поля, недавно освободившиеся от снега, только кое-где по балкам он еще виднелся серыми осевшими пятнами. Над черными маслянистыми кусками пашни поднимался молочный пар. Редкие озимые переливались влажной зеленью. Воздух был свежий, но уже согретый вольно, без туч, расположившимся на голубом небе солнцем.
Лошади медленно перевалили пригорок и пошли резвее. В низине, поросшей красноталом и коренастыми вербами, широко и спокойно шла полая вода, перекатываясь по доскам моста над скрывшей свое русло речкой.
Спуск стал круче. Подвода напирала на лошадей, торопила их.
Бабка натянула вожжи:
– Не неси, не неси!
По склонам вдоль дороги карабкались черные терновые кусты с темно-синими смерзшимися за зиму ягодами и более светлый, в блекло-красных плодах, шиповник.
– Видала, добра сколько пропадает! Какая наливка с терна! А шипшина от всех болезней помога. Ничего народ не собрал…
К мосту подъезжали вброд, вода поднималась к осям, и Таня невольно поджала ноги.
– Не бойся! Я это место знаю. Тут ямка, но не глыбокая.
Проехали в самом деле благополучно, хотя и был момент, когда поток перекрыл оси.
– Ой, голова кружится.
– Да не зажмуряйся ты! Смотри лучше кругом. Мир божий во всей красе. А мы не видим его, не ценим. Гневим создателя. Не по сути живем. Вот он и наказывает за грехи наши, за самодовольство. По делам нашим.








