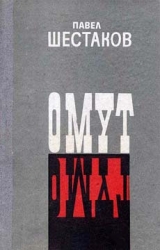
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
«Ну какие же я совершила дела?! За что меня так? За что?» – подумала с болью Таня.
– Бабушка, – сказала она, когда колеса перестали переваливаться через разбухшие доски и вода уступила тверди, – в чем же она, суть?
– Простая она, хоть для многих за семью печатями. Главное, вреда не твори. Многого не хоти. Труда не брезгуй. Кому сможешь – помоги. Вот и на душе спокойно будет, вот и проживешь, сколько господь положит, и примет он душу твою с миром. Смерти-то не боись! Нету ее…
Но она была, и неподалеку совсем.
Выстрел хлестнул в тишине, как хлопок кнута, и они разом обернулись на этот резкий, разрушающий покой звук. Наперерез, выбивая подковами комья грязи, скакали двое.
– Вот и извергов каких-то нечистый несет, – сказала Ульяна. – Тпр-р-у! От них разве уйдешь!
У Тани сердце дрогнуло, руки невольно, прижались к животу, словно в попытке защитить не родившегося еще малютку.
Верховые приблизились, осаживая сытых, беспокойных коней.
– Стой, мать вашу… Кто такие? Что за люди?
– А сами-то кто будете? – спросила бабка, разглядывая конных, затянутых в кожу, со многим оружием на ремнях, но без всяких знаков различия.
– Это не твоего ума дело. Сами кто?
– Старуха я. Горбатая. Не видишь?
– Сейчас и горбатые с пулеметов палить научились, – зло сказал ближний, чей потный конь терся крупом о борт брички. – Оружие есть?
– Какое оружие? Откудова оно, когда ты все его по пузу развешал.
– Ну, старая…
И конный, вытащив шашку, стал тыкать острием в солому, постеленную на дно подводы.
– А девка кто?
– Не девка она, а внучка моя. На сносях. Не видишь?
– На сносях! Нашла когда рожать, дура.
И он потянулся шашкой к Тане, стараясь распахнуть, приподнять полу шубы.
Таня охнула.
И тут Ульяна взъярилась:
– А ну убери железку, анчихрист! Спрячь ее, я тебе говорю! Сказано, на сносях девка. Рожать будет. Природное это дело, чтоб жизня не прерывалась. Вот тебя убьют, кто жить будет? Кто землю пахать будет?
Верховой растерялся под таким натиском, отвел шашку.
– Ты это брось, бабка! Кто тебе сказал, что меня убьют? Я еще, может, поживу. А тебе давно о душе думать надо.
– Я об своей подумала. А твоя, сразу видать, погибшая. Людей казнил, убивал?
– Война, бабка, – ответил тот, опуская шашку в ножны. – Они нас, а мы их.
– Вот то-то. Раз вы их, значит, и сам готовься.
– Типун тебе на язык, ведьма!
Он сплюнул в грязь.
– Брось их, Пантелей, к такой матери, – вмешался второй. – Пусть едут рожают. В самом деле, должон же и после нас жить кто-нибудь.
– Ну, помните нашу доброту. А самогонки вы, часом, не везете?
– Мы, мил человек, непьющие. Салом поделиться могу.
– Сала нам хватает.
– Прощевайте! – сказал тот, что поспокойнее, и первым отвернул коня.
Рванув с места, они понеслись наметом и вдруг исчезли за холмом, словно их и не было.
Ульяна перекрестилась:
– Слава тебе господи, унесло извергов.
Таня, часто дыша, водила ладонью по животу.
– Я очень испугалась, бабушка. А вы с ними так смело… Могли ведь и убить.
– До срока, внучка, никто не помрет. Бог не выдаст, свинья не съест. А страх им показывать негоже. Они того и ждут, чтоб покуражиться… Ироды царя небесного. Самогонки им захотелось… А такого вы не хлебали? – Она сделала выразительный жест и взмахнула кнутом: – А ну пошли, милые!
Ехали еще долго…
Лишь в конце третьего дня пути возник впереди и сверкнул на солнце выхваченный из синевы закатным лучом крест той самой колокольни, под которой и церковь стояла, и школа, где Татьянина мать встретила впервые будущего своего мужа, Но Таня безрадостно смотрела на открывшийся взгляду хутор, в котором не была двенадцать лет. Все эти годы она не только не вспоминала, но и не хотела вспоминать свое деревенское детство, убирала из памяти как ненужное, навсегда ушедшее, к чему возврата нет и быть не может, но вот жизнь распорядилась по-своему, заставила, и пришлось возвращаться, проделав замкнувшийся круг. На душе у Тани было горько и пусто…
Зато Ульяна радовалась благополучно завершенному пути.
– Вот мы и дома, Татьяна! Теперь не горюй. Дома и стены помогают. Теперь не пропадешь! – говорила бабка бодро и весело.
А Таня думала: «Да ведь уже пропала».
Речка разлилась раздольно, левады стояли сплошь затопленные, отражаясь в воде переплетением веток. Кое-где вода подошла к самым домам, и ватага ребятишек, охваченная озорной радостью, плыла по ней в снятом с брички кузове, заменившем им лодку. Но «лодка», конечно, забирала воду, да и мальчишки раскачивали кузов с самонадеянным бесстрашием, и вот он пошел ко дну – благо, там было неглубоко, – и мокрая детвора побежала со смехом, разбрызгивая воду, на взгорок, чтобы разуться и обсушиться на солнце.
– Башибузуки! – качала головой бабка, – И куда матери смотрют! А схватит простуду – сейчас ко мне. А я кого вылечу, а кого и нет…
Но Таня была глубоко безразлична и к радостям детворы, и к подстерегающим ребят опасностям. Подавленно ждала она, как переступит порог дома, в котором, по словам старой Ульяны, сами стены должны были облегчить ее участь.
И вот она увидела их, стены старого отцовского дома, в котором родилась и где жила теперь старшая сестра Настасья с мужем и детьми, тремя девочками-погодками. В город сестра приезжала редко и ненадолго, постоянно погруженная в хлопоты и заботы крестьянской жизни, привозила скромные гостинцы – меду или сушеных яблок, и бегала, приобретала необходимое на хуторе – мануфактуру, фитили для керосиновой лампы и обязательно лакомство – пряники. Тане сестра казалась неинтересной, рано превратившейся во взрослую, быстро теряющую молодость, простую, смешно одетую женщину. Во время этих редких и ненужных встреч Таня испытывала чувство превосходства, сознание, что сама такой никогда не будет. И вот как повернулось…
Саманные стены под камышовой крышей с маленькими оконцами не радовали глаз, особенно сейчас, когда прошлогодняя побелка пожухла, местами обсыпалась, а до новой, к пасхе, еще руки не дошли, и дом мало чем напоминал лубочно веселые изображения крестьянского жилья, что печатались в книге «Живописная Россия».
– А ну, там! – закричала Ульяна, останавливая подводу у ворот, – Живые люди есть? Принимайте родню!
Настасья выскочила, обняла, прижалась расплывшейся от непрерывных кормлений грудью и тугим животом, запричитала по-деревенски:
– Родненькая ты моя! Радость-то какая… А мы ждали-ждали, извелись уже. Да как же ты доехала?..
– Перестань, Настя, – отстранила ее Татьяна. От сестры исходил запах неухоженного тела, редко меняемой одежды. – Не от хорошей жизни приехала.
Но та не слушала.
– Заходи в хату, заходи, радость наша. А мы ждем-ждем. Проголодалась, небось…
Таня переступила порог и увидела теленка. Красивый, с белым пятнышком на лбу теленок посмотрел на нее с любопытством, но не признал, а шагнул к Настасье и ткнулся головой в живот.
– Что, Зорька, что, хорошая моя? – спросила сестра у телочки и погладила по вылизанной холке. – Поздно у нас корова нынче отелилась, – пояснила она Тане.
А та смотрела уже не на теленка, а на самодельную люльку, сколоченную из досок с подбитой вместо дна холстиной и подвешенную за крючок в кольцо, ввинченное в потолочную балку. В люльке лежала и сосала соску – тряпочку с подслащенным хлебом – годовалая девочка. Наверно, ее взволновало появление незнакомого человека, потому что, едва Таня наклонилась над люлькой, девочка сморщилась, готовая заплакать, и тоненькая струйка пролилась на земляной пол в желтый песок, предусмотрительно подсыпанный под люлькой.
«Да ведь и я в этой люльке лежала, и емупридется», – подумала она и покачнулась, выпрямляясь.
– Младшая моя, – сказала Настасья и посмотрела на девочку так же ласково, как перед этим на телку.
Таня постаралась улыбнуться, но голова закружилась.
– Что-то мне с дороги… Закачало… Прилечь бы…
– Приляжь, родненькая, приляжь. Считай, больше сотни верст протряслась. В твоем-то положении. Скидай шубу и сюда, на маменькину кровать. Передохни.
Кроме шубы, она ничего не сняла, погрузилась почти без чувств в пуховые подушки и, прежде чем забыться, подумала с удивлением: как же тут ничего не изменилось! И комод стоял на прежнем месте, и даже совсем потускневший, забеленный по краям плакат времен еще японской войны, маячил перед глазами, навечно приклеенный к стене. На плакате бесстрашный вояка в бескозырке и скатке через плечо гвоздил прикладом плюгавеньких косоглазых человечков. А внизу было написано:
Стыдно с вашей желтой рожей
И на свет являться божий!
В последнюю секунду ей показалось, что это на нее замахнулся прикладом солдат, она вздрогнула и забылась…
Проспала Татьяна до следующего утра.
– Я тебя побудить хотела, а Гриша говорит: не трожь ее, пусть поспит с устатку. Ну мы тебя шубой прикрыли, ты и спишь…
Так и дальше пошло. Ее берегли, ничего не разрешали делать по хозяйству, а сами трудились от первых петухов, серого, невидимого еще в хате рассвета, до того часа, когда Григорий, Настасьин муж, задувал чадящий тусклый светильник, изготовленный из снарядной гильзы – керосину для лампы на хуторе, понятно, не было, – и, укладываясь с женой, вместо привычных слов молитвы говорил прибаутку:
– Огонь погас, Христос при нас…
Сама Настя вела себя так, будто и не ждала ребенка. Без видимых усилий делала каждодневные дела и на удивление Татьяны откликалась просто:
– Мы привычные.
Беды она не ждала, а беда случилась.
Однажды с утра, торопясь пораньше собрать Григория в поле, Настасья подошла неосторожно к норовистой кобыле, и та ударила ее ногой в живот.
День этот Татьяне запомнился в каком-то бреду и чаду.
Чадила печь, на которой кипятили воду в ведре, бормотала что-то бабка Ульяна, бубнила под нос все время непонятное; вскрикивала пронзительно в муках Настасья, орала маленькая в люльке, пока ее не догадались унести к соседям, мычала перепуганная телка, а под конец, который наступил все-таки под вечер, залилась дурным голосом Настя, узнав, что младенец, долгожданный мальчишка, появился на свет мертвым…
И хотя не было в хуторе женщин – а рожали они часто, а то и ежегодно, – кто не хоронил бы одного, двух и больше детей, о чем и говорилось с покорным смирением «бог дал, бог взял», но каждая смерть есть смерть, тем более для Насти она была первой, и первый сын умер.
Пришло горе.
Не в силах вынести плача и рыданий, Татьяна, о которой в несчастье как-то даже позабыли, заткнув уши, выбежала во двор, споткнулась в наступившей уже темноте об деревянное корыто, из которого кормили кабана, упала, и боль от ушиба вдруг стремительно разрослась и умножилась.
И она сама закричала.
Потом ее перенесли в постель, и она почти в беспамятстве уловила, как бабка Ульяна сказала:
– Сколько годов живу, а не помню, чтоб так, одна за другой, рожали.
В одну ночь сестры родили двух мальчиков, но в живых остался только второй…
Пока обе отходили от мук, Григорий с бабкой сидели в горнице за столом, пили самогон и говорили между собой негромко и рассудительно.
Григорий был мужчиной по тем временам завидным – на германской еще лишился руки, продевал пустой рукав под ремень, и никакая власть его не трогала: понимали, что должен хоть какой мужик быть на хуторе.
Сидели они с Ульяной от тревог усталые и закусывали куриной лапшой.
– Ну и Настя убивается, – сказал Григорий, прислушиваясь к негромким, но горестным стонам жены.
– Да уж куда! – откликнулась бабка, вылавливая из деревянной миски пупок. – Несправедливость вышла.
– Три девки живые, а малец помер, – не понял до конца Ульянину мысль Григорий.
– Это само собой. Но я про другое. Потому несправедливость, что лучше б наоборот. Вам сын желанный, а ей одна помеха в жизни.
– Без мужика дитё – позор один, – согласился Григорий.
– А ведь он вам, мальчишка ее, не чужой, – заметила бабка будто невзначай.
– Конечно, родня близкая.
– Налей-ка еще, твоего помянем.
Выпили.
– А теперь за здравие.
– Так говоришь, не чужой?
– Не чужой.
Оба задумались. У бабки мысль была ясная, а к Григорию она только подходила, но чем ближе подходила, тем крепче укоренялась…
А через несколько дней за столом собрались все.
Танин сынишка на руках у Насти чмокал, сосал грудь в охотку – у матери молока не было, и она сидела серая, виноватая, не могла даже усвоить, что ребенок это ее, а уж то, что отец его Юрий, интеллигентный юноша, пишущий стихи, в этой хате и вообразить невозможно было.
Ульяна оглядела всех и приступила:
– Вот что я, милые мои, сказать вам хочу… Мы тут с Григорием умом немножко пораскинули. А Гриша мужик толковый, да и я не дура. Так что мысли наши такие, что и вам продумать их очень стоит.
Сестры переглянулись, не понимая, о чем речь.
– Дело, сестрицы, такое. У Насти беда получилась, а ты, Татьяна без радости. Верно я говорю?
Согласились молча.
Значит, поправить это нужно.
– Да как же такое поправишь? – спросила Настя, ласково придерживая лысенькую головку племянника.
– Поправить можно.
Татьяна подумала недружелюбно:
«Все-то эта старуха знает, все поправить может».
– Можно, милая, можно, – продолжала Ульяна, обращаясь к старшей сестре. – Вишь, малый в тебя вцепился, титьку сосет, как материну.
– Да уж…
Настя улыбнулась довольно.
– Не чужая, – сказал Григорий.
– Кормилица, – добавила бабка. – Кто, кроме нее, его выкормит? Разумеешь, Татьяна?
Но та не все еще понимала.
– Короче, люди вы родные, и дите почти общее, так что на кого его записать – грех небольшой.
– Как же это так?
– Да запишем твоего за Настасьей с Григорием, и все дела.
– Что вы, бабушка!
А что? Они сына ждали, вот и сын им. Вон как к мамке присосался, сама видишь. А у тебя руки развязаны, жизнь свободная. Вот всем и польза.
В первую минуту Татьяна была потрясена.
– Ни за что! Это мой ребенок!
– А ты не шуми, не шуми. Головой прикинь. Ну какая ты ему мать сейчас! Покормить не можешь даже. А отец? Безотцовщина расти будет, сирота. А тут и отец, и мать. Верно я говорю, Григорий? Верно, Настасья?
– Правильно говоришь, бабка Ульяна, – подтвердил Григорий и взглянул на жену.
А та на маленького.
– Согласная я, Гриша. Отдай его нам, Татьяна!
– Но это же мой ребенок.
Бабка разозлилась:
– Фу ты какая! Твой! Твой! Записать только на них нужно, чтобы вскормили его. А время придет, ты им еще поклонишься, поблагодаришь.
– Ужасно это, – произнесла она растерянно, чувствуя, что уступает.
– Что ж тут ужасного? Что он, подкидыш какой? На твоих глазах расти будет.
Каждое сказанное здесь слово холодило сердце Татьяны.
Родного ребенка, сына Юрия, оставить в хате с земляным полом, в дедовской люльке, с теленком рядом, который детей и чище, и ухоженнее, – это было невыносимо, подумать страшно!
Но с другой стороны, не могла она не понимать, что разумное ей говорят. Как она вернется домой с маленьким, которого и любит-то пока умом больше, чем сердцем! Где и как растить будет? Какая чужая женщина молоко ему свое отдаст? А Максим? Возненавидит? Да и вообще, сын белого офицера – не шутка. Как на него люди посмотрят? А на нее? Что же делать? Да ведь она еще учиться мечтала, человеком стать. А с маленьким на руках какая ж учеба?..
И, опустив голову на дощатый, пропитанный запахом сала и кислой капусты стол, она заплакала навзрыд.
– Таня! – вскочила Настасья.
– Погоди! – остановила ее бабка. – Пусть выплачется, успокоит душу.
Так все и молчали, пока Татьяна не подняла лицо. Вытерла платком, слезы.
– Не знаю я, не знаю. Как это сделать можно?..
Бабка ответила практически:
– По закону.
– И в церкви окрестим, как положено. А ты крестная будешь, верно? – обрадованно предложила Настасья.
– Люди же знают.
– Кому дело какое!
Дайте мне хоть день подумать…
– Чего тут раздумывать? Ну, думай, если хочешь.
И пришел час, когда сухой уже улицей, теплым днем, мимо зазеленевших верб поднялись они на пригорок к церкви, где опасавшийся новой власти священник торопливо совершил древний обряд, и Татьяна вышла оттуда уже не родной матерью, а крестной, став днем раньше сыну своему теткой по закону.
Дома Настя положила ребенка в люльку, из которой девочку отправили ползать по полу и становиться на ноги.
– Смотри, как славно лежит, умничек, – сказала она сестре, а у той сердце сжалось.
– И нас тут с тобой выходили, Татьяна. И он тут вырастет.
Говорила она радостно, а Татьяне казалось, что сына ее в гроб кладут.
Но потом все уселись за стол, ели и пили, и Таня выпила стопку, а потом вторую гадкого на вкус напитка, но после него легче стало.
А тут и Ульяна подошла, обняла за плечи, шепнула:
– Не горюй, внучка, не горюй. Все теперь хорошо пойдет. Возвращайся в город. Там тебе жить по-городскому. Там, глядишь, и человека доброго найдешь. Захочете, так парнишку и забрать можно будет. А может, и другие, свои, появятся, а этому и тут хорошо будет. Все, девка, правильно мы придумали и решили правильно.
И Татьяна улыбнулась жалко и беспомощно и сказала:
– Спасибо, бабушка.
Старуха наклонилась, поцеловала ее в макушку.
– А ну, еще по стопочке.
* * *
Вот о чем должна была рассказать Таня Вере Никодимовне.
Да разве ей?!
Юрию! Возникшему из небытия. Отцу своего сына…
– Ничего, сейчас мне станет лучше, – говорила она не в силах приподняться со скамейки.
– Конечно, дорогая. Счастье ошеломляет, но зато сколько прибавляет сил! Сейчас вы это почувствуете.
Нет, ничего такого она не чувствовала.
– Я не верю…
И я не могла поверить, когда он вошел. Но я не знала, не могла знать, а вы знаете и сейчас увидите его.
– Сейчас?
– Конечно. Я же пришла за вами. Идемте скорей!
– Сейчас? – повторила она.
– А когда же?
– Может быть, немного позже?
– Как – позже? – удивилась Вера Никодимовна, ожидавшая, что Таня не просто поспешит, но буквально помчится за ней.
– Позже. У меня такая слабость… Я должна подготовиться. И выгляжу я ужасно.
Вера Никодимовна посмотрела пристально.
Нельзя было сказать, чтобы Таня выглядела ужасно, но то, что весть не принесла ей радости и даже испугала, было очевидно.
– Я вас не понимаю, Танюша.
– Я тоже… не понимаю. Это так неожиданно.
– Это прекрасная неожиданность.
– И все-таки лучше позже.
Вера Никодимовна все больше терялась.
– Поступайте, как находите нужным… Я к вам, как на крыльях, летела.
– Простите меня, пожалуйста.
– Мне кажется, вы чем-то встревожены? Вы… не рады?
– Что вы, Вера Никодимовна! Что вы!
– А что же я скажу Юре?
– Я же приду. Обязательно приду.
– Боюсь, что он, как и я, не поймет. Или поймет превратно.
– Почему? Почему превратно?
– Все-таки он бывший офицер. Неизвестно, как к нему отнесутся власти. Может быть, вы опасаетесь?
– Как вы могли подумать! Я совсем не думала о таком. Честное слово!
– Так пойдемте! Неужели у вас не возникло желания сейчас же, – сию минуту увидеть его своими глазами, убедиться, что это не сон, что он на самом деле жив?
Таня вспомнила мокрый песок под люлькой, в которой лежал теперь ребенок Юрия.
– Не терзайте меня, Вера Никодимовна! Умоляю вас!
– Танечка! Извините меня. Наверно, у вас есть серьезные причины…
– Да-да. Есть.
Слова эти Вера Никодимовна истолковала по-своему.
– Конечно, вы думали, что Юрия нет. Что его нет совсем. Вы молодая, красивая девушка. Может быть, вы сблизились с другим человеком? Скажите прямо. Здесь нечего стыдиться.
– У меня никого нет.
Таня сказала это просто, как говорят только правду.
Вера Никодимовна смешалась.
– Как мне неудобно перед вами. Это материнская ревность. Вы поймете, когда у вас будут дети… Да вы совсем побледнели! Идите домой, Танечка. Вам действительно нужно прийти в себя, идите!
Но Таня сидела окаменевшая.
– Идите вы, Вера Никодимовна! Юра ведь ждет. А я посижу еще. У меня голова кружится.
– Как же я вас оставлю?
– Ничего. Здесь же рядом. Я приду к вам, как только смогу, Юра поймет. Он добрый, он великодушный, он обязательно поймет.
– Конечно, он поймет, милая девочка, я ему все объясню. Но он так ждет. Поскорее берите себя в руки, хорошо?
– Я скоро, обязательно скоро, – уверяла Таня, мучительно дожидаясь, когда же Вера Никодимовна наконец уйдет и оставит ее наедине с ее горем.
– Мы ждем вас, дорогая…
И она пошла вверх по улице, часто оглядываясь, но Таня уже не видела ее.
Что испытывала она в те минуты, передать очень трудно. Говоря коротко, она просто не представляла, что должна сделать. Правда была хуже измены. Все объяснения – положение, в которое она попала, оставшись одна, угрозы Максима, даже горе сестры, потерявшей сына, – могли убедить только человека постороннего, поняты умом, но не сердцем. А что почувствует он, отец, представив своего ребенка, брошенного в первобытной хате в степной глухомани?! Негодование? Ужас? Отвращение к ней и презрение!
Только сейчас Таня остро и четко осознала, что ребенок, которого считала она и собственной радостью, и собственным горем, принадлежал не только ей. Конечно, когда не было Юрия, Вера Никодимовна казалась ей человеком почти посторонним – ведь сам Юрий не говорил ей о ребенке, чтобы не волновать прежде времени, и Таня имела право, как она думала, решать судьбу его самостоятельно, особенно после известия о гибели Юрия.
Но он жив, он вернулся, и он отец, а Вера Никодимовна – бабушка, такая же бабушка, как Алена Ивановна! И если ее семья – брат, отец, сестра, Григорий, бабка Ульяна – приняли участие и распорядились судьбой мальчика, то сможет ли Юрий понять, почему никто не спросил мнения и совета его матери? А Вера Никодимовна? Как решат они поступить, узнав правду? Наверняка потребуют вернуть ребенка! Но ведь он не просто оставлен в чужой им семье, он усыновлен, записан в сельсовете под чужими отчеством и фамилией! А Григорий и Настя? Разве они согласятся? И Максим будет на их стороне. И власть не станет на сторону белогвардейца!..
Было от чего потерять сознание!
«Что я наделала! Что я наделала! – кричала безмолвно Таня. – Я преступница! Что я скажу ему?» И невольно возникала ужасная, кощунственная мысль: если бы он не вернулся, он не обрушил бы на нее это новое горе. «Нет! Нет! Я не должна так думать. Ведь я любила его, люблю, у нас сын. Это же низко, мерзко, отвратительно. Неужели же я такая дрянь?.. Ну а кто же еще?! Сначала бросила собственного ребенка, а теперь пожелала смерти его отцу! Подлая дрянь!»
Но сколько бы ни казнила себя Таня, никакое самобичевание положения ее изменить не могло. Нужно было идти и встретиться с Юрием, говорить с ним и сказать все. И еще нужно было рассказать о возвращении Юрия дома, и не только отцу и матери, но и Максиму. А что сделает Максим? Вдруг он арестует Юрия, и тот погибнет, на этот раз окончательно и снова по ее вине!
И, как бы поспешая на ее мысли, на улице совсем не вовремя показался Максим.
Он приближался размашистым своим шагом, хотя обычно, уходя рано, возвращался лишь вечером, а то и поздно ночью.
Таня сжалась.
Брат подошел и посмотрел хмуро.
– «Свекруху» твою встретил. К тебе пожаловала?
Это был уже повод для острого разговора, потому что Максим категорически запретил видеться с «барыней». «Отрезали – и точка!»– говорил он.
Но на этот раз злой раздражительности в голосе его она, к удивлению, не уловила.
– Ко мне.
«Сейчас начнется… А!.. Все равно. Семь бед – один ответ».
Однако грозы не случилось, а прозвучало даже почти миролюбиво:
– Хотел я сказать: не ходите к нам, мадам. А потом подумал: от тоски ходит, сына вспоминает. Ладно. Скоро сама перестанет. Как прошлое быльем порастет.
«Не порастет!» – должна была она крикнуть, но страх стиснул горло. «Нет, не сейчас… Сначала Юрия повидаю, узнаю о нем, о его положении… Тогда!..»
– А ты чего сидишь, как на посиделках?
– Я сейчас… Иду. Ты-то что освободился так рано?
– Скоро совсем свободен стану. Революция-то кончилась, видать. Бороться не с кем. Буржуй в лавку возвращается. Из контры в полезного человека превратился. Чего ж гореть зря? Можно и передохнуть.
Слова Максима, такие для него горькие и важные, в эту минуту не произвели на Таню должного впечатления. Она, правда, замечала, что в последнее время брат день ото дня лицом темнеет. Но сейчас, когда у самой на душе черно было, Таня не откликнулась.
И он больше ничего не сказал.
Назревал в Максиме глубокий и тяжкий кризис веры. Вечно беспокойная душа восстала, не могла понять и принять того поворота в жизни, что назвали новой экономической политикой…
* * *
Только что у Максима произошел резкий разговор с Наумом Миндлиным. Сблизился он с Наумом еще в восемнадцатом, когда вступил в партию. Потом вместе прошли подполье при Деникине. Недавно Миндлина направили на работу в ЧК.
Максим вошел к Науму, когда тот и сам был взвинчен, но сдерживался, как мог, ведя трудные переговоры с хорошо ему известным торговцем Самойловичем, человеком, у которого все было толстое – пальцы, нос, зад, даже глаза навыкате казались толстыми. Когда-то отец Наума вел бухгалтерию у Самойловича, и теперь тот старался использовать старое знакомство беззастенчиво и напористо.
Он говорил, все время повышая голос:
– Я хорошо помню, как вы были еще маленький мальчик и любили скакать на деревянной лошадке с саблей. Вы тогда кричали: «Я казак!» Странная, конечно, игра для мальчика, у которого папа и мама посещают синагогу, но взрослые люди говорили: «Пожалуйста. Что из того, если мальчик играет немножко не так, как другие еврейские дети. Он же еще вырастет и поймет, что он не казак…» И вы выросли и стали, конечно, не казак, но революционер. А это почти то же самое, что с саблей. Тогда благоразумные люди качали головой: «Этот Наум не такой, как все. И он еще себе доиграется». Они ошиблись, а у вас получилась серьезная игра. Вы махали шашками, пока все испугались и признали вашу власть, а вас, Наум, важным человеком. Ну, и что из этого? Вот вы власть, и вы сидите в этом кабинете, совсем как градоначальник. Но не совсем, потому что градоначальник был настоящая власть – в него даже бомбы бросали, – однако у него было чувство юмора. Знаете, когда мою дочь задержали с вашими листовками, на которых было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», градоначальник вызвал меня к себе и спросил: «Скажите, Самойлович! Почему пролетарии всех стран должны соединяться именно здесь, во вверенном мне городе? Может быть, ваша дочь соберет их в каком-нибудь другом месте?»
Наум снял и протер платком пенсне.
– Гражданин Самойлович, если вы пришли рассказывать мне анекдоты, то я очень занят.
– Поверьте, это не анекдоты. Моя Ривочка была враг градоначальника, но градоначальник понимал, что такое коммерция. Когда какие-то мазурики стали отираться возле моего магазина, власть поставила там городового, и магазин не тронули.
– Я уже понял, что старая власть вам была больше по душе, чем рабоче-крестьянская.
– Побойтесь бога, Наум! Я такого и в уме не держал. Я просто сравниваю. А вы все размахиваете шашкой. Но вам же нужно, чтобы кто-нибудь накормил ваших пролетариев? И вы обращаетесь к нам. Пожалуйста. Но сначала скажите, кто хозяин в городе? Вы или Техник? Среди бела дня у меня в поезде отнимают очень хорошие часы, а вы в это время заседаете, как сделать мировую революцию! Не знаю, как мировая революция, а серьезные дела так не делаются. Если нам не дадут спокойно работать, мы не сможем накормить пролетариев, а если пролетарии будут голодные, то я еще посмотрю, как долго они будут на вас любоваться! И это просто смешно, что я должен болеть вашими заботами больше, чем вы!
Миндлин потер пальцами переносицу, близоруко прищурив глаза.
– Давайте внесем ясность, гражданин Самойлович. Вы не нашими делами болеете. У вас одна больная мозоль – прибыль.
Тут и вошел Пряхин, и Наум, молча показав ему на стул, продолжал:
– Так что не выставляйте себя святым больше, чем римский папа. Я согласен, что бандитизм создает напряженную обстановку и мешает проведению новой экономической политики. Это серьезно, и мы этим занимаемся всерьез. Но вы, между прочим, прикрываете под шумок бандитской угрозой свои финансовые махинации.
Самойлович всплеснул короткими руками:
– Я вас не понимаю, Наум.
Миндлин положил ладонь на лежавшие на столе бумаги.
– Вот! Тут полная картина. В вашей бухгалтерии концы с концами не сходятся. И запомните, гражданин Самойлович, обманывать Советскую власть и обирать труженика мы вам не позволим. Или мы будем сотрудничать, как положено, в рамках закона, или пеняйте на себя.
Самойлович поднялся, не скрывая неудовольствия.
– Меня все всю жизнь запугивают, но вы еще поймете, Наум, как нужно управлять. Дай вам бог поскорее образумиться.
Он вышел, а Наум повернулся к Максиму:
– Каков гусь! Пришел доказывать мне, что заботится о том, как прокормить пролетариев. Сам в документации мухлюет бессовестно, а от бандитов охраны просит.
– Будешь охранять?
– Некоторые меры принять придется.
– Значит, рабочие ребята пойдут паразитскую лавочку сторожить?
– Ну, не кипятись!
– Под бандитские пули грудь подставлять? Кого беляки на революционной войне не убили, у лавочника на службе кровь проливать будут?
– Перестань, Пряхин. Это демагогией отдает.
– Я демагог, по-твоему?.
– В данном случае…
– Ты что, меня по подполью не знаешь?
– Знаю. Бесстрашный был человек.
– Был?
– Был и есть бесстрашный человек, но с теоретической неразберихой в голове.
– Вот как! Когда провокатора Дягилева ликвидировать нужно было, ты эту неразбериху что-то не замечал.
– Тогда была другая обстановка. И прошу тебя, Максим!.. Ты на каждом шагу заявляешь о враждебности к новой экономической политике, то есть прямо выступаешь против решений десятого съезда партии.
– А что делать, если моя совесть с ней не мирится?
– Да пойми ты! Ведь этот Самойлович не зря говорит; если мы сегодня людей не накормим, не оденем, не поймут они нас, не поверят голым лозунгам.
– Буржую в лавке поверят? Ну пусть идут, дурни. Пусть их грабят там с нашего благословления.
– Грабить не дадим.
– Кого? Народ буржуям или бандитам буржуев?
– Ну, знаешь, до такого ты еще не договаривался.
– А ты в подполье думал, что Самойловича охранять будешь?
– Не думал. Но почему ты, чудак человек, не хочешь понять, что не Самойловича я защищаю, а самого настоящего труженика, который в лавке и булку купит, и колбасу, которую мы сегодня еще дать ему не можем, потому что хозяйничать не научились. Ведь в самом деле больше шашкой махать приходилось.
– Погоди, погоди. Ты меня в лес не уводи. Ты скажи просто: Самойлович эксплуататор?
– Своего не упустит, о чем говорить… Но на сегодняшний день приносит определенную пользу.
– Пользу?! Да ведь так любой буржуй рассуждает. Разве он себя грабителем признает? Ничего подобного. Он своим рабочим отец родной. Булкой поделится, а капитал – в карман. А мы его своим оппортунизмом прикрывать будем?
Наум снова снял пенсне. Последнее время у него часто болели глаза.
– Партиец обязан проводить в жизнь партийные решения, – сказал Миндлин жестко, как бы подчеркивая, что дальнейшая дискуссия неуместна.








