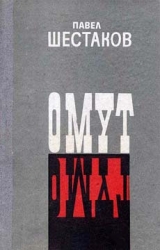
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
– Принеси, дочка, миску, я вам кислого молочка наберу.
Немудреная посуда Пряхиных, в основном глиняная, хранилась в буфете. Но были там и две-три «городские» тарелки с аляповатыми виньетками, казавшиеся Тане образцом красоты и чудодейственной силы.
Осторожно выдвинула девочка тяжелый ящик и, как всегда, разглядывая его содержимое, замерла от восторга.
– Смотри посуду не побей! – донесся голос матери.
Слова эти поразили Таню. Если бы посуда разбилась!.. Одно движение, и сбудется все-все. Новые «цацки» сделают ее всемогущей. Что тогда стоит накупить в дом самой прекрасной посуды!.. Руки девочки дрожали. Она совсем забыла, что тяжелый ящик может упасть на ноги…
Потом, даже через много лет вспоминая на всю жизнь оставшийся в памяти случай, Таня так и не смогла разобраться, нарочно ли она разбила посуду. Сделать такое сознательно было бы великим грехом – дешевые фабричные тарелки представляли немалую ценность в крестьянском быту. Нет, скорее, размечтавшись, она не почувствовала, как ящик утратил опору. Внезапно возникли грохот и звон и невыносимая боль. Таня потеряла сознание…
С ней сделалась нервная горячка. И это спасло ее от наказания. Но с «проклятыми цацками» отец расправился раз и навсегда. Все осколки как из ящика, так и из «лавки» были выброшены в речку…
Странно, но подлинного горя она не испытала. Видимо, болезнь сыграла свою роль, ускорила переход в новый возраст, к другим мечтам и ценностям. Ушли вместе с «цацками» детские фантазии-выдумки, становилось все понятнее, что не волшебством изменяется жизнь, а собственными человеческими усилиями.
Тогда казалось, что заблуждения позади, а впереди все ясно. И вот…
– Что же, по-твоему, и Юрий цацка?
– Видел я его сегодня.
– Сегодня? Где?
– На кладбище.
– Тебя-то что туда понесло?
– Наума хоронили.
– И ты пошел? Он же тебя из партии выжил.
– Это дело не твое. Не выживали меня. Мы с ним вместе для людей лучшей жизни хотели. Но не довелось. Хотя он, видать, счастливее оказался. Верующим умер, врагом сраженный. Потому и пошел я проститься. И твой там был.
Она знала, что Юрий был на кладбище, и не могла понять, куда гнет брат.
– Ну и что?
– Во-первых, зачем он туда пришел?
– Не знаю.
– А по-моему, понятно. Порадоваться пришел. Как был контра, так и остался. Но не в этом дело. Не один он был.
– Я знаю. Он был с Шумовым.
– С Шумовым? Это еще откуда?
– Он мне сам сказал.
Вот теперь Максим решился окончательно. Теперь он точно справедливость восстанавливал.
– Значит, и соврал еще. Не с Шумовым был он, а с женщиной. Барышней буржуйской породы.
«Еще и это! – подумала Таня тоскливо. – Но ведь он говорил: не верь. Не верь, что бы ни сказали! А кому верить?»
– Разве это не могла быть обычная знакомая?
– А зачем Шумова приплетать? Шумова я не видел.
«Как все рушится! И как беспощадно быстро!»
– Ты и с Шумовым разошелся?
– Мы с ним детей не крестили.
– Потому что он нэпман?
– Шумов?
Максим хотел было решительно опровергнуть эту чушь, но слова сами замерли, готовые сорваться с уст.
«Ведь он на задании!»
– Да, слыхал я что-то такое, – сказал он сдержанно и, кто знает, может быть, спас жизнь Андрею…
– Все тебе, Максим, не такие…
– Да, у меня к человеку строгий счет. Если звучишь гордо, так будь добр, соответствуй.
– Сил не каждому хватает.
– Не знаю. У меня на все хватает, кроме несправедливости. Этого перетерпеть не могу. Ну, ладно. Иди спи. Стучать больше не буду. А стол сделаю. Стол всегда пригодится.
– Делай, Максим. Спасибо.
И, придерживая платок, она пошла к дому.
– На ореховый согласна? – спросил он вслед.
* * *
И Софи не спала.
Все шло по плану, и все внушало тревогу. Осознанную и неосознанную, которая мучила еще больше.
В центре был Юрий. Не ошиблась ли она в нем? Не слишком ли он мягок? Почему мужчины так слабы? И Мишель, в сущности, оказался слабым. Не выдержал. Покинул ее в самый трудный час…
А что, если бы он не убил себя? Они могли бы сейчас быть вместе. За границей. Конечно, и там скверно. Кому нужны пришельцы, нищие, жалкие, обуза для победителей! Но все-таки лучше, чем в этой кошмарной Совдепии. Особенно тем, у кого есть средства…
«Если план осуществится, у нас в руках окажутся большие ценности. Для борьбы, конечно, для мести. Во что бы то ни стало уберечь их от Техника! Наверно, Барановский все продумал. Но, если потребуется, я сама…
Каин омерзителен. Интересно, он всерьез предлагает бежать за границу вместе или только маскирует задуманную расправу?.. Наверняка маскируется. Но меня не обманет. Интересно, как он видит свое будущее? Как-нибудь пошло. Пальмы, негры в белых смокингах, джаз-банд, лаун-теннис, красотки на один раз… А электрический стул ему не снится?..
А разве мне самой не хочется покончить со всем, что связано с этой страной, забыть трагическую любовь, пулеметную дробь по броне красного бронепоезда, умирающих в муках на поле боя, все ужасное, всякое ужасное?..»
Например, госпиталь в здании Епархиального училища в Новочеркасске.
Белые только что вернулись в город, у дверей толпятся женщины, останавливают, спрашивают прерывающимися голосами:
– Вы не знали моего сына?
– …брата?
– …мужа?
Если фамилия ничего не говорит, женщины настойчиво стараются объяснить.
– Он небольшого роста, брюнет…
Никто не знает, но все-таки этой исстрадавшейся, в слезах, рано поблекшей женщине, наверно, лучше, чем высокой красивой девушке, что говорит с раненым ротмистром.
– Я невеста Вадима Клюева. Я знаю, что он убит. Но я хочу знать, как это произошло. Пожалуйста. Я выдержу.
А выдержала ли бы, если б своими глазами увидела то, о чем так трудно говорить ротмистру?
Поручика Клюева с разъездом изрубили ночью топорами в крестьянской хате.
А потом каратели расправлялись со всем хутором…
Ротмистр говорит только:
– Он погиб ночью, в разъезде. Убийцы не ушли от возмездия.
Софи стоит рядом, но не слова слышит, а видит изрубленные трупы – и тех, и других.
Девушка наконец понимает, что ротмистр не может рассказать все, что знает, Она наклоняет голову:
– Спасибо!
И протягивает руку.
«Где она теперь? Решилась ли мстить, как я? Но где взять столько сил?»
Софи встает, зажигает лампу, открывает Библию на хорошо знакомом месте, в тысячный раз читает, как Юдифь рубит голову Олоферну. Но это же всего одна голова! А когда их бесконечное множество?!
Ее знобит.
Хотя в комнате душно, Софи закрывает окно, подходит к шкафчику. Там во флаконе с притертой пробкой прозрачная жидкость. Она наливает ее в медицинский стакан с черточками делений на стекле. Добавляет немного воды из ведра, что стоит на деревянной скамье за занавеской, и пьет, обжигаясь. На глазах выступают слезы. От спирта или от нестерпимой жалости к самой себе?..
Софи гасит лампу, прикручивая фитиль, и ложится, натянув простынь до шеи. Становится теплее и спокойнее. Потом вдруг жарко. Протянув руку, она толкает оконную раму, вдыхает воздух. Воздух душный. Жарко даже в ночной рубашке. Она стягивает ее через голову, приглаживает волосы. Снова подходит к шкафчику. Теперь уже наливает в темноте, не глядя на ограничительные черточки… Выпив, ложится ничком, уткнувшись лицом в подушку, до боли прижимается грудью к жесткому матрацу… Ей безумно хочется, чтобы рядом был Юрий.
* * *
Не спалось и Барановскому.
И его мучили мысли, но не о предстоящей операции, а шире, не давали покоя причины, исторические ошибки, роковые действия в высших сферах. Ведь там начиналось. А теперь полууголовное подполье, собаки подопытные и кролики, и сам уже почти собака, над которой ставят очередной политический эксперимент…
Вспомнился четырнадцатый год. Решимость преградить путь тевтонам. Далее дурацкая медаль, выпущенная в Бельгии, на которой был изображен дикий человек в папахе и выбита надпись: «Надежда Европы – русский солдат», воспринималась с воодушевлением.
«Что ж… мы спасли их, а они нас предали. Бросили, как изнемогшего раба, приговорили, как гладиатора на арене, отдавшего на потеху свою кровь. Теперь они танцуют, мы гибнем, а немцы бьются в пароксизме революционной лихорадки. Но немцы не рухнут, немцы – не мы. Они не позволят хаму… Они уже утопили своих евреев в грязном канале. Роза в водосточной жиже… И Карл. Карл у Клары украл кораллы… Нет, не дали украсть, получили по заслугам…
Ошибка! Великая ошибка трех императоров. Вместо союза вражда. А какой мог быть союз! Нам Константинополь, святой крест на святой Софии, немцам – колонии, Африку, австрийцам – Австро-Венгро-Славию. Священный союз народов, некогда сокрушивших Рим! Кто бы перед ним устоял? А мы в штыки друг на друга… Эх, ваше величество, государь-великомученик, распятый в Екатеринбурге с чадами… Эх, кайзеры, недалекий Вилли, прекраснодушный Франц-Иосиф… Куда же вы смотрели? О чем думали?
А разве мы, общество так называемое, иначе думали? Пока сама жизнь урок не преподала…»
Вспомнился большой белый пароход на берегу степной реки. Весна. После кровавого похода – отдых. Здоровые садятся на пароход, раненых несут на прицепленную к нему баржу. Некоторые ковыляют сами.
Свисток. Шлейф черного дыма. И пароход, отвалив от глинистого откоса, потянул баржу по желто-грязной реке. Идет в Новочеркасск. Там – так надеются – забудется хоть на время грохот взрывов, перекаты винтовочного огня, стоны и хрипы, там наконец можно сбросить одежду, покрытую вшами…
Вошли в сине-голубой, сверкающий на солнце Дон, разливом затопивший луга и леса. Вода высокая, прибавили ходу, идут без опаски. Справа древняя столица казачества – Старочеркасская станица, собор в ярких луковках встает из воды. Там цепи, в которые был закован Стенька Разин. Ведь могли же победить, укротить рабов, холопов! Могли!
Вот и Аксай. Отсюда поворот на новую столицу Дона – Новый Черкасск. И вдруг… Что это?
– Господа, посмотрите!
– Не верю глазам.
Глазам в самом деле не верится.
На донских волнах покачивается лодка. На руле барышня в белом. А на веслах двое в серых мундирах, в фуражках с красными околышами.
– Да ведь это немцы, господа!
Здесь! За полторы тысячи верст от фатерлянда.
– Сволочи! – плюет за борт один из офицеров.
– Как неприятно все-таки, – говорит другой, более миролюбивый.
– Большевики, предатели, пустили.
– И все-таки лучше эти, чем сами большевики, – замечает резонно толстый штабс-капитан.
– Так кто же они – союзники или победители?! – восклицает какой-то молодой подпоручик.
Все молчат.
Пароход причаливает.
На берегу немецкие часовые. Офицер в светло-серой, почти голубой форме, прищурившись, рассматривает сквозь монокль раненых, грязных, заросших, униженных русских. Часовые стоят скованно, видно, не знают, как вести себя.
Обоюдное гнетущее молчание.
Скорей бы в Новочеркасск. Там немцев нет, остановились в Ростове, который входил некогда в Екатеринославскую губернию, и потому на него претендует союзник кайзера бывший русский генерал, ныне украинский гетман Скоропадский. А офицеры на палубе за единую, неделимую, великую…
Но какая же великая, если барышня в лодке с немцами?..
Значит, победители, а не союзники…
«Победители! – вспоминает Барановский. – Сейчас сами под ярмом. А „союзники“? Французишки крикливые, британцы, ослепленные манией величия. Не простится им, не простится. Еще возродимся и мы, и немцы, и тогда вместе на европейскую жадную гниль, и один порядок от варягов до греков…»
Мысли гонят сон. Хочется на воздух из тесной комнаты.
Он выходит.
Ночь была душная, но небо, которое к утру, может быть, сорвется грозовым потоком, пока еще не затянуло тучами, мириады светил покрывали его, и ничто не мешало им будоражить на земле и разум, и плоть человеческую.
У чугунной узорчатой ограды клинического сквера маячила женская фигура.
– Господин товарищ, вас не мучит одиночество?
Барановский замедлил невольно шаг, и она сразу это уловила в темноте, подошла.
– Вдвоем интереснее, правда?
Его покоробило неуместное слово «интереснее», но он уже так долго один, и призыв нашел отклик.
«Сколько же можно мудрствовать в одиночестве? Может быть, короткое рандеву успокоит нервы?..»
– А ты… скучаешь?
– Женщине всегда скучно без мужчины.
– Мне тоже.
– Пойдемте со мной.
– Куда?
– Я у хозяйки квартирую. У меня чисто.
– Пошли, – решился он.
Он не видит ее лица, да оно и не интересует его, замечает только, что женщина еще молода, и еще ему кажется, что голос этот он где-то слышал. Но не более.
Жилье оказалось рядом, за клиникой, дом с наружной деревянной лестницей, по которой нужно подняться на второй этаж.
– Держитесь за меня, тут одна ступенька поломанная.
Перила тоже шатаются, но они поднялись благополучно.
– Теперь колидорчиком и вот сюда. А там хозяйка напротив. Она спит давно.
Но говорит женщина шепотом.
Он вошел в темную комнату и остановился в смущении, которое всегда испытывал, покупая женщину.
– Свет зажечь?
– Не надо.
Кажется, она довольна. Все-таки другие времена и не стоит привлекать лишнего внимания.
– Вот, койка тут.
Она быстро сбросила покрывало, чуть взбила подушку.
«Где я слышал этот голос?»
Глаза привыкают к темноте, и Барановский видит контур ее вскинутых рук, потом руки опускаются, сбрасывая юбку, и становится видна вся фигура, не осложненная одеждой. Да, она не стара, но уже располнела, и при свете наверняка много теряет. Но зачем ему все это сейчас? Он никогда не был соблазнителем или «ценителем», женщина всегда нужна была ему как женщина и только.
– Ну, что ж ты? – спрашивает она.
Он рывком освобождает поясной ремень.
И вот рядом.
Она дышит прерывисто, и это волнует, но запах…
– Слушай, ты потная.
– Да ведь жарко. Хочешь, помоюсь: У меня таз в углу.
Прикрыв глаза, он слышит плеск воды.
– Вот и я.
– Ложись.
Он сказал это, но возбужденное жаркой ночью желание ушло, исчезло, едва он уловил запах пота. Он был брезглив, и это всегда мешало ему, но он не мог ничего с собой поделать.
А она легла и тут же прижалась в ожидании.
Он провел ладонью по мягкому телу, но ничего не испытал.
– Знаешь, я, наверно, зря пришел.
– Да что ты…
– Я дам тебе деньги. Не бойся.
– Погоди, – схватила она его за руку, увидев, что он хочет подняться.
– Чего ж ждать…
– Вы, мужчины, нервные сейчас, после войны. Подожди. Я тебе помогу.
Это прозвучало унизительно. Но он не хотел грубить.
Она скользнула руками по его груди сверху вниз.
– Не нужно. Я же сказал, что заплачу. Разве тебе это нужно?
– Нужно.
Голос, до сих пор мягкий, просительный, зазвучал жадно, требовательно. И тут он вспомнил, где его слышал.
Маленькая станция. Только что отбитый у красных эшелон. И штабс-капитан Федоров говорит растерянно:
– Барановский! Там творится безобразие. Нельзя допустить. Хотят убить пленную женщину.
– Что за женщина?
– Пойдемте, прошу вас.
Они идут по перрону. Федоров объясняет на ходу:
– Большевистская сестра. Правда, держит себя вызывающе. Заявляет, что убежденная коммунистка. Наши ее заколоть хотят. А тут еще какая-то мегера подстрекает.
У товарного вагона с большой сдвинутой дверью караул едва сдерживал напиравших солдат.
– Чего на нее смотреть… мать ее…
– На штык ее, ребята!
Вокруг довольно много молчаливых зрителей, стоят, ждут, что будет.
– Стойте! – крикнул Федоров: – Она военнопленная и женщина.
Те, что лезли, замедлились. И тут из толпы женщина-доброволец в солдатской шинели крикнула громко:
– Вот и хорошо, что женщина.
Курносый унтер-офицер спросил, откликаясь:;
– А чо с ней сделать, Дуська?
– Чо? Не знаешь чо? Становись в очередь и все… до смерти; пока не сдохнет. Вот чо!
– Го-го-го!
Кто хохотал, кто-то сплюнул.
– Р-разойдись! – рявкнул Барановский.
Его распоряжение выполнили. Только та, в шинели, бросила, уходя;
– Эх, мужики… И с бабой-то справиться не могут!
И еще раз он ее видел, когда военный суд приговорил эту женщину к телесному наказанию за незаконное ношение офицерских погон.
– Погоди!
– Ну что ты все – погоди да постой? – проговорила она недовольно.
– Постой.
Барановский потянулся рукой к пиджаку, который повесил на стул, и достал из кармана спички.
Вспыхнул маленький огонек.
– Я помню тебя.
– Может, и видал. А что?
– Тебя… пороли?
Спичка погасла, потому что она дунула на нее.
– Ну и что? Было. Мало ли что с кем было.
– Я видел.
– Интересно глазеть было?
– А тебе… больно?..
– Вот привязался! Да не больно. Он с пониманием порол. Не зверь же. Один раз только. Напослед, хамлюга…
И это Барановский помнил. Как не удержался, захлестнуло темное, и подошел, чтобы посмотреть, стыдясь себя…
– А тебе стыдно было?
– Чего стыдно… Меня бьют, да я ж еще и стыдиться должна? Да и чего? Я в рубашке была.
Да, в длинной, ниже колен, и широкой, скрывавшей тело рубашке. И заметно было, что казак, проводивший экзекуцию, не свирепствует. Но вот для последнего удара он поднял руку повыше и задержал ее на мгновение.
– А это на добрую память, господи благослови!
Плеть свистнула пулей, и полотняная ткань треснула, как по шву, ровной, тотчас же окрасившейся кровью полосой.
Она взвизгнула животно, и этот утробный короткий вопль, обозначающий конец жестокого и непристойного зрелища, разрядил атмосферу. Напряженно дышавшая толпа разразилась хохотом, но Барановский не смеялся. Он презирал себя за то, что пришел и смотрел.
– А тот, казачья харя, дурак, – вспомнила женщина с давней обидой. – Показал свое нутро, разбойник. Нашел, где лихость показывать. Ну, вам же и хуже…
– Почему?
– Да я вам хотела теятр маленький сделать. Завернуть подол да поклониться – благодарю, мол, за науку! Вы-то чего собрались? Небось, голую посмотреть охота была.
«Была».
– Дорого тебе «теятр» обойтись мог, – сказал он, чувствуя, как сохнет во рту. – Там бы с тобой такое сделали…
– А чего?
– Растерзали б до смерти, – выговорил он хрипло.
– Ну, тогда не растерзал, хоть сичас попробуй.
Он молча набросился на нее, видя в закрытых глазах белое, пересеченное красным тело.
Когда он уходил, она сказала:
– Приходи еще. Все ж воевали вместе.
* * *
Так уж получилось, что в ту ночь не спали многие.
Не спали и Третьяков, и Шумов.
Третьяков сидел в своем кабинете со стаканом чая в большой сжатой руке. Чай был крепкого настоя, красновато-коричневый. Он восстанавливал силы. Ничего больше взбадривающего Третьяков не признавал. Когда-то, грузчиком, он мог выпить много водки, особенно на спор. Пил по праздникам. Сил и без водки хватало. Закуска с «бутербродом» в счет не шла. Так делали другие, так и он делал. Но, и много выпив, в лютость или в беспамятство никогда не впадал… Если затрагивали, он мог остепенить любого и трезвый. Однако приходской священник, отец Афанасий, счел нужным однажды предупредить.
Третьяков шел по улице на рождество, тулуп нараспашку, шапку где-то потерял.
– Ты, Иван, как Самсон неостриженный, – сказал, повстречавшись с ним, отец Афанасий.
О Самсоне Третьяков слыхал на уроках закона божия.
– Еще та девка не родилась, чтоб меня остричь, батюшка.
– Не только женщина силу отнимает, парень. Больше Далилы зелья проклятого бойся. Против него даже Ной на ногах не устоял.
– Да ведь он, батюшка, старый был. Ему шестьсот лет было.
Священник улыбнулся снисходительно. Откуда знать молодому, как быстро годы бегут, что дай ему и шестьсот, они, как шестьдесят, пробегут, незаметно.
Третьякова отец Афанасий не убедил. Сделал это гораздо позже другой человек, из политкаторжан, на сибирском этапе:
– Беда наша – пьянство.
– Всегда пили, – возразил Третьяков. – Без вина нет праздника, а без праздника что за жизнь?
– Веселие Руси? Что и говорить, аргументум ад хоминем! Почти неопровержимый. Прямо в душу проникает, особенно когда жаждет душа. А на самом деле скверно. Низменное веселие. От рабства. И государственного, и внутреннего. Распрямиться не можешь – становись на четвереньки. Скажи честно, тебе приятно бывать среди пьяных, если сам не пьян?
– Бывает смешно на какого-нибудь умору поглядеть, а вообще-то чего хорошего!
– Вот именно. А ты можешь представить себе революционера, налакавшегося сивухи? Да, пока человек жизнью угнетен, унижен, ему хочется забыться. Печально это, но понятно. А если ты преобразователь жизни? Какое же ты имеешь право чистое дело позорить? Нет, брат, пьянство и революция несовместимы.
Поговорили вроде коротко, но Третьяков, много думал над сказанным. Вспоминал кабак на пристани. Глупые или злые лица расходившихся, потерявших себя людей. «Правильно говорят: „залил глаза“, все мутное, ничего не видишь, а уж себя-то и вовсе. Неужели и в новой жизни, за которую я в Сибирь пошел, вот такое будет?»
При случае он вернулся к разговору.
– Я об водке этой проклятой думал.
– О чем? – не понял тот.
– О пьянстве, о будущей жизни. Ну, как говорили.
– И что же?
– Решил. Пить не буду.
Собеседник посмотрел внимательно.
– Я тебе верю, товарищ. Это очень важно. Ведь революция не просто государственный переворот, это в самом человеке переворот. Власть мы возьмем обязательно. Должно быть, скоро. А вот очиститься от вековой скверны труднее гораздо. Тут политической властью не прикажешь. Огромную роль личный пример играть будет. Поэтому такие люди, Как ты, не только себе, но всему нашему делу, народу большую службу сослужат. Я рад за тебя.
– Слово – олово.
На самом деле слово Третьякова оказалось крепче – ведь олово не самый крепкий металл, – а на его плечи свалились перегрузки, что никакому олову не выдержать. И теперь уже не избытком сил гордился Третьяков, а тем, что оставшиеся отдает без остатка. Усталость же, что все чаще стала подбираться, гнал крепким чаем.
Это он себе позволял. В ящике стола у него всегда был под рукой заварной чайник с привязанной крышкой. Маленькая крышка иногда выскальзывала из его крупных пальцев – вот он и привязал ее к чайнику белой тесьмой. Большой чайник был ему не нужен, он закладывал чаю только на одну заварку, на стакан. Зато заваривал крепко и пил не спеша, вприкуску, мелко откалывая сахар и аккуратно стряхивая крошки с ладони в стакан.
Шумов от чая отказался.
Он сидел напротив Третьякова И, пока тот колдовал над любимым напитком, смотрел на потрепанную карту юга России, висевшую на стене. На карте видны были крапинки от флажков, обозначавших совсем недавно фронтовые рубежи, пометки синим и красным карандашами, потертые сгибы. Из верхнего угла нависал имперский герб – двуглавый хищник, внизу граница проходила там, где теперь была турецкая территория. Но шло время, когда все линии, рубежи и границы казались временными. Империя, которая цепко держала в когтях владения, рухнула, и Союз Республик звал народы в семью единую, под красное знамя, под серп и молот, под герб с изображением всей земли. И поэтому Шумов, глядя на карту, совсем не думал о том, что крайний рубеж не совпадает со старой пограничной линией. Его другие дела беспокоили.
Третьяков закончил свои приготовления и понюхал пар над стаканом.
– Зря ты, однако, от чаю отказался. Отменный чай заварился.
– Спасибо. Жарко.
– Чудак. Чай-то жару и снимает. Я его с Дальнего Востока полюбил и оценил. Ну, как говорится, была бы честь предложена. Что по делу скажешь?
– Замысел, по-моему, верный.
– Я тоже так думаю.
Речь шла о последнем, неосуществленном замысле Наума.
– Психологически рассчитан.
– Именно. Исходим из последнего факта. Нападение на поезд. Что налицо? Беспредельная алчность – раз. – Третьяков загнул палец. – Аппетит у них с едой пришел. Всю гражданскую грабили, жрали, жрали, а нажраться не могут. А это уже болезнь. Не нажрутся, пока поперек горла кость не станет. Второе – собираются в стаю.
– Это хорошо.
– Да. Это важно. Мы можем делать на это ставку. Надо полагать, жадность их снова в кучу соберет.
Шумов был согласен.
– Тогда мы этой швали головы и снимем. Одним махом.
Третьяков прихлебнул из стакана.
– Нужна очень заманчивая приманка, – заметил Шумов.
– Угу. Приманка есть. Жирная. Слюнки у них побегут, это факт. Но слюнок мало. Нужно, чтобы проглотили. Вот в чем трудность. Потому я тебя и вызвал.
– Я готов.
– Молодец, что готов. Но не спеши с козами на торг. На блюде такое жаркое не поднесешь. Нужно, чтобы издалека запах учуяли. «Сами». Лучше, если через тебя, но не от тебя. Понимаешь? Посредник нужен. Для них авторитетный, надежный. Понимаешь, куда я гну?
– Догадываюсь.
– Ты «своих» изучил?
Он сделал еще глоток.
– С одной стороны, они вроде бы на поверхности. То есть, люди чуждые, но ведь этого мало.
– Если уверен, что, они не преступники, совсем не мало.
– Я, Иван Митрофанович, не уверен. Что-то под поверхностью есть.
– Ну, давай осмыслим вместе.
– Связаны с Техником.
– Связаны или только знакомы?
– Где-то на грани.
– И хочется, и колется?
– Притяжение налицо.
– Взаимное? Или они к нему?
– Ему что-то нужно.
– Значит, ему от них?
– Во время последней встречи я был в этом уверен. Такой человек во имя гимназической дружбы в игрушки играть не будет. Ему реальное подавай. И Юрий готов был кинуться и опалить крылышки. И вдруг эта неожиданная любовь…
– Думаешь, такой не бывает? По-моему, давно уже известна. С первого взгляда называется.
– Может, и бывает. Я тут не знаток.
– Жаль. По такому предмету мы тебя на курсы не пошлем.
– Шутите, Иван Митрофанович. А Татьяна?
– Максимова сестра?
– Да. Я же докладывал вам. У них много лет отношения складывались.
– У нас с Максимом тоже. Семья, видать, у них один к одному.
– Семья неоднородная. Татьяна всегда к буржуазной жизни тянулась. Мне Максим много раз жаловался. Идейно они с Юрием близки. Это факт.
– Другими словами, ты в новой его любви сомневаешься?
Шумов поколебался.
– Они с этой Софи нравятся друг другу.
– Вот видишь. Одной-то идейной близости для любви маловато. Так выходит?
– Не совсем так.
– Ну, брат, Шерлок Холмс больше уверенности в своих заключениях проявлял! Короче, если я правильно твои сомнения понял, новая любовь тебя не устраивает. Чуешь в ней панаму?
– Не могу отделаться от подозрения, что это инсценировка.
– В постановке Техника?
– Прямое вступление в банду я исключаю. Хотя люди это чуждые – потерпи мы поражение, они бы нас не без удовольствия на фонарях увидели, – грабить они не пойдут.
– Смотря для чего грабить.
– Понимаю. Просто старушку резать нехорошо, а во имя высокой цели…
– Молодец. Достоевского читал?
– Читал.
– Я тоже. Две книжки. «Преступление и наказание» и «Мертвый дом». Глубоко он человека понимал в низменных стремлениях.
– И в высоких.
– Пусть по-твоему.
– Вы подозреваете, что Техник не только бандитов объединяет?
– В том-то и дело, что подозреваю. Но не его так высоко ставлю. Вряд ли он объединяет. А вот смычка какого-то рода быть может. Контрреволюция-то оружия не сложила. На Кубани офицеры активизируются. А мы рядом.
– Муравьев бывший офицер.
– Я знаю. А невеста новая?
– И она. Была в белой армии, сестрой милосердия.
– А сейчас в клинике?
– Да. Отзывы о ней хорошие.
– А личное, твое впечатление?
– Меня она невзлюбила.
– Чем же ты не угодил?
– Может быть, классовое чутье.
– Заподозрила?
– Если бы заподозрила и опасалась, неприязнь скрывала б.
Третьяков допил чай, отодвинул стакан.
– Может быть, это и неплохо.
– Что именно? – не понял Шумов.
– Сейчас. Сначала о приманке. Я говорил, нужно, чтобы блюдо это они издалека увидели.
– А в блюде что?
– Один запах. Но ароматный. Выглядит так: банк получил деньги, много денег. Из банка деньги повезут по городам края. Зарплату и прочее. Повезут инкассаторы, конечно, с охраной, но небольшой. Почему небольшой? Чтобы не привлекать внимания. Хитрость, мол, такая. Повезут на пароходе. Старая посудина каботажного плавания. Тоже хитрость. А ты все эти хитрости знаешь. Из надежных рук. Ну как?
– Соблазнительно.
– Что бы ты на их месте предпринял?
– Атаковал в открытом море.
– По-пиратски? Ну, ты романтик. Они, скорее, под видом пассажиров сядут. В море деньги возьмут и на судовой шлюпке отчалят.
– А люди?
– Людей мы перебить не дадим.
– Задумано крепко.
– Клюнут?
– Если убедительно будет.
– Если очень убедительно, они не поверят. Тут важнее правдоподобие. Красивая упаковка. Вот что тебе придется Технику передать.
– Мне?
– Я говорил, через тебя. Ты личность промежуточная. С одной стороны, коммерсант начинающий, а тут финансы, банк и так далее… Короче, можешь иметь доступ к исходным данным. Это правдоподобно. С другой, фигура не крупная. Вот из чего будем исходить.
– Я понимаю так, – суммировал Шумов, – Данные о банке и пароходе я довожу до сведения Техника не в лоб, а косвенно, с собственной заинтересованностью, но осторожно.
– Именно.
– Сведения хорошо бы подкрепить помимо меня. Создать объективную достоверность.
– Так и будем действовать. Ты в промежутке. А в цепочке еще два звена, для непосредственной передачи и для подтверждения. Прикинь хорошенько, кого тут можно использовать. Обрати внимание на сестру из клиники.
– Я же докладывал вам.
– Потому и обрати.
* * *
Техник взял в руки бутылку Абрау.
Дом был куплен. Брак оформлен.
Наутро, после ночной беседы с Воздвиженским, Юрий еще раз продумал свое положение. Мысли, казалось, стали стройнее. Конечно, он не должен был болтать лишнее Шумову, и о разговоре с ним следовало сообщить Барановскому… Но какие выводы сделает подполковник? Наверняка заподозрит Шумова. И зря. Разве не видно по его вечно приветливой, глупой физиономии; что он просто купчик! Купчик по призванию и ничего больше. Зачем же опасаться Шумова? Правда, он знает Максима, немного Таню. Но Максим уже не большевик. Что же ему грозит реально? Новые осложнения с Таней? И об этом докладывать Барановскому?.. Да тот посмеется только.
А если нет?
Все равно. Вопрос этот нужно решать самому. Смело, без трусости и колебаний. Положась на провидение. Разве оно не доказало хвою добрую волю? Зачем же посредничество Барановского? Нет! Следует мужественно довериться судьбе, как доверяется солдат, когда идет под пули…
И сейчас Техник поздравлял Софи с новосельем.
Освобождая пробку от фольги, он говорил:
– Раньше шампанское было принято открывать по-гусарски, с шиком. Однажды в ресторане по соседству со мной резвились офицеры. Они выставили на столик дюжину бутылок и раскрутили проволочки. Бутылки выстреливали в потолок одна за другой. Некоторые даже перепугались… А теперь я вывинчиваю эту пробочку так, чтобы было – ша! Вы знаете, что такое «ша»? Это значит «тихо».
Они были вдвоем в только что приобретенном доме. Старуха-хозяйка вывезла скарб и мебель, оставив в комнатах затхлый запах запущенного жилья.
– Прямо скажем, не рай для молодоженов, – проговорил Техник выразительно, оглядывая обнажившиеся стены с паутиной по углам. – Наверняка старая ведьма оставила в наследство животных, которые, насыщаясь, становятся похожими на рубины. Ну что ж! Пусть они лишний раз напомнят о тех рубинах, что ждут нас через дорогу.
Он наполнил стаканы – другой посуды в доме не было – и бросил взгляд в окно. Массивная стена банка казалась совсем рядом.








