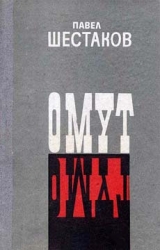
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Павел Шестаков
Омут
Поезд грабили буднично.
За семь лет войн, с девятьсот четырнадцатого, люди привыкли ко многому. Кроме того, было очень жарко…
Потные бандиты без ругани и стрельбы проходили вагон за вагоном, деловито отбирая то, что казалось заслуживающим внимания, а взмокшие вдвойне пассажиры уныло и без сопротивления отдавали незавидные пожитки и мало что стоящие деньги. Изредка попадались недорогие безделушки – богатых в поезде не было, времена большого бега имущих из Совдепии на юг давно миновали. Всем хотелось одного – поскорее покончить с малоприятным происшествием. Для большинства это было даже не событие, а лишь эпизод бурного времени. Никому и в голову не приходило, что когда-нибудь о нем будут вспоминать, как о «дерзком налете банды Техника на пассажирский поезд на станции Холмы».
На самом деле ничего драматического в налете не было. Он был умело организован – только. Организован человеком, действительно обладавшим «техническим» складом ума, чем он и отличался от эмоциональных «коллег», любителей театральных эффектов в шумовом оформлении.
«Я не артист, я всего лишь техник, хотя мог бы стать инженером», – сказал он однажды.
Может быть… родись он на десять лет позже или раньше. Но его поколение взрывчатый век выбросил из гимназий в окопы, и он стал не инженером, а Техником. Однако не роптал на судьбу, не догадываясь, как зло она посмеется над ним в самом ближайшем будущем. Он наивно полагал, что судьба на его стороне. И нынешний налет, казалось, подтверждал эту уверенность.
Сначала к станции, а точнее к разъезду, расположенному в полутора верстах от хутора, взбиравшегося по склонам редких в здешней степи холмов, подъехала линейка с тремя одетыми в полувоенное – бриджи и френчи, перехваченные ремнями, – вооруженными людьми. Один из них остался с лошадьми, а двое вошли в душное помещение. Тот, что выглядел помоложе, невысокий, прикоснулся в знак приветствия пальцами к лакированно козырьку фуражки с эмблемой – молоточками на бархатном околыше.
– Приступаю к исполнению служебных обязанностей, – сказал он строго, но не более чем строго. – Не возражаете?
И фуражка с молоточками, и произнесенные слова были своего рода визитной карточкой и одновременно предложением поразмыслить – жить или умереть.
Железнодорожники решили жить, и Техник это понял.
– Вот и договорились, – произнес он удовлетворенно и чуть презрительно и направился к телеграфному аппарату. – Что слышно о восемьдесят шестом?
– Восемьдесят шестой на подходе, – невольно приподнялся телеграфист. – Но он не останавливается у нас.
– Мы попросим, он и остановится.
Техник глянул через окно на семафор, отбрасывавший на горячие рельсы короткую полуденную тень.
– Ну, что же вы? Просите!
Старший железнодорожник послушно вышел, и через минуту крыло семафора поползло вниз, перекрывая путь.
– Вот так… Надеюсь, мы имеем дело с воспитанными людьми, и они откликнутся на приглашение.
Было жарко и тихо. Только стучали ходики на стене.
Техник достал дорогой портсигар и протянул старшему:
– Угощайтесь.
Дрожащими пальцами тот вытащил длинную асмоловскую папиросу.
– Вы, кажется, волнуетесь? Почему?
Железнодорожник молча возился со спичками.
– Простите. Не понял. Так почему же?
– Понаслышаны мы про вас, – хмуро ответил железнодорожник.
– Любопытно. Что же вы обо мне слышали?
Смягчая по возможности ответ, старший сказал:
– Помирать-то никому не охота.
Техник изобразил искреннее удивление:
– В самом деле? Однако странно.
– Чего ж тут странного?..
– Как – что?.. Никто не хочет умирать, а столько уже лет убивают друг друга. По-вашему, это не странно?
– Так то ж война…
Реплика эта оживила Техника.
– А на войне а ля гер, ком а ля гер? Что в переводе с французского означает «помирать, так с музыкой». Вам такое нравится? А моя пуля для вас недостаточна хороша?
Железнодорожник поперхнулся табачным дымом.
– Оно, конечно, верно… Все там будем…
– Только в разное время? И ты хочешь после меня?
– Не говорил я такого. Только помирать…
– Прекрати, старик! Ну чего тебе бояться? Чем тебе дорожить в этой жизни? Вздор.
Техник опустил руку в карман и достал царский золотой.
– Видишь? – постучал он ногтем по профилю императора, – Вот ему было что терять. А тебе?
– У меня дети… И внуки.
– А у него?
– Он хоть пожил…
– Упрямец ты, старик, упрямец, – покачал головой Техник, прислушиваясь. – Твое счастье, что поезд приближается. Я, знаешь, не люблю словопрений. Они-то и довели матушку Россию до ручки. Но ты сегодня не умрешь. Ты умрешь не на боевом посту, а на свалявшейся перине. Какая пошлая смерть! Мне тебя жаль, старик. Возьми червонец и выпей за мое здоровье, когда кончится это маленькое приключение, адвенчур, по-английски.
Техник швырнул монету на стол. Железнодорожник взял и вздохнул с облегчением, понадеявшись, что теперь останется жив.
Между тем подходящий поезд замедлял ход. Беспокойно пыхтя и смешивая в неподвижном знойном воздухе черный дым со струями густого белого пара, паровоз подтянул недлинный состав к семафору и остановился, подчиняясь немому, но категорическому распоряжению. И тут же две крестьянские брички с сеном, что мирно дожидались на переезде у шлагбаума, двинулись с места, лошади, резво обогнув состав, внесли их прямо на перрон, вымощенный истоптанными плитами ракушечника. Сбрасывая на ходу сено, люди в бричках развернули зеленые пулеметы «максим».
Другие, неизвестно откуда взявшиеся бандиты быстро вскакивали на подножки вагонов. Убедившись, что все идет, как и ожидалось, Техник кивнул железнодорожникам, вышел на платформу и не спеша зашагал к паровозу, следя попутно за всем, что происходит вокруг. По пятам за ним шел высокий черноволосый человек с двумя маузерами в руках.
– Опоздание будет небольшим, – заверил Техник машиниста. – Здесь работают опытные люди. Только не нужно им мешать. Договорились?
Техник не обманывал. Опытные люди работали со знанием дела. Каждый занимался своим. Один, с саквояжем, собирал кольца, часы, скромные украшения, другие потрошили узлы и мешки – их улов был и вовсе беден, – третий совал в наволочку мятые дензнаки. Удачливее выглядели те, кто отбирал продовольствие, их корзины быстро наполнялись вареными курами и бутылками с самогоном. Вся эта кладь по мере наполнения передавалась в окна оставшимся на перроне бандитам, а те грузили добычу в брички…
Техник поднялся в вагон и двинулся вдоль полок, брезгливо скользя подчеркнуто равнодушным взглядом по понурым лицам пассажиров. Те отводили глаза, стараясь не привлекать к себе внимания ни главаря, ни его подручного, готового без промедления ответить выстрелом на любое показавшееся подозрительным движение. В отличие от Техника он цепко осматривал каждого. И хотя молодой мужчина в солдатских обмотках, сидевший на нижней полке, как и все, практически не двигался, вооруженный бандит остановился возле него и произнес негромко:
– Пистолетик попрошу сдать.
И, не дожидаясь согласия, он ловким движением запустил руку за расстегнутый ворот и вытащил девятимиллиметровый офицерский браунинг, засунутый за пояс под гимнастеркой.
Техник тоже остановился.
– Гражданин не доверяет Советской власти? Или, наоборот… чекист?
Вопрос этот произвел странное впечатление. Вместо ответа человек в обмотках с заметным удивлением вскинул голову и посмотрел на Техника, как бы не веря глазам своим, даже прищурившись от напряжения. Длилось это секунды, но бандит, отобравший браунинг, среагировал немедленно. Он хорошо знал, что на Техника таксмотреть нельзя, и, когда тот, не поворачиваясь, протянул руку, сразу вложил в нее пистолет, рукояткой в ладонь.
Люди на полках замерли. Только зеленая жирная муха шумно билась в опущенное оконное стекло. Техник поднял руку с пистолетом и выстрелил… в муху.
Зазвенели, падая, осколки.
– Терпеть не могу мух. Глупы, как люди: выход рядом, а они бьются головой в стену, – сказал Техник и поклонился крестьянке, на колени которой посыпалось стекло. – Эскьюз ми, по-французски – пардонэ муа, мадам.
Переводить с французского он не стал. Перехватив браунинг за ствол, он положил его на колени человеку в обмотках.
– Данке шён, что по-нашему… Впрочем, сразу видно, что вы человек интеллигентный и знакомы с языками. Кончали гимназию? Или я ошибаюсь?
Последние слова он произнес с небольшим нажимом.
– Вы ошибаетесь. По всей видимости…
– Виноват. Показалось.
– Мне тоже…
– Что именно?
– Я тоже ошибся.
– Немудрено. В такое суматошное время. Направляетесь в наш город?
– Я здесь родился.
– Прекрасный город. Особенно сейчас, в живительных лучах новой экономической политики. Открылись приличные рестораны. Очень приятная чайная на Софийской. Не правда, ли?
С этим вопросом он обратился к толстому пожилому господину с глазами навыкате, сидевшему напротив человека в обмотках.
– Не знаю. Я обедаю дома, – ответил тот раздраженно.
– Но ведь это так скучно! Какой вы, однако, бука! Вы и сейчас чем-то, кажется, недовольны?
– У меня отняли часы. Фирмы «Лонжин».
– Ах, какая неприятность! Напишите, пожалуйста, заявление. Вам вернут… А пока… На набережной есть прекрасные солнечные часы. Рекомендую. Но я заболтался с вами, господа. Спасибо за приятную компанию. Оревуар. В переводе на хохлацкий – до побачення!
– Шоб тоби, вражини, николы нэ бачить, – пробормотала вслед Технику крестьянка, собирая из подола осколки.
Остальные молчали, переживая унижение, стыд и обиду.
Но вот звонко врезался в тишину паровозный гудок. Кое-кто перекрестился с облегчением. Паровоз поспешно дернул громыхнувшие вагоны, будто радуясь освобождению, и состав покатился по рельсам, набирая скорость.
Пассажир в обмотках опустил браунинг в карман и выглянул в разбитое окно. По степной дороге клубилась пыль, укрывая бандитские брички. Он поднялся и прошел в ближний тамбур. Там он простоял, пока поезд не замедлил ход в выемке у очередного полустанка. Тогда он отворил вагонную дверь, встал на нижнюю ступеньку и осмотрелся, выбирая удобное место. Насыпь была невысока и полога и густо поросла бурьяном.
Молодой человек напрягся и выпустил деревянный поручень. Прыжок оказался удачным, и хотя он все-таки упал, но не ушибся, только проехал боком по кусту репейника, сразу поднялся и быстро зашагал в сторону от пути, отдирая на ходу впившиеся в одежду колючки. Место здесь было безлюдное – заросли камыша у берега мелководной речки. В этих камыша просидел он дотемна, до самого конца длинного летнего вечера, и, только когда стемнело, выбрался на знакомую тропу, что вела берегом к городу. Часа через полтора, никуда не сворачивая, он вышел на окраинную немощеную улицу. Тут он замедлил шаг, стараясь держаться ближе к заборам. Ему повезло – навстречу не попалось ни души, лишь изредка во дворах ворчали для острастки собаки.
Но вот началась мостовая. Полукрестьянские дома сменились постепенно особняками, глухие ставни – ставнями-жалюзи. Он свернул за угол, потом еще раз и остановился у одноэтажного дома с двумя кариатидами у парадного. Даже в темноте было заметно, что этим входом давно не пользуются, крыльцо занесло сухими листьями, у одной из кариатид была отбита левая грудь. Он обошел дом и проник во двор через проулок, поскользнувшись на спелых ягодах шелковицы, густо засыпавших каменную дорожку, проложенную от калитки к застекленной веранде. Рука его была потной, а сердце колотилось, когда он, согнув пальцы, постучал негромко по стеклу.
Сначала не ответил никто.
Потом, после второго стука, спросили:
– Кто это?
Голос был незнакомый.
«Неужели они выселили маму и в доме живет какая-нибудь мразь?! – подумал он, сжимая рукоять браунинга. – Прикончу, как ту гнусную зеленую муху…»
– Мне нужна госпожа Муравьева.
– Зачем вам Вера Никодимовна? Кто вы?
Встречный вопрос немного успокоил. Могли ведь ответить и «господ больше нет» или похуже…
– Она дома?
– Но уже очень поздно…
– А вы кто?
– Моя фамилия Воздвиженский. Я снимаю комнату у Веры Никодимовны.
– Откройте, ради бога. Я ее сын.
– Вы Юра? Не может быть! Неужели вы Юра? Одну секунду, одну секунду…
За дверью торопливо загремели запоры.
Он шагнул через порог, и тут же к нему приникла уже стоявшая на веранде простоволосая женщина в домашнем капоте, наспех надетом поверх длинной ночной сорочки, морщинистые руки обвились вокруг шеи, и оба заплакали, повторяя слова, неизбежные в тех случаях, когда слова, собственно, не нужны.
– Юра! Ты… живой…
– Да… я… мама…
– Не верю… боже…
– Это я, мама… я…
– Не может быть…
Потом, при свете керосиновой лампы, помывшись и переодевшись, он сидел за круглым столом в гостиной и с удивлением рассматривал комнату, которая ни в чем не изменилась с тех пор, как в шестнадцатом году ушел он отсюда вольноопределяющимся на австрийский фронт. С тех пор изменилось все за пределами этой комнаты, а здесь – ничего, и даже сработанный с великой точностью парусник со сложнейшим такелажем и медной оснасткой, подаренный отцу, судовому врачу, сослуживцами-моряками, стоял на своем месте, по-прежнему зовущий в море, в дальнее страны, в иную жизнь.
Но жизнь здешняя была не такой романтичной. Недаром прыгал он на ходу из вагона и пробирался в родной дом ночью, хотя мог бы сойти и на вокзале. Документы были в порядке, но он хотел сохранить оружие.
– Мама! Кто этот человек? Господин Воздвиженский.
– Роман Константинович, Юра, очень порядочный человек. Он приват-доцент, естественник, из Петербурга.
– Служит большевикам?
– Он читает курс в университете. Что же делать, Юра, если вы не смогли защитить нас.
Юрий не успел ответить.
– Позвольте побеспокоить, – появился в дверях Воздвиженский. В руке он держал лабораторную колбу с прозрачной жидкостью. – Я хотел бы сделать скромный вклад… по случаю счастливого, почти невероятного в наше перенасыщенное бедствиями время события. Вот… спиритус вини.
– Весьма кстати, – одобрил Юрий.
– Ты пьешь, Юра?
– Ах, мама…
– Я понимаю, понимаю. Я тоже… позволю себе капельку. Ведь произошло чудо! Чудо! Мы выпьем из дедушкиных серебряных стопок. Я сейчас.
И она заспешила в свою комнату, где хранила то, что было особенно дорого.
Юрий остался с Воздвиженским.
– Мама отрекомендовала вас как порядочного человека.
Воздвиженский поклонился.
– Вера Никодимовна великодушна.
– Да, она всегда была прекраснодушной интеллигенткой.
– Вы сказали это неодобрительно. Что же плохого, если у человека прекрасная душа?
– Прекрасная душа хороша в прекрасном мире, а в нынешнем, похабном, она смешна и опасна.
– Не могу с вами согласиться. Видимо, вы много страдали.
– А вы тоже прекраснодушны?
– Отнюдь. Я лишь по мере сил стараюсь избегать зла.
– И преуспели?
– Увы! Зло всегда в избытке – и в нынешнем, как вы выразились, похабном мире, да и в прошлом, прекрасном, по вашему мнению.
Слова эти не понравились Юрию.
– Вы не видите разницы между нашим миром и миром, в котором мы оказались?
Он подчеркнул слово «нашим».
– Дорогой Юра! Позвольте мне так называть вас, я ведь вдвое старше. Мир никогда не был чьим-либо. Даже, божьим. Он естествен.
– Только не большевистский. Противоестественный.
– Я не хочу спорить. Позвольте только один совет. Не озлобляйтесь. Это не менее опасно, чем прекраснодушие. Вы устали, нервы измотаны. Отриньте пережитое…
Воздвиженский собирался еще что-то сказать, но уже вернулась Вера Никодимовна с темными стопками и нехитрой снедью в тарелке.
– Вот, Юрочка, вот… Чем богаты. Прости, пожалуйста, я ведь не знала. Утром я сбегаю на базар…
– Мама! Ты сама ходишь на базар?
– А кто же пойдет за меня? – И, увидев, как болезненно исказилось его лицо, добавила, может быть, не совсем уместно: – Разве ты не помнишь, как упрекал меня за то, что мы держим кухарку?
Неужели такое было?
Конечно, было. В необозримо далеком прошлом.
«Мама! Мы так много говорим о несправедливости, презираем барство, а у нас в доме живет Глаша, она готовит, убирает, обслуживает нас… Ведь мы гордимся, что мы не дворяне, что наш дед, как и дед Базарова, землю пахал, толкуем о совести, о вине перед народом… и стыдимся приготовить себе пищу!»
В необозримо далеком… А теперь она ходит на базар и сама готовит, но не потому, что презирает барство, а потому, что больше некому идти и готовить.
«Ужасно, – подумал он, скрипнув зубами, – ведь она не просто ходит, она бедна, она выбирает то, что подешевле, она… торгуется. С ее мягкостью, с ее чувством достоинства…. Ужасно!»
– Что ты, Юрочка?
– Ничего. К этому трудно привыкнуть.
– Я уже привыкла. Что поделаешь! Конечно, мы не так представляли революцию…
– Оставим, мама. Ты, конечно, все знаешь о Тане?
Он не хотел задавать этот вопрос при постороннем человеке, но и ждать больше не мог.
– Еще бы! Мы вместе несли наш крест.
– И… как она?
– О! Было безумно тяжело. Известие о том, что ты погиб, подкосило ее. Но Таня мужественная девушка, и бог смилостивился. Представляю, каково ей будет обрести тебя снова.
Юрий не понимал, потому что спрашивал совсем о другом.
– Она… одна?
– Ах! Ты вот о чем! Успокойся. У Тани благородная душа. Такие умеют хранить верность не только живым, но и их памяти.
«Какая верность! Неужели мама не знает?»
– Ты часто виделась с ней? Все время?
– Кроме тех месяцев, что она провела в деревне, у своих. Там было несчастье с ее сестрой, и Таня ездила, не могла не поехать.
– К сестре?
– Да. Она заходила днями. Как жаль, что так поздно. Я бы пошла за ней.
– Идти ночью очень опасно, – предостерег Воздвиженский.
– Я понимаю. Как счастлива она будет утром! Я уверена, у нее должно быть предчувствие. И утром оно сбудется. Правда, Юра?
– Да. Мы увидимся утром, – сказал он, находясь в полном недоумении. – Однако стопки пустуют.
– Мы наполним их, Юра. Пожалуйста, Роман Константинович! У меня руки дрожат от счастья.
Воздвиженский глянул на Юрия.
– Прошу вас, господин приват-доцент. Я вижу, вы удостоены полного доверия мамы.
– Надеюсь, что бываю по возможности полезен.
Юрию стало неловко.
– Спасибо вам за маму! Мама! Скажи ты.
– Я скажу, Юра. Я с такой радостью скажу. За твое чудесное спасение, за то, что ты вернулся, чтобы согреть мою несчастную, одинокую старость… А главное, за то, что нужно верить. Верить в чудо даже в отчаянье. И тогда спаситель услышит наши мольбы… И милость его безгранична.
Юрий не помнил, чтобы мать так говорила. В их семье не было убежденно религиозных. Просто чтили красивые обряды и уважали заповеди добра. Но теперь под образом горела лампада.
Вера Никодимовна перекрестилась и низко склонилась, повернувшись к иконе.
«Она верит в чудо, – подумал Юрий. – А я? Что, если все, со мной происшедшее, не случайно?»
И он тоже поднял руку и перекрестился.
Воздвиженскому была приятна их радость, но, часто и горько размышлявший о боге, он не мог не подумать с грустью: а не спасают ли высшие силы нас лишь временно, преднамеренно, только для того, чтобы подвергнуть еще большим страданиям? Именно страданиям, а не испытаниям, ибо в загробное блаженство, призванное оплатить испытания, он не верил – идея мучительства во имя будущего счастья казалась ему омерзительной, недостойной высшего существа, даже если оно существует.
Но, не желая огорчать этих счастливых людей, он перекрестился вслед за ними.
Юрий выпил спирт и тут же почувствовал, насколько устал. Захотелось одного – лечь и заснуть, забыв до утра все тревожные недоумения.
– Юра! Ты должен столько мне рассказать.
– Извини, мама. Сейчас только спать.
– Я понимаю. Конечно.
Через несколько минут Юрий уже лежал в чистой постели, но, прежде чем сон овладел им окончательно, в голове пронеслись события дня – душный вагон, бандитский пулемет в бричке на перроне, неожиданное появление бывшего приятеля в фуражке с молоточками, камыши над застывшей в мареве речкой, рычание собак за темными заборами, наконец, – дом, мама, приват-доцент из Петербурга, лампада, озаряющая лик спасителя, и главное – Таня, Таня! Одна! А ребенок, их ребенок?
Невольно он приоткрыл глаза. В свете лампадки поблескивал медный якорь, над ним темнели раскрывшиеся ветрам паруса. «Куда он держит путь? В океан? За океан? Там Барановский…» – смутно подумал Юрий, засыпая.
Но Барановский был не за океаном.
Он был гораздо ближе…
* * *
Когда в начале 1920 года полуразбитая армия Деникина в последнем отчаянном усилии захватила город и немногочисленные цепи озябших людей в погонах залегли на северной его окраине, недалеко от монастыря, одиноко возвышавшегося над голой заснеженной степью, шальной пулей был легко ранен в правую руку подполковник Барановский. Рану наскоро перевязали – фельдшер с санитарами расположились в Глинистой балке, по дну которой протекал незамерзший ручей, – и подполковник направился в тыл, придерживая раненую руку левой, здоровой.
Он мог бы добраться до госпиталя на армейской подводе, но рана, лишившая Барановского возможности сражаться, давала себя знать не резко, и он предпочел идти в тыл пешком, чтобы не занимать места, которое могло пригодиться раненному более тяжело и опасно. Поднявшись по скользкому склону, он оглянулся туда, где продолжался бой. Красных не было видно. Стреляли откуда-то из степи, покрытой белым зимним саваном, но сюда пули не долетали, и идти можно было в рост, без опаски.
Миновав открытое пространство, подполковник вошел в пригородную рощу, запорошенную недолговечным февральским снегом, и остановился, чтобы выкурить папиросу. Отстегнув одну пуговицу желтовато-коричневой английской шинели, Барановский нащупал во внутреннем кармане портсигар, потянул неловко левой рукой, скользнув пальцами по лежавшим рядом карманным часам. Часы принадлежали поручику Муравьеву, расстрелянному у него на глазах прошлой осенью. В крышку часов с внутренней стороны была вклеена фотографическая карточка невесты поручика, здешней гимназистки Тани Пряхиной, которую подполковник собирался навестить, если город будет успешно взят, и именно с этой целью взял с собой в наступление часы и еще листик со стихами, которые написал Муравьев незадолго до смерти.
Теперь намерение это представлялось возможным осуществить, и Барановский решил зайти к Тане немедленно, еще до того как доберется до госпиталя. Поторопиться его заставляло существенное обстоятельство – подполковник не верил, что белые войска смогут надолго захватить боевую инициативу, а тем более изменить ход кампании. Не надеялся он даже на то, что город удастся удержать хотя бы несколько дней. Кучка людей, что залегла на краю степи, за которой лежала вся Россия, казалась Барановскому символом обреченности белой армии.
Приняв решение, подполковник присел на пень недавно спиленного дерева, удобно положил на колено перехваченную повязкой руку и затянулся, думая о Муравьеве. Из всех людей, кого смерть почти ежедневно вырывала вокруг, Барановский больше всего сожалел об этом не дожившем до двадцати двух лет молодом человеке.
С гимназической скамьи Юрий Муравьев добровольно вступил в действующую армию, чтобы защитить Отечество от тевтонов, нимало не подозревая, что берет в руки оружие, которое через год обратит против собственного народа. В этой безнадежной и кровопролитной борьбе Юрий сохранял наивную веру в то, что русский народ находится в глубоком заблуждении, но неминуемо проснется и скинет тиранов и демагогов, а идеалы, которые так долго созревали сначала под липами дворянских усадеб, а потом на шумных сборищах лекарских, поповских, крестьянских детей и почитались в собственном Юрия доме, обретут наконец жизнь, над очищенной грозой, многотерпеливой Россией взойдет долгожданная и выстраданная заря.
Это умонастроение не покинуло Муравьева даже после поражения под Касторной, когда рухнула самая большая белая надежда – поход на Москву, казавшийся разящим ударом молнии, обернулся разгромом, и, как понимал подполковник Барановский, разгромом непоправимым. Об этом он и сказал Муравьеву ночью в разгар отступления в купе спального вагона, застрявшего вместе с составом на какой-то полуутонувшей в осенней грязи железнодорожной станции между Воронежем и Ростовом:
– Я выхожу из игры. Баста. И предлагаю тебе последовать моему примеру.
На столике между ними были нагромождены консервные банки и куриные кости – остатки ужина, окружавшие наполовину пустую бутыль с водкой.
– Если бы я не видел, как вы шли на пулеметы с винтовкой, я бы подумал, что вы струсили.
– Шагать в рост под пулями – не высшая храбрость. Просто в «ледяном походе» у нас не было выхода.
– В чем же истинное мужество?
– Сберечь себя для решающей битвы.
– Но сражение за Москву…
– Мне тоже казалось решающим. И я не щадил себя, ты знаешь. Но сейчас мне открылось многое.
– Поход проигран?
– Не только поход. Проиграна Россия.
– Тогда остается одно…
Юрий сделал выразительный жест.
– Пуля в лоб? Только не это. Это капитуляция. Мы смотрим на революцию со слишком близкого расстояния и потому видим лишь отдельные мазки и пятна, эпизоды и силуэты, даже символы – большевиков, мужичка-богоносца, беспомощного интеллигента. Я теперь смотрю в перспективе. Это мировая битва дикости против цивилизации, и судьба ее не может решиться под Орлом или Воронежем.
– Где же она решится, по-вашему?
– Судьба Франции решилась под Москвой.
– Вы полагаете, что Буденный дойдет до Парижа? – спросил Юрий иронично, но Барановский ответил очень серьезно:
– Не исключаю такой возможности. Как только нас сбросят в море, большевики возьмутся за мировую революцию с утроенной энергией, и, если им удастся пройти Польшу, Германия вспыхнет, как деревянная изба в июльскую сушь. И пламя перехлестнет Рейн.
Муравьев сел на своей койке.
– Итак, мы роем окопы на Монмартре?
– Во Францию я тоже верю мало. Это народ, не способный к длительной борьбе.
– Однако бошей они расколотили.
– Они?! Мы их спасли в четырнадцатом, а янки в восемнадцатом. И, пока они торжествуют, раскудахтавшись на весь мир, нож уже точится на этого тщеславного галльского петуха, покинувшего в беде своего самого преданного союзника. И поделом!
– Куда же бежать? В джунгли? В Тибет? Нет, Алексей Александрович. Это слишком далеко и долго.
– Между Вальми и Ватерлоо прошло двадцать три года.
– Вы собираетесь воевать четверть века?
– Были войны и тридцатилетние, и столетние. Я буду воевать, пока жив.
– Тогда давайте сражаться здесь, в России. Странно, но, чем хуже наши дела, тем больше я верю в Россию, верю в неизбежный духовный перелом. Поражения помогут очиститься нашему кораблю, на котором налипло столько ракушек. Говорят, командующий сказал в частной беседе, что в то время, как сорок тысяч сражаются на фронте, сто сорок прожигают жизнь в Ростове. Новая угроза смоет их с днища, и корабль одолеет бурю.
– Нельзя победить, пока на каждого из нас приходится по десять смертельно ненавидящих врагов.
– Этот дурман рассеется. Большевики обещали всем все. Но ведь они не могут даже накормить народ досыта. А зверства чека?
– Не обольщайтесь. Они не меньше твердят о наших расправах. Никакого отрезвления не будет. Мы отступаем и наверняка не задержимся на Дону или Кубани. Пора решать, мой милый Юра: спасти жизнь и продолжать борьбу или погибнуть с побежденными. Других путей я не вижу.
– Я не могу бежать из России, – сказал Муравьев очень серьезно, но Барановский не понял его.
– Хочешь сложить голову со славой?
– Наоборот. Я должен жить, Я не говорил вам… У Тани… у нас будет ребенок.
– Сумасшедшие! – воскликнул подполковник.
– Я думал, когда он родится, мы будем в Москве.
– Тем более необходимо спасти свою жизнь!
– У нас нет никаких средств. Да и как ехать в ее положении?
Барановский вытащил бутыль из объедков и наполнил свой стакан.
– Ты обязан, понимаешь, обязан спасти себя. Для них.
– Я не свободный человек. Я солдат. Я выполняю свой долг.
– Перед кем?
Он опрокинул стакан.
– Перед Россией.
– Что такое Россия? Ее больше нет. Есть хаос невежества, злобы, зависти, лени и кровожадности! В моих жилах течет кровь рюриковичей. Тысячу лет отдали мои предки этой стране. С меня достаточно. Варягам не удалось ничего. Пусть теперь попробуют евреи. А я не собираюсь больше драться за Россию. Я буду защищать мировую цивилизацию.
– Я не варяг и не еврей. Я нигде не нужен. Куда я уйду с этой земли?
– Чтобы тебя похоронили в ней?
– От судьбы не уйдешь.
– Судьба наша в руках дьявола. Бог отступился от России.
Однако в то утро дьявол мог показаться даже великодушным. Смерть только коснулась обоих костлявыми пальцами и отпустила.
Красные ворвались на станцию настолько внезапно, что сопротивляться не пришлось. Барановский успел только натянуть в рукава китель и выхватить из-под подушки наган, но на пороге вагона его ударили прикладом, вышибли оружие, и он упал. Очнулся подполковник у красного кирпичного здания, по-видимому склада, потому что окон в стене не было. Стена была совсем гладкой, но в одном месте, приблизительно на уровне человеческой груди, кирпич был выщерблен тремя пулями. Выщерблен минуту назад, потому что там же, где отвалились эти маленькие кусочки обожженной глины, лежал… нет, вернее, сидел мертвый незнакомый Барановскому штабс-капитан. Одна его босая нога была вытянута и уткнулась в жидкую грязь, а другая согнута в колене, и на это колено штабс-капитан положил голову, когда несколько выстрелов в упор пробили ему грудь и раскрошили кирпичную кладку.
А рядом с мертвым штабс-капитаном, прислонившись тоже спиной к стене, чтобы не потерять равновесие, снимал сапог Юрий Муравьев…
«Зачем это он?!» – подумал подполковник.
В том, что делал Юрий, было унизительное, для самого Барановского невозможное. «Что ты делаешь! – хотел он крикнуть. – Не снимай сапог!» Но, встретившись со взглядом Юрия, не крикнул. Взгляд этот, который Барановский так хорошо знал, – мягкий, немного застенчивый, казавшийся умным, теперь не выражал ровно ничего, кроме смертельного, покорного ужаса. Такой взгляд Барановский видел однажды в имении под Казанью, где крестьяне-татары резали телку, старательно уложив ее головой на восток. Огромные, выкатившиеся глаза животного смотрели так же мучительно и безнадежно…
Подполковник отвернулся.
Между тем Муравьев уже стоял на черной земле в одних носках под дулами винтовок, когда кто-то, видимо, старший, в кожанке и кожаной фуражке, с желтыми, прокуренными усами крикнул:
– Постой, братва! Андрей идет.
Готовые стрелять приостановились. К ним быстро подошел парень в разорванной косоворотке. Парень этот был схвачен накануне белым дозором на станции как лазутчик и допрошен, но расстрелять его не успели, и вот он был на свободе.
– Он тебя пытал? – кивнул рыжеусый в сторону Муравьева.
– Все они одним мазаны, – буркнул парень, не глядя на поручика.
– А ну, держи по такому случаю! – крикнул один из вооруженных и бросил свою винтовку парню в косоворотке.








