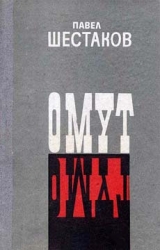
Текст книги "Омут"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
«Он из тех чистых, с благородной душой мальчиков, что шли на смерть за наше дело. Он, конечно, смел, и в то же время беспомощен», – думала она, в целом верно оценивая Юрия и в то же время чуть завышая свои оценки под влиянием его обаяния.
Юрию тоже понравилась Софи.
И хотя он тут же оговорился, что дороже Тани, особенно теперь, в ее муках, для него нет и не может быть никого, он все-таки подумал, сравнивая обеих женщин, что при всей заметной решительности характера Софи, наверно, свободна от тех деспотических склонностей, в которых он не раз упрекал Таню.
А Техник смотрел на всех благожелательным, чуть насмешливым взглядом и думал, что, если понадобится, он их убьет, и так скорее всего и будет – убьет, когда каждый сделает предназначенное ему дело.
Думал он беззлобно, потому что считал, что смерть быстрая, верная и особенно неожиданная – благо, ибо мучается и страдает человек при жизни, а не после нее. Почему же не оказать этим людям пустяковую услугу? Все они вызывали в нем снисходительное чувство. Софи была смешна попыткой – какая наивность! – обмануть его. Теперь он уже думал об этом с уверенностью. «Слишком умна!» Юрий, наоборот, несомненно глуп, как был глуп и раньше, сочиняя плохонькие стишки для своей рабоче-крестьянской пассии в гимназическом фартучке. Шумов, возможно, и притворяется глуповатым, его еще нужно рассмотреть прежде чем допустить к делу. Но конец один. И его, Техника, задача по сути техническая. Завершить операцию быстро и без воплей и стонов. Это единственное, что он может для них сделать, и он сделает. Хотя бы во имя приятельских отношений. Ведь никого из них лично он не ненавидит.
И ему захотелось сказать им что-нибудь приятное.
Он взял нож и постучал по бутылке:
– Ахтунг, ахтунг, что по-немецки значит «прошу слова», или даже несколько слов.
Все посмотрели на него.
– Благодарю! Итак, спич, что по-английски…
– Слава, мы все прекрасно понимаем и говорим по-английски, как и на других известных вам языках, – прервала его Софи.
Технику это не понравилось, но он изобразил живейшую радость:
– Это прекрасно. То, что в этой скромной комнате, почти в подвале собрались такие люди, достойно внимания… Всяческого внимания. Я вижу в нашей встрече нечто символическое. И ни в коем случае не случайное, как может показаться на первый взгляд. Да, судьба свела нас не бесцельно. Она зачем-то провела нас невредимыми сквозь чистилище. Зачем? Не знаю. Но, может быть, придет час, и завеса над тайной приоткроется? Как вы думаете, Софи?
– Не думаю, что это произойдет сегодня.
– Я тоже. Судьбу нельзя подгонять. Но кто запретил размышлять над ее намерениями? Может быть, она заметила в нас нечто? Как ты думаешь, Юра?
– Я стоял под дулами красноармейских винтовок и остался, жив. Я верю в судьбу.
– Браво! А ты, Андрей?
– Во всяком случае, в Курске у нее нашлась минутка и для меня.
– Отлично. Это знаки. Но почему именно нам? Я позволю себе предположить. И назову нас последними идеалистами. В век, когда люди предпочли идеалам идеи, мы остались идеалистами. Верно, друзья мои?
– Ваш друг Андрей, кажется, собирается заняться торговлей, – заметила Софи.
– Но разве идеалист обязательно должен быть бедняком? Почему? Я хотел сказать абсолютно иное. Я хотел сказать, что рука судьбы не может протягивать камни. И раз она свела нас, это предвестие награды. Я верю в это. Поверьте и вы! Мы увидим небо в алмазах. Короче, как говорили древние, пер аспера ад астра, что по-русски значит «смело, товарищи, в ногу». Простите меня, Софи. Я кончил.
– Я поняла.
– Жаль. Я не рассчитывал на понимание. Ясность сродни грусти. Оставим же ее до следующего раза. До дна!..
Первыми ушли Юрий и Шумов.
Техник проводил их до двери, вернулся и устало опустился на стул.
– Что скажете, мадам?
– Временами мне хотелось аплодировать.
– Почему же вы сдержали себя?
– Не знала, когда начинать. Вы нагнали такого тумана…
– Мы же ищем людей…
– Вот именно.
– А кто же ищет их днем, да еще с фонарем, как вышеупомянутый древний грек? Не удивительно, что он никого не нашел. Свет отпугивает людей. На свет стремятся только бабочки… и опаляют крылья. Вот в тумане – другое дело…
– И вы нашли?
– Вы же видели.
– Видела.
– Подойдут вам эти люди?
– Офицер, пожалуй, да.
– А купец?
– Откуда он взялся?
– Из зала.
– Его вы не ждали?
– Нет. Он же сказал: это сюрприз.
– Для нас. А для него? Вы хорошо его знаете?
Техник покачал головой:
– Кто в наше время хорошо знает друг друга?
– Вы поверили его байкам про мамонтовский рейд, про дядюшку в Курске?
– Это можно уточнить. Во всяком случае, до войны он богатым не был.
– Но, если сейчас у него в самом деле есть деньги, чем вы его заинтересуете?
– Именно деньгами. Деньги, Софи, это странная штука. Их хватает, только когда их очень мало. Но если они есть, денег всегда недостает. А уж если он мечтает о лавочке…
– Дурацкая мечта.
– Действительно, глупо. Деньги нужно брать и тратить, а не наживать по грошам в лавочке. У меня бы не хватило сил на такое.
Он в самом деле чувствовал усталость.
«Почему люди так утомительны? Нет, пора кончать. Вернее, начинать новую жизнь. Взять это шальное богатство и бежать, бежать… Далеко. Лучше всего в колонии, где нет людей, а есть только слуги и женщины, которых покупаешь на время, и больше никого…»
– Хочу рикшу.
– Что? – не поняла Софи.
Техник провел пальцами по лбу.
– Я хотел сказать, что нам уже не найти извозчика. Час поздний.
– Надеюсь, вы проводите меня?
– Еще бы! Я ведь обещал вам безопасность.
«На какой срок?» – подумала она без волнения.
Все, что происходило и должно было произойти, предусматривалось с самого начала. Важно было только не опоздать, поставить точку первым.
* * *
Юрий и Шумов шли вдвоем.
Было, правда, еще не очень поздно, но темно и безлюдно.
– Ты знаешь, кто он? – спросил Муравьев.
– Техник, – ответил Андрей коротко.
– Как ты узнал?
– Земля слухом полнится.
– Коммерческая тайна?
– Да для кого же это тайна?
– Кто бы мог подумать?.. Когда мы учились, мечтали…
Но Андрей не удивлялся.
В отличие от Юрия для него старая жизнь никогда не была окутана романтическим флером. Он вырос в семье, где отец, почтовый чиновник, не выдержал натиска жизни и пил. Пил, не доводя семью до голода, но часто, переходя от искусственной эйфории к мрачному унынию. Тогда он подолгу и нудно говорил о неблагополучии жизни, о низких качествах человеческой природы, о том, как несправедливо обошлась жизнь с ним лично.
Может быть, он и посеял бы семена «мировой скорби» в душу подрастающего сына, но мальчик больше тянулся к матери, больше прислушивался к ее словам и суждениям. Оба, и отец и мать, участвовали в первой революции, однако отец – временно, увлекшись, как и многие, а мать – по жизненному убеждению, беззаветно и навсегда. Жизнь родителей все больше шла под одной крышей по-разному, тянулась мучительно, пока дети были малы, и прервалась, как только это стало возможно. Мать уехала со старшей дочерью, и Андрей их больше никогда не увидел – и она, и сестра сложили головы в гражданскую, но Шумов верил в материнскую правду, которая была простой и понятной: отвратительна и несправедлива не сама жизнь, а та жизнь, которой заставляли жить людей до революции; отвратительна жизнь старая, но она сгинет, и на развалинах ее из крови и пепла поднимутся сначала ростки, а потом и сильные, мощные побеги новой.
– Техник – безусловно, личность.
Юрий не видел в темноте выражения иронии на лице Шумова, а говорил тот самым обычным тоном.
– Мы виделись не в первый раз.
– О!..
– Ты неправильно понял. К его делам я не имею отношения, но наша первая встреча…
И Юрий рассказал про встречу в поезде.
– Да… Производит впечатление.
– Еще бы! Это тебе не гимназический бал.
– А что же?
– Смелость, риск, решительность – что угодно.
– А по-моему, обыкновенный бандитизм.
– Ну, с точки зрения собственника, человек, изымающий собственность, разумеется, преступник.
– Думаю, что и с точки зрения всех обобранных в поезде. Ты что, анархист? – спросил Шумов.
– Этого еще не хватало!
– Тогда кто же, если не секрет?
– У меня нет догматической платформы.
– Ты служил в Добровольческой армии. Разве это не платформа?
– Я покончил с иллюзиями.
– И приобрел новые?
– Вера в народ не иллюзия.
– Значит, признал Советскую власть?
– Нет. Народ не пойдет за чуждым ему рациональным марксизмом. Он создаст новые общественные устои, самобытные, и формы его борьбы тоже кажутся нам непривычными.
– Какие формы? Разбойничьи?
Юрий возмутился:
– Как живучи предрассудки! Ты просто старорежимный обыватель, буржуа.
– Я ведь говорил о своих планах.
– Оставь, я не верю.
– Почему? Нэп – серьезная политика.
– Мираж! Бесплодная попытка вырваться из тупика, в который попали большевики. Связать свое будущее с их политикой – сущее безумие.
– Выходит, я в тупике, а наш друг Слава-Техник на путях российского возрождения?
– Представь себе. Это парадоксально, но может быть и так.
– Ну, уволь. Лучше уж разориться в торговле, чем получить пулю в очередном налете.
– Как мы все изменились!
– Ну, что ты! Слава только что назвал нас всех идеалистами. Кстати, на что он намекал, как ты думаешь?
– Не знаю, я не понял. А ты думаешь, он намекал?
– Да. Определенно. Какая-то авантюра, я думаю. Он еще вернется к этому разговору, будь уверен.
– Чтобы привлечь нас?
– Как видно. И не бесплатно. Я так понял.
– Однако ты стал подлинно меркантилен, – заметил Юрий.
– Только не в данном случае. Боюсь данайцев, что бы они ни обещали.
– Но речь может идти и о благородном деле.
– И ты откликнешься?
– Смотря о чем речь…
– Ладно, – заключил разговор Шумов, потому что они подошли к освещенному тусклым фонарем перекрестку, где должны были разойтись. – Ладно. Подождем до очередного обращения Техника к народу. А кормят в этом подвале, между прочим, отменно, а?
– Да, конечно. Надеюсь, мы будем видеться, несмотря на разногласия?
– Разумеется. Коммерсант должен быть широк в общении, – заверил Шумов.
Они попрощались вполне дружески и направились в противоположные стороны. Юрий – вверх, в сторону своего дома, а Шумов – по улице, что вела вниз, к домику Пряхиных. Он должен был повидать Максима.
* * *
По прежним годам Шумов помнил, что Максим ложится поздно, и действительно, в комнате, где он жил, светился огонек невидимой за занавеской керосиновой лампы.
Андрей подошел к окну и постучал.
Ночь была душной, и окно раскрыто. Максим откинул занавеску, вгляделся в лицо пришедшего и узнал Шумова.
– Ты зачем?
– Нужно поговорить.
– Поздно уже лясы точить.
– Так лучше.
– Мне прятаться не от кого.
– Так лучше для меня.
– Ну, раз уж пришел… Пошли в сарай. В доме спят уже все.
В сарае Максим чиркнул спичкой, зажег свечу, капнул растопившимся стеарином на верстак, закрепил свечку и стряхнул стружки со старого стула:
– Садись.
Шумов присел.
Максим рассмотрел его с насмешкой.
– Костюмчик-то не испачкай.
– Ничего. Тут чисто.
– Зачем пожаловал? Говори.
– Я от Наума.
– Мне он больше не начальство. Он как друг…
– Гусь свинье не товарищ.
– Зря обижаешь.
– И не думал. Как есть, говорю. Вы, как гуси, шеи задрали и гогочете в самодовольстве. А мне, видно, на роду написано в свинарнике обитать.
– Мы иначе думаем.
– У вас свои головы, у меня своя. Спорить не будем. Так что давай без дискуссии. Говори коротко и без поучений. Лады?
– Хорошо. Возьми назад заявление. Не отступайся от партии, Максим!
Пряхин хмуро покачал головой:
– Плохо вы меня знаете.
– Мы тебя знаем. К другому бы меня не послали.
– А ко мне особенно ходить не нужно было. Тебе тем более. Я тогда сгоряча тебя за нэпмана принял. Верней, сдуру. Ты, конечно, на задании. Чего ж шляешься неосторожно?
– О задании не будем…
Максим усмехнулся:
– Уже не доверяете?
– Максим! Ты меня в революцию ввел.
Сказано было в волнении и точно только в том смысле, что именно Пряхин поручился за Андрея в те трудные дни восемнадцатого года, когда пришлось создавать подполье. Однако «ввести» в революцию, да еще в одночасье, конечно, нельзя. Это всегда собственный, выстраданный умом и сердцем путь, и он начался для Шумова давно, можно сказать, с детства…
Разумеется, на всяком пути свои вехи, встречи, которые помогают не сбиться, а иногда и спрямить дорогу. В начале пути Андрея была мать. Нет, она не взяла за руку и не повела, больше того, она вынуждена была оставить его с отцом, от которого он еще почти мальчишкой услыхал о революции много несправедливого, а о матери – злого, уничижительного. Но у Андрея, как и у многих рано развившихся детей, складывался свой, независимый взгляд на родителей, и он был уверен, что мать не могла поступать плохо, и если она осталась в революции, а отец ушел., отступил, то права она. Он остро воспринимал ее человеческие достоинства и слабости отца, хотя редко выражал это в спорах. Ему не о чем было спорить.
А отец был готов спорить с каждым. Наверно, он вел заочный спор с уехавшей женой, а может быть, и вечный спор с самим собой, с преданными идеалами, с затаившимся глубоко внутри сомнением в своей правоте, которая на словах казалась глубоко обоснованной, почти несомненной истиной. Однако лишь «почти». Иначе он вряд ли бы так часто и однообразно повторял одно и то же.
– Утопия, – говорил он подростку-сыну, глядя поверх него, будто видя за ним еще одного слушателя, – красивая мечта. Лучше обратись в глубины души человеческой и там увидишь печальную истину; суждены нам благие порывы…
Однажды он попытался развить любимую тему в присутствии Максима, а вернее, в прямом к нему обращении.
Максим занес книгу. Забежал на минутку и стоял, уже прощаясь, в дверях маленькой гостиной, а отец, сидя в халате за круглым столиком, наливал из графинчика в прозрачную стопку.
– До свиданья, юноша. Мы всегда, так сказать, рады… Мой сын и я… Я признателен за ту опеку… – Он решил, что неудачно выбрал слово, и поправился: – Своего рода опеку, защиту, если хотите, покровительство, которое вы оказываете Андрею. Я вижу, у вас развито чувство справедливости. Не так ли?
Максим пожал плечами.
– А… Вы находите это чувство естественным? Увы, оно, скорее, исключение… Разве можно представить себе жизнь справедливой?
– Можно.
– Браво! Еще один идеалист. И вам, конечно, не по душе жизнь нынешняя?
– Да так, как мы живем, и жить не стоит, – сказал Максим.
– О… Почему, однако? Насколько я понимаю, в вашем положении вы уже многого достигли. У вас полезная профессия, вы одеты, сыты.
– Верно, – кивнул Пряхин.
– Вот видите. А вы только выходите в люди. Вы еще многого можете достичь. У вас может быть своя мастерская, даже небольшое предприятие…
– Чтоб народ эксплуатировать?
– Вы и такое слово знаете? Вычитали?
– Шкурой постиг… Когда под верстаком спал на стружках.
– Понимаю. В ученье. Зато вы своим ученикам создадите условия более человеческие. Это, кстати, выгодно. Они работать лучше будут. Взаимовыгодно.
Довольный своей мыслью, отец проглотил водку.
А Максиму мысль не понравилась.
– И волки сыты, и овцы целы?
– Разве это плохо?
– Спасибо. Волком быть не желаю.
– Ха-ха-ха… – рассмеялся Шумов-старший. – Неужели овцой лучше?
– Человеком лучше.
Отец быстро наполнил стопку.
– Ну, это еще вопрос. Это метафизика. А на практике проще. Или вы волк, или овца. Третьего не дано. Так природа… ха-ха… с человеком распорядилась. А посему, молодой человек, ваше здоровье. Желаю вам…
– Волчьей доли?
– Однако вы полемист. Желаю вам не испытать разочарований.
– Не нужно, папа, – попросил Андрей. Он приткнулся на углу дивана. Ему было стыдно за отца.
– Не нужно? Хорошо, хорошо… Почему только люди так не выносят правды? Почему витают в облаках? Почему не извлекают очевидных уроков!..
– Каких уроков? – спросил Максим, не привыкший отдавать последнее слово в споре.
Отец скользнул взглядом по принесенной им книге.
– Это что? Гюго? Прекрасная книга. Поучительный урок. Сколько крови пролилось! А потом! Термидор, Бонапарт, сожженная Москва, обглоданные диким зверьем замерзшие трупы в русских лесах и, наконец, торжествующий буржуа, поощряемый королевским призывом «обогащайтесь!». Вот кому прокладывают путь идеалисты…
Шумов вдруг вспомнил этот разговор, мучительную для него сцену, ссутулившегося отца в заношенном халате и Максима напротив – ладного, крепкого, убежденного трудового парня. Каждое слово, сказанное ими, будто пересекало бездонную пропасть, и Андрей был на той стороне, где стоял Максим. Еще одна веха в пути.
– Урок, конечно, полезный. Нужно не идеалистом быть, а сознательным борцом.
Именно таким и видел его всегда Андрей, кое-чего, однако, не замечавший. Например, что далеко не сразу разобрался Пряхин в революционных лозунгах различных партий. Наверно, этому мешало само его положение человека хотя и рабочего, но с организованным пролетариатом непосредственно не связанного. К большевикам он примкнул только на фронте, окончательно разочаровавшись в оборончестве. Но, когда примкнул, сразу завоевал авторитет решительностью и смелостью. В подполье он был человек незаменимый, с ним считались, слово его звучало веско. Потому именно к Пряхину обратился Наум:
– Максим! Мы тут присматриваемся к одному пареньку; правда, он из гимназистов, но к нам тянется всерьез.
– Гимназист? – переспросил Пряхин неодобрительно.
Наум улыбнулся.
– Между прочим, он на тебя ссылается. Его фамилия Шумов.
– Андрей? – сразу сменил тон Максим.
– Да, Андрей Шумов.
– Этот не подведет.
Сказал, как резолюцию наложил.
Подписано. Точка.
Так «ввел» он Андрея в революцию, и мог ли тот думать, что перекинется вдруг мостик через непроходимую пропасть, разделявшую тогда двух ни в чем не похожих людей, отца и Максима, и даже слова похожие прозвучат: Максимовы о «буржуйских лавках» с отцовскими о «торжествующем буржуа», которому прокладывают путь идеалисты, перекликнутся…
Но все-таки слова есть только слова, а были же и дела…
Вспомнилось…
Девятнадцатый. Дягилев провалил многих. Решили расправы над товарищами не допустить, вызволить до суда, приговор которого был предрешен.
Содержались арестованные в здании бывшего полицейского участка, где при царе еще довелось побывать Максиму – был задержан по подозрению, – и он хорошо запомнил внутреннее расположение.
Нанося мягким толстым карандашом, которым обычно пользуются плотники, широкие линии на большой бумажный лист, Максим пояснял:
– Кордегардия вот здесь. Это выход во двор, куда арестантов на прогулку выводят. Стена, понятно, капитальная.
– Ворота обиты листовым железом, – заметил Наум.
– Точно. Но отворяются.
– Сезам, отворись?
О Сезаме Максим не слыхал, но сказал твердо:
– Обойдемся без Сезама. Раз в неделю они штыб во двор завозят, арестованных выгоняют разгружать, засыпать в котельную.
Наум сразу понял.
– Это заслуживает внимания.
Обсуждали, однако, долго. Все согласились, что успех зависит от того, удастся ли развернуть подводу так, чтобы охрана не смогла закрыть ворота. Иначе – ловушка во дворе.
– Это я беру на себя, – предложил Максим безапелляционно.
Приняли без возражений.
Была еще одна деталь.
Требовалось вовремя дать знать заключенным товарищам, что все идет по плану. Сам план предполагалось передать в тюрьму заблаговременно. Задумано было так. Первая подвода въезжает во двор, а вторая задерживается, пока не выведут арестованных, и только тогда появляется. Возчик – Максим. Он блокирует ворота, заключенные нападают на охрану, с улицы врывается боевая группа. Но люди во дворе должны знать, что за стеной все идет по плану.
– Они должны получить сигнал, подтверждающий нашу готовность, – сказал Наум.
– Шарик запустим, – откликнулся Максим, как о давно решенном.
– Какой шарик?
– Обыкновенный. Надувной. Их на Соборной продают сколько хочешь.
– Ну, и что?
– Просто. – Пряхин кивнул в сторону Шумова: – Вот он с барышней и с шариком будет по улице прогуливаться. Когда увидит нас с подводами – значит, порядок, не перехватили. Шарик выпустит, он над стеной подымется. Со двора хорошо видно.
Наум засомневался.
– Не легкомысленно ли?
– Проверено.
– Кем?
– Революционерами, – ушел от прямого ответа Пряхин.
Наум почесал переносицу.
– Мне кажется, я где-то читал такое.
– У Кропоткина, – подсказал Шумов. – В воспоминаниях. Он там свой побег описал.
– Ну, а если и Кропоткин? Анархист, скажете? – набычился Максим.
– При чем тут анархизм? Это же не идейные разногласия…
– Вот именно. Он вообще старик башковитый. И о справедливости хорошо писал.
Пряхин был доволен. И за себя, и за Кропоткина…
День этот Шумову запомнился. Говоря откровенно, он очень волновался, боялся за успех, когда с подчеркнуто небрежным видом дожидался на улице, держа за ниточку ужасно нелепый шарик. Все время казалось, что шарик не взлетит или, того хуже, порыв ветра подхватит и унесет его в другую сторону…
Но вот по булыжнику застучали неторопливо копыта лошадей-тяжеловозов. Максим с вожжами в руке шел рядом, весь в угольной пыли, скрывавшей лицо черной маской. Светлым глазом он подмигнул. Андрею, не поворачивая головы.
Шумов разжал влажные пальцы, и маленький аэростат послушно поплыл вверх, поднялся над стеной. Ветерок гнал его туда, куда и было нужно, в сторону двора.
Потом была короткая схватка. Во всеобщей суматохе один Пряхин, казалось, совершенно спокойно держал под уздцы взволновавшихся лошадей с «застрявшей» в воротах подводой.
– Ах ты, мать твою… – орал в бешенстве офицер-охранник, размахивая наганом перед носом Максима. – Сдай назад! Убью подлеца.
– Вы ж видите, ваше благородие… Коней еле держу, испуг у них от пальбы.
– Сволочь!
– Виноват.
– Освободи ворота!
И он выстрелил в ярости. Но не в Максима, а в воздух. И Пряхин воспользовался выстрелом, дернул поводья так, что лошади сделали рывок в сторону и подвода опрокинулась, окончательно перекрыв подворотню, которую уже миновали бежавшие товарищи. Рывком перескочив кучу с рассыпавшимся мелким углем, Максим бросился за ними следом. Теперь уже офицер выстрелил в него, но промахнулся…
Потом уже Андрей узнал, что у самого Пряхина никакого оружия не было.
– Вот вам и князь Кропоткин, – говорил Максим, смеясь и намыливая черно-серое лицо, отфыркиваясь сквозь темную пену.
Шутил. А анархическое что-то в душе всегда жило.
Но главное-то было революционным…
– Было, – словно нехотя подтверждая, произнес Пряхин.
Прозвучало, как ответ на мысли Шумова.
– Что? – переспросил тот.
– Ты сказал, что я тебя в революцию ввел, – напомнил Максим. – А я говорю: было…
– Говоришь так, будто сожалеешь… – Он хотел добавить: «о революционном прошлом», но не решился, потому что все еще надеялся переубедить Максима.
– Почему сожалею? Ты парень честный, служи.
– А ты?
– Я не буду.
– Не понимаю.
– Чего тут непонятного?.. Ты там на месте. Не обижайся, Андрей, ты, конечно, и башковитый, и учился поболе моего, и читал книжек много, а все же ты меня поуже.
– В каком смысле?
– Ну, как тебе сказать… Не глупей, не глупей, а уже. Ты службой живешь, программой, уставом, приказом. А я перед совестью в ответе.
– Спасибо.
– Да ты не лезь в бутылку. Что я могу поделать, если я за всю жизнь болею.
– Я тоже. За новую.
– Вот-вот… И я не за старую. Только я так понимаю, что жизнь совсем новая никогда не бывает. Вот если бы все старые люди в один день пропали бы, испарились куда, а взамен совсем другие возникли, тогда б и жизнь была новая. А так она объявлена новая, а на самом деле середина-наполовину.
– Что же тут удивительного? Процесс закономерный – новое возникает в недрах старого, но оно растет, расширяется. Сегодня его меньше, чем завтра, но завтра-то больше будет! Вспомни, сколько в партии людей было перед Октябрем. А сейчас?
– Сейчас, если поштучно пересчитать, то, конечно, больше. Но все ли они новые? Вот в чем вопрос, друг ты мой ситцевый!
– Путаник ты, Максим.
Неожиданно тот согласился:
– А то как же? Вы узлы, как Александр Македонский, шашками рубите, а я распутать пытаюсь. Своим умом дойти. А ум чем проверишь? Одной совестью.
Шумов попросил тихо, повторил:
– Забери заявление, Максим. Не ставь свою совесть выше партийной.
– Против партии я не иду.
Он тоже ответил тихо и замолчал, задумался, глядя на медленно таявшую свечу.
Шумов обрадовался. Ему показалось, что разговор налаживается, и он решил еще больше смягчить остроту.
– Я сегодня видел Техника.
– Значит, на него нацелился?
– Мешает он людям жить.
– Доверие проявляешь?
Андрей ощутил холодок.
– Зачем ты так? Не о секретах речь. Я хотел спросить о твоей сестре.
– Она-то при чем?
– С Техником был один мой старый знакомый. Я помню, он был влюблен в вашу Таню.
– Муравьев?
– Да.
– Неужели он в банде?
– Нет. Но может оказаться. А что, между ними еще не все порвано?
– Ребенок у нее.
– Ребенок?..
– Был, – поправился Максим быстро. – Умер. А как они сейчас, не знаю.
– Узнай. Этот Муравьев может глупостей наделать.
– Вот за это спасибо. Он недавно из плена вернулся, я слышал. Простила его Советская власть. Но как волка ни корми, а он все в лес смотрит. А ты про новое толкуешь!
– Я о процессе говорю.
– А я о людях. Помнишь, Андрей, я тебе рассказывал, как родственничек мой родной меня в зимней степи разул? Когда меня в город в ученье направили. Помнишь?
– Помню.
– Жив и здоров. И не советский, не кадетский. Как ты из него нового человека делать будешь, а?
– Таких всегда приструнить можно.
– Приструнить! А башку переделать можно? Черта лысого! – крикнул Максим, – Встретились мы с ним днями, так знаешь, что он мне сказал? С усмешечкой. Ты, говорит, и до революции с фуганком да рубанком, и сейчас. Что же тебе эта революция дала?
– Выпад контрреволюционный.
– Что выпад? У него три сынка, между прочим. Все яблочки от яблони. И их приструнишь?
– Если необходимо…
– Будь уверен. Только сколько же нашей чеке существовать придется, пока всех паразитов приструнишь?
– Вот именно! А ты уходишь.
– Ухожу. Потому что считаю: процесс процессом, но, если сорняк вскармливать, никакой процесс не поможет.
– Кто вскармливает? Кого?
– Нэпмана.
– Ну, уж позволь. Мы нэпмана не вскармливаем. Мы его заставим народ кормить.
– Сами не можем?
– Сможем., Но люди устали от нужды, хотят жить лучше.
– Слышал. И думал. И думаю об этом день и ночь. Что это значит – жить лучше?
– Это понятно.
– Тебе понятно, а мне нет. Лучше, чем кто, жить?
– Лучше, чем сейчас живем. При чем тут «кто»?
– Связь прямая. На словах только гладко. А на деле я буду лучше, чем ты, а третий лучше, чем мы оба. Вот куда ваша новая политика приведет. Чего в ней только нового, вот что я никак понять не могу.
– Это тоже выпад. Левацкий. По-твоему, уравниловка нужна?
– Совесть нужна. Осознать нужно, что не имуществом человек жив. Что значит улучшение обещать? К животному инстинкту обращаемся, а не к сознательности. Потерпите, мол, скоро лучше будет, потом еще лучше. А до каких пор? Ведь дальше такого улучшения захочется, – что хоть кишки вон, а улучши!
– Максим, это словесная эквилибристика.
– Что?
– Ты за деревьями леса не видишь.
– Нет! Я в корень смотрю. У меня, когда тот дядька раздевал, что в голове было? Обида, злость. Личная. По-ребячьи, понятно, рассуждал. А нужно было перед фактом устрашиться. Как же это родственник безвинного мальчишку-бедняка последнего достояния лишает? Ведь он любого капиталиста хуже, который чужих людей обездоливает. И люди те не на глазах, а бухгалтерия, прибавочная стоимость… А тут живой пацан, родня! Что ж у него в душе там? На что же это человек способен?
– Какая тут связь с новой экономической политикой?
– Не видишь?
– Не вижу. А ты что видишь?
– Микроба. Не у одних буржуев душа заражена. Микроб этот вездесущий. И с Врангелем за моря не отбыл. Тут остался, и мы его теперь сами разводим. Жадность и зависть – вот что ваш нэп означает. Одни обогащаться будут, другие им завидовать. И не говори, что мера эта временная. Это пример. Пример того, что и при социализме люди могут по-разному жить. Не с такого новую жизнь начинать нужно.
– Со всеобщей бедности?
– Не передергивай. Не за бедность мы с тобой в гражданскую боролись. Но что вообще человеку нужно? Крыша над головой, рубаха чистая, штаны нелатаные, ну и чтоб сыт был, конечно. Хлеба дай. Больше двух фунтов не съест. Мяса дай. Фунта хватит. Картошки, капусты, рыбы… Чтоб ел по-человечески, а не чревоугодничал в ресторане. Или вы сами туда хотите? Где пожирнее да повкуснее?
– Да ты не отвечаешь за свои слова!
– Отвечаю. И написал все в заявлении. Подписывайте и точка!
– Опомнись, Максим! Это непоправимая ошибка. Ты ничего не понял в нэпе. Я тебе как товарищ. Я же друг твой.
– Буржуи недорезанные друзья вам теперь.
– Замолчи! За такие слова…
– Что? В чека? Пролетария в чека, а буржуя в магазин?
– Бланкист!
– Термидорианцы!..
Вот такой тяжкий получился, а точнее, не получился разговор, и каждый остался в своей правоте, и будто забылось, как недавно совсем рядом шли на смерть за общее дело, и сорвались горячие слова «бланкист!», «термидорианцы!», которые в то бурное время звучали сильнее и страшнее многих других, придуманных, чтобы оскорбить человека.
А потом много лет не было у обоих ни потребности, ни возможности ни говорить, ни спорить. И только через два десятилетия свела их и расставила все по местам Великая война за Отечество…
* * *
Последнее время Самойлович, тот самый нэпман, который в кабинете Наума Миндлина старался втолковать, что новой власти стоило бы поучиться отношению с торговцами у царского градоначальника, был не в духе. Его заметно обеспокоила осведомленность Наума о финансовых махинациях, и страшила возможность налоговых санкций в то время, как торговля шла вяло. Думая о Миндлине и очень ясно высказанных им предостережениях, Самойлович говорил, привалившись животом к прилавку, единственному покупателю, детскому врачу Гросману:
– Вот вы, Юлий Борисович, ученый человек. Вы учились в Европе. Так вы мне скажите, не много ли власти забрали сейчас евреи?
Гросман не любил вопросов, поставленных в такой прямолинейной форме. Вопрос даже попахивал провокацией, и, если бы доктор не знал Самойловича много лет, он просто уклонился бы от ответа. Но на этот раз он только улыбнулся слегка и сказал осторожно:
– А вы так считаете?
– Я так считаю, а они тем временем считают мои деньги.
– Что поделаешь! Государству всегда нужны деньги. Как и частным лицам, между прочим.
– Тут я с вами согласен. Я даже думаю, что и Ротшильду вечно не хватает. Но у Ротшильда свои заботы, а у меня свои. Я могу вылететь в трубу. И все потому, что политики не понимают смысла коммерции. Ну, хорошо, пусть это будет граф или князь. Но у нас уже нету графов! А что мы имеем? Я сам читал в журнале – при белых, конечно, – что Троцкий в наступлении бросал красноармейцам золотые часы! Вы можете себе представить! Вы слышали такое?








