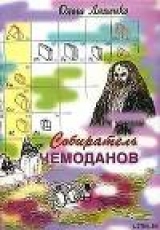
Текст книги "Собиратель чемоданов"
Автор книги: Ольга Ляшенко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
– Я хотел бы задать вопрос только что выступившему гражданину Справкину, – сказал он.
– Пожалуйста, – разрешил судья.
– Скажите, все эти люди, о которых вы только что говорили, и теперь продолжают у вас наблюдаться? – спросил адвокат.
– Фактически нет. Они давно уже у меня не показывались. Подпав под влияние Подкладкина, мои бывшие пациенты возомнили себя здоровыми, забросили лечение, не принимают препаратов и не являются ко мне на прием, даже по вызову. Поэтому я снимаю с себя всякую ответственность за возможное ухудшение их состояния, и уж тем более за все, что они здесь говорят.
– А вы не сожалеете о том, что ваши бывшие пациенты перестали у вас наблюдаться?
– Как же я могу не сожалеть? Я – врач! – с пафосом произнес доктор Справкин. – Конечно, я сожалею!
– Спасибо! – молодой адвокат был вполне удовлетворен ответом. – Итак, суд слышал откровенные и недвусмысленные ответы врача на мои простые вопросы. Из этих ответов вырисовывается ясная картина: в результате общения с Учителем Сатьявадой бывшие пациенты доктора Справкина почувствовали себя хорошо, жалобы на здоровье у них прекратились. Вследствие этого доктор потерял значительную часть своей практики, о чем, естественно, сожалеет. Иными словами, доктор Справкин является заинтересованным лицом в этом процессе, поэтому его показания, в том числе о том, что половина наших саман – сумасшедшие, не имеют доказательственной силы.
– Не половина, а все поголовно! – закричал взбешенный психиатр. – Я могу представить доказательства!
– Какие доказательства? – язвительно осведомился адвокат. – Ваши справки, которые вы здесь же, прямо при нас и напишете, для верности скрепив своей личной печатью?
– Протестую, – сказал судья. – Доктор Справкин – авторитетный специалист, он не раз привлекался судом в качестве эксперта в самых сложных делах. Его справки действительны независимо от того, где и при каких обстоятельствах они выданы.
– Ладно, последний вопрос снимаю, – согласился адвокат. – Но отвод свидетеля остается в силе.
Коллекционер последнее время редко появлялся на заседаниях. Как правило, он забегал ненадолго после работы – приносил продукты, перебрасывался двумя-тремя фразами со своим адвокатом, и, в очередной раз услышав, что частные иски пока не рассматривали, исчезал до следующего вечера.
Поэтому часы между заседаниями юный Чемодаса проводил у соседей.
Упендра быстро утратил интерес к процессу. То единственное заседание, на которое он опрометчиво согласился тогда пойти, быстро нагнало на него тоску, пробудив тягостные воспоминания. А после того, как выпущенный на поруки Чемодаса, даже не глянув в их с Коллекционером сторону, выбежал из-за барьера и тут же растворился в толпе окруживших его сатьянистов, он и вовсе отказался присутствовать.
– Послушай, у тебя нет ощущения, что мы здесь сидим как два олуха? – сказал он Коллекционеру, с трудом сдерживая раздражение. – Все, о чем нас просили, мы, кажется, выполнили. А оставаться и слушать эту ахинею, по-моему, просто глупо. Лично я сыт по горло. Впрочем, если хочешь убить время, можешь еще посидеть, ты человек свободный. А меня дома ждут. Так что я пойду. Ты уж извини.
«А ведь и меня ждут!» – спохватился Коллекционер.
И, простившись с Маргаритой Илларионовной, они ушли, прихватив с собой и Чемодасу-младшего. Коллекционер проводил их до соседней комнаты и отправился по своим делам.
С тех пор начинающий адвокат так и прижился у Упендры. Просыпался он рано, наскоро вместе с Мариной пил чай и уезжал на заседание. А возвращался к ужину. Иногда его подбрасывал Коллекционер. Но случалось и так, что Коллекционер сильно спешил и не предлагал подбросить. Тогда Чемодаса добирался самостоятельно: стоял в длинной очереди к лифту, потом с несколькими пересадками ехал на авто. Но как бы поздно он ни прибывал, его ждали. Специально для него разогревался ужин. Марина спрашивала, что новенького в суде, скоро ли конец заседаниям и когда объявят приговор. Упендра при этом, если бывал со сна не в духе, брезгливо морщился, показывая всем своим видом, что новости из суда его не интересуют. Если же был в хорошем настроении, то просто смеялся:
– Как ты наивна! Сразу видно, что ни разу не судилась.
Говорили в основном на темы, касающиеся Поверхности и засиживались, как правило, до утра. Вместе мечтали о том, как было бы здорово здесь все переустроить. Но чаще всего спорили. Чемодаса доказывал, что начать нужно с усовершенствования законодательства, а Упендра больше надеялся на практическую политику.
– Раньше я был идеалистом и свято верил, что искусство способно изменить мир. Я теперь стал прагматиком, верю только в практическую политику, – повторял он. И приводил веские аргументы, с которыми трудно было не согласиться. Но Чемодаса, души не чая в своем новом старшем товарище, все-таки не соглашался, ибо как он мог согласиться, когда словопрения были его родной стихией. Нервно теребя повязку на шее и превозмогая першение и боль в горле, он вскакивал и, расхаживая по столу широкими шагами, горячо возражал осипшим и срывающимся, как у молодого петушка, голосом:
– Это – смотря какое искусство. Если взять, к примеру, цирк, или, там, оригами, то тогда конечно! А если взять правосудие…
– Правосудие – это то же оригами, ничем не лучше, – прихлебывая чай, отвечал Упендра. – Все зависит от возраста. В твоем возрасте я и сам питал иллюзии…
– При чем здесь возраст! – горячился задетый за живое Чемодаса. – Мы же не о возрасте говорим, а о правосудии! Как можно все ставить на одну доску? Правосудие – искусство особое! Да оно и вообще не искусство. Оно как бы на стыке. Между искусством и политикой…
– Согласен, именно на стыке, – иронически замечал Упендра. – Это ты удачно сказал. То есть ни туда, ни сюда.
Он нарочно подзадоривал своего оппонента. Так радостно было ему слушать его сумбурные, юношески самонадеянные речи, так легко и блаженно становилось на сердце, что нет-нет да и пробирала тревога (отчего и бывал он временами не в духе): то ли это, еще когда обетованное, выстраданное и заслуженное, или опять не то, а вдруг возьмет да и рассеется как дым, и снова – долгие годы неприкаянности? Не верилось, что и он наконец вознагражден за всю свою многотрудную и горькую жизнь, за свои уже полузабытые мечты. «Вот оно – о чем и просить перестал, и даже сверх того, уже в избыток. Неужели так теперь и будет, и не отнимется? Верная жена, будущий сын, необозримое поле деятельности – чего еще желать? Так вот ведь, еще и это в придачу, как дополнительный подарок: пока ожидаем сына, а тут рядом – это юное, чистое существо. Как бы в предуготовление. Такой свежий, искренний, открытый, и так похож на меня, тогдашнего, почти как сын. Господи, только бы не отнялось!»
Первое время его еще мучили опасения на счет Марины: как-то она посмотрит на Чемодасу: А вдруг запретит, скажет: сколько можно, посторонний человек в доме, у нас, как-никак, семья – и придется смириться, она – хозяйка.[168]168
Упендра называет Марину хозяйкой не потому, что живет в ее комнате, а по чемоданному обычаю: в Чемоданах хозяйкой дома всегда считается жена, независимо от того, кто из супругов формально является его владельцем. Поэтому в домашних вопросах воля женщины непререкаема. – сост.
[Закрыть] Но и Марина полюбила Чемодасу: специально для него раздобыла малины к чаю, с материнской заботой поправляла ему повязку, даже как-то раз попыталась наложить водочный компресс, но он не дался. И мало-помалу Упендра начал привыкать к своему счастью, начал верить, что, авось, и не отнимется.
Что же до того, старого Чемодасы, то о нем и вспоминать было тошно. Даже как-то стыдно становилось и пакостно на душе, когда заходила о нем речь.
– И как это я, столько времени его выдерживая, сам не тронулся умом? – удивлялся Упендра. – У меня сейчас, как вспомню об этом кошмаре, такое ощущение, что я и сам, находясь постоянно с ним, становился каким-то двумерным, плоским. И при этом – обратите внимание, какое самомнение! Какую бы только чушь ни нес – всегда таким тоном, как будто это истина в последней инстанции. С ним говорить невозможно! Он – как будто в другом измерении и тебя не слышит, а вещает свое, как радиоприемник. Ты заметила?
– Конечно, заметила! Еще когда он у меня поселился. И если бы только говорил, а он ведь делает – вот что срашно! Ни с кем не советуется, только распоряжения отдает, а попробуй не выполнить – запилит. За те несчастные два дня, пока ты не появился, он здесь все вверх дном перевернул. Я просто отчаялась. Думала, в Чемоданах все такие, пока тебя не узнала.
– Бедняжка! – растроганно сказал Упендра. – Ну, ничего. Теперь все позади. Забудь об этом, тебе сейчас вредно волноваться.
В это время снизу раздался шорох и характерный тихий стучок подъехавшего автомобиля. Все трое взрогнули и настороженно переглянулись.
– Интересно, кто бы это мог быть? – безразличным тоном произнес Упендра, хотя уже всем было ясно, кто. Но он продолжал играть роль, неизвестно зачем, наверное, чтобы хоть на минуту продлить счастливое неведение. – Ты никого не приглашал?
– Кажется, нет. Не помню, – подыгрывая ему, ответил Чемодаса-младший.
Марина молча закусила губу и встала за третьим прибором.[169]169
По-видимому, прибор Марины здесь в счет не идет, речь идет о специальных приборах, соответствующего размера. – сост.
[Закрыть]
Ганеша-сейтайши выглядел встревоженным. С Упендрой и Чемодасой едва поздоровался, а к Марине сразу обратился с отрывистой речью:
– Я к тебе. Надо срочно позвонить Стасу. Я знаю, он вам оставил свой телефон.
– Ну так что же, что оставил! Во-первых, он не мне его оставил, а своему адвокату, на самый крайний случай.
– Неважно! Это и есть самый крайний. Мне надо с ним поговорить. Узнай номер и звони.
– Не стану я туда звонить, – заупрямилась Марина. – Вот еще! Очень нужно!
– Действительно, что за новости? – вмешался Упендра, – С какой это стати она станет названивать своему бывшему супругу? Тем более, что у него теперь своя жизнь. Да в конце концов, я ей этого не позволю!
– Да! – гордо сказала Марина.
– Да кто ее просит с ним разговаривать? – теряя терпение, закричал Ганеша. – Пусть только трубку снимет и номер наберет, я сам поговорю. Дело срочное, нам всем грозит опасность!
– Кому это – вам? – язвительно спросила Марина. – Тебе и остальным бандитам? Небось, уже приговор зачитали? Ищете, куда бы смыться?
– Дура! Звони! – выйдя из себя, заорал Ганеша.
– А-а-а! Подонок! Дегенерат! Убийца! – не своим голосом закричал Упендра и, вскочив на ноги, с побелевшим от ярости, опрокинутым и от этого еще более страшным лицом, кинулся к нему.
Марина с Чемодасой едва успели его схватить и вдвоем, с немалыми усилиями, оттащили от Ганеши. Он продолжал рваться из рук и кричать:
– Как ты посмел, ничтожество! Я тебя растопчу!
– Тише, тише! – примирительно сказал урожденный Чемодаса. – Сейчас не до разборок, кто ничтожество, а кто дегенерат. Это мы потом разберемся. А сейчас надо действовать, иначе всем крышка. Староверы задумали все взорвать.
– Как взорвать?.. Что взорвать?.. – хором переспросили все трое.
– Чемоданы. Вместе с Надстройкой. Пока мы тут с вами рассуждаем, они там взрывчатые вещества свозят на центральную площадь. Из всех сараев. Уже наполовину свезли.
– Да это же… Да отпустите меня наконец! – Упендра нетерпеливо задергал плечами. Его отпустили, и он встал на руки. – Вы представляете себе, сколько это в тротиловом эквиваленте?
Молодой Чемодаса только присвистнул. Марина побледнела и взялась за телефонную трубку.
– Вот и я о том же! – взволнованно заговорил Чемодаса-старший. – Там не только на всю квартиру хватит, а и от дома мало что останется! Надо срочно что-то делать! Звони скорее Стяжаеву, пускай он немедленно приезжает и вывозит свою коллекцию. Куда хочет, хоть на свалку. А то ишь, умник! Наколлекционировал! Сам съехал, а мы тут расхлебывай.
– Что значит на свалку! – возмущенно сказала Марина. – А те, кто внутри – пускай погибают? Там же две тысячи народу. И дети.
– Ну, во-первых, уже не две тысячи, а меньше, – сказал Ганеша. – А во-вторых, у этих людей очень плохая карма. Я для них сделал все что мог. А ты что предлагаешь?
– Ну, не знаю… – сказала Марина. – По-моему, уж лучше самим уйти. И предупредить соседей, чтобы эвакуировались… Не знаю… Как звонить?
Чемодаса-младший назвал номер. Марина стала судорожно набирать, дважды от волнения сбилась, и начала в третий раз.
– Постой! – остановил ее Упендра. – Позвонить мы еще успеем, а лучше сделаем-ка пока вот что. Там, в той комнате, за дверью, стоит чемоданчик, небольшой такой, в полотняном чехле.
– Помню. Из коллекции.
– Твоя задача – взять его, осторожно подойти к Чемоданам и приставить его к ним вплотную, так, чтобы не было никаких зазоров, и площадь соприкосновения была как можно больше. Будем надеяться, что сработает переселенческий инстинкт.
– А чехол снять? – спросила Марина.
– Да, желательно. Иначе инстинкт может не сработать… А, ч-черт! – вдруг вскрикнул Упендра, с досадой хлопнув себя по лбу. – Там ведь еще эта «надстройка»! М-м-м! – он замычал, как от зубной боли, и бросил на Чемодасу-старшего взгляд, полный презрения. – Архитектор хренов! Руки бы поотбивать! Нет, одна ты не пойдешь.
Быстро, как десантник, он влез в «серьгу». Марина наклонила голову, щелкнуло ушное крепление. Упендра махнул рукой.
– Поехали!
– Может, и мне с вами? – предложил Чемодаса-старший. – Я бы помог.
– Сиди уж, «помощник», – сказала Марина. – Ты свое дело сделал.
– Да! Он пойдет с нами, – властно приказал Упендра. – Даже нет! Ты пойдешь первым и разберешь свой Версаль. А мы – за тобой.
«С какой стати, – подумал он, – я должен из-за этого ублюдка рисковать жизнью своей жены и своего будущего ребенка?»
– Всего можешь не разбирать, достаточно с одной стороны. Только смотри там, аккуратно, без детонации! – строго предупредил он. – И безо всякий своих импровизаций. А то я тебя знаю.
– Да что я, не понимаю, что ли? – обиженно сказал Чемодаса. – Если бы я не понимал, разве бы я к вам пришел?
Но Упендру было трудно обмануть. Он ясно чувствовал, что Чемодаса что-то замыслил. А он и вправду замыслил, и тоже ясно видел, что Упендра это чувствует. Поэтому решил признаться, хотя бы наполовину, чтобы усыпить подозрения.
– Я вот что думаю, – сказал он. – Я, наверное, одну сторону зачищу, а сам пройду внутрь и там прослежу, чтобы все было путем. Во-первых, посмотрю, на каком там у них этапе все это дело. Может так случиться, что уже поздно что-то предпринимать. Вдруг там уже все сложено, осталось только спичкой чиркнуть. Так какой смысл вам жизнью рисковать? Я тогда стукну: мол, все, хана, бегите! И вы, может, успеете эвакуироваться. А если еще не хана, то тоже не мешает поприсутствовать. Проследить за переселением, и главное – чтобы они врывчатку организованно разобрали и унесли с собой. Или разложили обратно по сараям. В крайнем случае, если упрутся, сам потихоньку растаскаю. А то ведь что получится: их-то мы спасем, а сами останемся, как на бочке с порохом.
«Что ж. Это разумно», – подумал Упендра и согласился.
На самом деле у Чемодасы-Ганеши была еще одна, заветная мысль. Ведь он не зря ходил в Чемоданы. Он выполнял там Бхакти, причем не простое Бхакти, а такое, которое мог выполнить только он, и никто кроме него. За исключеним, разве что, Упендры. Но этот, как один из врагов и гонителей Истины, был не в счет. Пока не в счет. Конечно, с ним стоило бы поработать, попытаться привести его к Истине. То, что у него явно отрицательная кармическая связь, еще ничего не значит. Вернее, это как раз-таки довольно много значит. Во всяком случае, это лучше, чем отсутствие всякой связи. Не исключено, что в одной из будущих жизней отрицательная связь перейдет в положительную. Но сейчас было бы в высшей степени неразумно ради одного упрямого барана, который сознательно противится Истине, оставлять без помощи тысячи душ, заслуживающих Спасения.
Когда на суде решено было отпустить Ганешу на поруки, он спросил у Учителя, не хочет ли тот передать что-нибудь на волю, саманам. И Учитель, после недолгой медитации, сказал:
– Подумайте о тех, кто остался. Сейчас внутри намного хуже, чем снаружи. Вот кто нуждается в спасении в первую очередь, – и вошел в Самадхи.
Выйдя на свободу, Ганеша-сейтайши сразу же собрал Сангху и передал наказ.
Никому не хотелось идти в Чемоданы. Каждый считал, что его место – здесь, рядом с Гуру, на суде, где решается судьба Корпорации. В конце-концов нашелся один доброволец, который согласился пропустить одно заседание, тем более, что он только накануне блестяще выступил в защиту Истины. Его снабдили пачкой листовок и стопкой самых популярных брошюр, где на простейших примерах разъяснялось учение Истины, и проводили, не ожидая ничего худого. А на другой день нашли лежащим в луже крови, без сознания, в коридоре Надстройки, возле одного из выходов. Кровь хлестала изо рта, ноздрей и ушей. Его пытались реанимировать, но тщетно. Он скончался, не приходя в сознание. Вскрытие показало, что смерть наступила от обширного кровоизлияния в мозг.
На следующий день в Чемоданы отправилось уже трое миссионеров. Но и с ними произошло примерно то же. Двоим удалось выползти. Один из них, не приходя в сознание, скончался на реанимационном столе, другой чудом выжил, но также не приходя в сознание, и с тех пор пребывал в состоянии, внешне напоминающем Нирви-Кальпа-Самадхи. Третий навсегда остался в Чемоданах.
Обобщив эти факты, медики Корпорации выдвинули гипотезу о существовании прямой связи между инсультами у бывших чемоданных жителей и посещением Чемоданов.
После этого от добровольцев, желающих на себе проверить эту гипотезу, не стало отбоя. Однако Макиавелли-ши, пользуясь полномочиями главы политдепортамента, в административном порядке запретил эти эксперименты.
– Я полагаю, что сейчас для нас главное – это сохранить Сангху и отсудить Учителя, – объяснил он свое решение. – А остальное приложится.
– Что значит отсудить? – «удивленно» спросил Ананда-сейтайши.
– То и значит. Отсудить – значит отсудить, – охотно пояснил Макиавелли-ши. – Чтобы, значит, отпустили его, живого и невредимого. Ничего! Бог даст, отсудим. А когда Учитель будет с нами, то и все остальное приложится. Что ж тут непонятного?
– Бог даст? – снова «удивился» Ананда-сейтайши. – Какой бог?
– Что значит какой? Бог – он и есть Бог, как его ни назови. Ну, допустим, Господь Шива. Он ведь нашему Учителю знаете, кем приходится? Значит, должен помочь.
Ананда-сейтайши уже не мог сдержать улыбки.
– Так вы полагаете, уважаемый Макиавелли-ши, что необходимо, как вы выражаетесь, «отсудить» Гуру, не гнушаясь никакими средствами? Даже в ущерб Истине?
– Какой же может быть ущерб Истине от Учителя? – уже сурово сказал Макиавелли, догадавшись, что молодежь над ним попросту подшучивает. – Истина – она и есть Истина. Ей ущерба не будет. Тем более, вы сами когда-то говорили, разве не помните: не надо, дескать, трех слов. Еще до того, как к нам пришли.
Ананда-сейтайши смешался. Но немного погодя все-таки спросил, как бы ни к кому не обращаясь и глядя в сторону:
– Так значит, наказ Гуру выполнять уже не будем?
– Наказ есть наказ, – сказал Макиавелли-ши. – И выполнять его мы, конечно, будем. Только вот каким образом его выполнить, чтобы не растерять половину Сангхи – это надо сначала обмозговать.
– А тут и мозговать нечего, – вмешался Ганеша-Сейтайши. – Я могу ходить в Чемоданы.
Макиавелли-ши нахмурился. Чемодасе всегда казалось, что старик его за что-то недолюбливает. «Вероятно, ревнует, – думал он. – Ведь раньше он был правой рукой Учителя, а теперь – я. Понятно, завидует».
– Мысль хорошая, – сказал наконец Макиавелли-ши, стараясь не встречаться глазами с Ганешей-сейтайше. – Но спешить не будем. Пусть вас сначала врачи осмотрят и скажут, можно вам туда идти или нельзя.
Собрали консилиум. Внимательно осмотрев Ганешу-сейтайши, врачи пришли к заключению, что инсульт ему не грозит.
И он стал регулярно ходить в Чемоданы, сделав это своим Бхакти.
Лучше бы он взялся мыть котлы и варить рыбную похлебку на всю Сангху!
Поистине, у этих людей была очень дурная карма. Хуже просто некуда. Об этом свидетельствовали все обстоятельства их жизни. «Если они уже сейчас так мучатся, то каково им будет после смерти!» – с содроганием думал Ганеша.
И вправду, их жизнь мало чем отличалась от ада. Химическая промышленность была разрушена уже заранее, поэтому запасы воды и продовольствия катастрофически иссякали. Электричества не было, транспорт стоял, школы и больницы не работали, здания ветшали на глазах, одежда превратилась в рубище. Сам воздух, затхлый и ядовитый, казалось, был пропитан смертью. Да и люди больше напоминали мертвецов, чем живых. Исхудавшие до полной нераспознаваемости, с одинаково изможденными, землистыми лицами и одинаково ко всему безучастные, они безмолвно двигались по улицам, и только глаза их, глубоко запавшие в темных ямах глазниц, нестерпимо ярко светились – но не светом жизни, а огнем безумия.
Те, кто мог переваривать зелень, целыми днями бродили по Чемоданам, подбирая последние остатки чахлой растительности – без удобрений и полива она уже почти сошла на нет. Этим, можно сказать, еще посчастливилось: они не так жестоко голодали, хотя и страдали от жажды. Среди прочих уже были случаи голодной смерти.
Но что больше всего удручало Ганешу в староверах – так это их полная невосприимчивость к Истине. Все его попытки растолковать им Закон оканчивались – хорошо бы еще, ничем! Или если бы его просто побили, пусть бы даже жестоко. Нет, они ему даже не возражали, но смотрели своими безумными глазами так, словно прану из него высасывали. А вместе с праной и душа уходила.
Вообще-то, когда душа выходит из тела, это хорошо, так говорил Учитель. Но здесь было что-то совсем отличное, возможно, даже и не связанное с мистическими силами. Начать хотя бы с того, что Бодхисаттва должен любить тех, кого спасает, а этих, за их глаза-присоски, Ганеша уже определенно ненавидел. Каждый раз, жертвуя им Учение, он ловил себя на мысли: «Что ж это они со мной, сволочи делают? Просто душу вынимают!»
Он совершенно не понимал, что с ним творится, предположил даже дьявольское состояние. А посоветоваться было не с кем: вернуться на скамью, к Учителю он не мог: в суде о нем уже справлялись и запросто могли задержать. А с другими Достигшими откровенничать не хотелось: «Этому Ананде только попадись на язычок, рад не будешь. Старик тоже себе на уме. Да и слабоват он в учении, и достижений у него маловато. Обычный функционер, просто честный и добросоветный. По крайней мере, Учитель его за что-то ценит, а Учителю виднее». Однажды Ганеша-сейтайши случайно услышал, как Ананда-сейтайши, за глаза потешаясь над главой политдепортамента, говорил своим приятелям-Достигшим: «У старика Макиавелли только одна сверхъестественная способность, но зато доведенная до высшей степени совершенства. Это божественное чтение чужих писем. За эту сверхспособность он и получил свое – ши».
«Ничего, – подумал Ганеша. – Уж как-нибудь сам разберусь. Еще и не в таких переплетах бывал».
Но, перебирая все перенесенные когда-либо невзгоды и обиды, травмы и унижения, как мелкие, еще школьные, так и те глубокие и невосполнимые, причиной которых был Упендра: лишение головы и имущества, вынужденный побег из Чемоданов, бессмысленное поверхностное существование и каторжный, неблагодарный труд – словом, все, что по невежеству он принимал за должное и безропотно проглатывал, пребывая в полной уверенности, что такова жизнь, пока не встретился с Истиной, – перебирая все это, он с ужасом осознавал, что такого, как сейчас, с ним еще не бывало.
С каждым днем становилось невыносимее. Он даже не предполагал, что возможны такие страдания. Все муки ада, о которых рассказывал Учитель: когда тебя бросает то в лютый жар, то в лютый холод, когда тело твое сплошь покрывается волдырями, которые разрастаются, как белые лотосы, и лопаются, переполняясь гноем, – казались детскими страшилками по сравнению с тем адом, который разрастался в его сердце.
Это были ложные муки совести, беспредметные и ни на чем не основанные, но от этого еще более тяжкие, так как не было для них ни исхода, ни покаяния. Сколько он ни медитировал на их пустоте и беспричинности, на том, что все это – вздор и иллюзорная игра воображения, сколько ни пытался он отвлечься и думать о другом, например, об Учителе – каково-то ему сейчас на скамье подсудимых, о чем-то он сейчас медитирует? – все равно неотступно и навязчиво его преследовала одна заведомо ложная и совершенно посторонняя, словно извне внушенная мысль – что будто бы лично он, Ганеша-сейтайши, причем только он один и никто кроме него, виновен во всех бедствиях, какие только претерпел и терпит этот народ, как внутри, так и снаружи, и которые еще предстоит ему претерпеть, причем вместе со всем человечеством.
Во время одного из пароксизмов своих страданий он дошел до того, что хотел даже обратиться к врачам, чтобы его еще раз обследовали, уже на предмет психики. Но, пересилив себя, вновь стал упорно медитировать и вдруг внезапно достиг Совершенного Знания и понял, что все происходящее с ним – это как раз то самое, о чем и предупреждал Учитель. Он даже рассмеялся от облегчения. «И чего это я так испугался? Ведь идет обычный процесс Спасения, происходит обмен энергией. Я отдаю им свою, а они мне свою, грязную. Иначе и быть не должно. Ведь я – Бодхисаттва, потому и принимаю на себя всю карму этих людей: карму невежества, карму лжи, карму злословия, карму жадности и карму убийства. А это, соответственно, – Мир животных, Голодные духи и Ад. Значит, со мной все в порядке».
Он стал усерднее практиковать, нажимая на очистительные техники, и еще упорнее накапливать заслуги при помощи Бхакти. Неприятные ощущения от этого ничуть не уменьшились, но хотя бы перестали внушать опасения, ибо он уже знал их источник. Наоборот, теперь чем больше донимали его ложные угрызения совести, тем больше он радовался: значит, процесс Спасения идет как надо, значит, еще какое-то количество дурной кармы будет уничтожено, значит, еще для кого-то из этих людей уменьшится вероятность упасть в скверные миры.
Но он был один, а дурной кармы оставалось еще неимоверно много. «Сколько же дней уйдет на то, чтобы мне всю ее перекачать через себя?» – думал он, и выходили годы. «Нет, так не пойдет, – решил он. – Это все равно, что море черпать наперстком. Надо во что бы то ни стало вовлечь их самих в деятельность по Спасению. Пусть не всех и не сразу, но хотя бы постепенно и некоторых».
Чего только он ни делал, чтобы привести их к Просветлению: и пробуждал, и вдохнослял, и восхвалял. Но староверы упорно не хотели просветляться. В надежде завязать с ними положительную кармическую связь, он стал носить им продукты, из тех, что поставлял Коллекционер. Но тщетно: они не принимали ничего с Поверхности, предпочитая голодать.
Тогда он решил зайти с другой стороны и в частном разговоре, как бы между прочим, обронил, что Чемоданы, наверное, скоро вскроют, так как принят Закон об обязательном всеобщем выселении, и тех, кто откажется его выполнять, будут выселять принудительно. Его собеседники на это и глазом не моргнули, как будто их это не касалось или не расслышали. Он тогда, уходя, даже плюнул в сердцах, подумав про себя: «Господи, ну и карма! Ничем-то их не проймешь! Или это у меня такая карма, чтобы до скончания века возиться с этим твердоголовым народом?»
А на другое утро он не узнал Чемоданов. В первый момент ему даже показалось, что вернулась прежняя жизнь. Все, от мала до велика, были оживлены и, главное, заняты: деловито, как муравьи, сновали по улицам, и у каждого второго в руках была либо связка динамита, либо канистра с бензином, либо баллон с жидким водородом. Со всех концов Чемоданов они сходились к Центральной площади и, оставив там свою ношу, налегке разбегались.
На вопрос, что происходит, он долго не мог добиться ответа: всем было не до него. Наконец какой-то старик, кативший бочку с селитрой, остановился передохнуть и, отирая пот со лба, насмешливо спросил:
– А разве сам не видишь? Чем болтать, лучше б подсобил.
Чемодаса живо пристроился рядом и стал толкать тяжелую бочку.
– То-то. Вдвоем веселее, – дружелюбно сказал старик.
«И вправду, веселее!» – подумалось Чемодасе, совсем как встарь. Но тут же он спохватился, вспомнив о Бхакти: «Нет, все-таки что все это значит?»
– А что это мы делаем? Что планируется? – спросил он бодрым голосом, стараясь попасть в ногу со стариком.
Старик снова остановился, светло и пристально посмотрел ему в глаза.
– Что планируется, говоришь?
Он усмехнулся, достал пачку папирос, но передумал закуривать. Спрятал папиросы обратно в карман и произнес весело и значительно:
– Са-мо-сожжение! Вот что планируется. А то ишь чего удумали – выселять. Вот вам! – и, высоко над головой подняв заголившуюся тощую руку, кому-то невидимому наверху показал кукиш.








