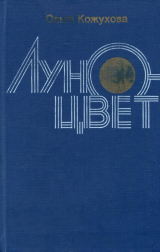
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
В ДЕКАБРЕ В ТОЙ СТРАНЕ…
Рассказ
Белый день, а в комнате у меня темно от бьющейся в окна метели.
Если пристально вглядеться в декабрьское небо, можно увидеть огромных седых великанов, свившихся в крутящийся белый клубок, борющихся, падающих, убегающих. Вот они разошлись и снова схлестнулись в дымящемся вихре, белые одежды их разорваны и вьются по ветру.
Я стою у окна и гляжу на летящие космы седых великанов, на белые петушиные гребни их шлемов. Почему-то в такие минуты мне всегда вспоминаются строчки стихов, годами живущих в моей душе, пришедших из юности: «В декабре в той стране… снег до дьявола чист…» Я подолгу раздумываю: где она – «та» страна? За какими полями, лесами, болотами?
Почему в «той» стране уж столь дьявольская чистота? От невинных ли душ ее жителей, от благих их порывов? Или просто там нет ни котельных, ни прачечных, ни дымных заводов, ни машин с выхлопными газами, ни пекарен, ни кухонь? Но тогда – чем живут эти странные, дьявольски чистые люди, населяющие ту сказочную страну?
Я хочу их представить себе, тех людей, и не могу.
Что-то мешает в груди.
Мне хочется глубоко вздохнуть.
И вот от первого, еще легкого вздоха они вдруг появляются – из таинственного небытия, бесплотные, неуловимые.
Я их узнаю!
Да, да, я их всех, всех знаю…
Вот они наплывают, выходят из мрака, реальные, а в то же время какие-то дымные, плоские, как в кино.
И я вдруг понимаю: ее нет на земле, «той» страны, а есть прошедшая наша жизнь, наши смутные воспоминания. Полумифическая, полуреальная область того, что было. Где все происходит почти так же, как и здесь, в наших буднях, но кое в чем и по-своему, очень странно и непонятно.
Например, в «той» стране можно жить сразу всем: и бывшим друзьям, и врагам, и давно уже умершим людям.
Там время не властно над нами. Оно обратимо.
Там люди, которых мы помним, говорят нам все те же слова, которые мы уже однажды слыхали от них. Причем это можно слушать все снова и снова, пока не надоест.
Например, «Я люблю тебя!» – говорит мне один человек. И я могу заставить его повторять эти слова хоть целую вечность. И при этом их не заездишь, как дрянную пластинку.
«Все кончено. Нам надо расстаться», – говорит он немного спустя, и я выключаю его, как слишком яркую лампочку, и сижу в темноте. От повторения ведь эти слова не станут понятней!
В «той» стране все идет не по-нашему.
Давно сорванные и увядшие и выброшенные на помойку цветы расцветают опять и благоухают так нежно, что невольно сжимается сердце и хочется плакать. Так нежно не пахнул и лох в придонских степях, а уж он-то умеет благоухать, как никто другой! Это знают все пражские торговки цветами, иначе они не продавали бы на Вацлавской площади в высокогорлых кувшинах веточки цветущего серебристого лоха!
Да что там цветы! Человек, которого я считала погибшим, позвонил у моих дверей и вошел ко мне в дом, такой сгорбленный и худой, весь серый от седины, что я его сперва не узнала. А тогда, двадцать пять лет назад, он был стройным и молодым, весь затянутый кожаными ремнями, в гимнастерке и каске.
Я спросила его:
– Как?! Значит, ты жив? А мне сказали, что тебя расстреляли в декабре сорок первого, перед строем…
Он с горечью усмехнулся.
– Нет. Как видишь, я жив. – И добавил, немного помолчав: – Это был мой первый в жизни бой. Шли немецкие танки, пехота. Очень много пехоты. Я стоял у орудия заряжающим. И вдруг представил себе, как меня убивают и как я, мертвый, лежу, – и я побежал. И танки наехали на батарею, раздавили расчет. А потом я стоял перед строем. Перед теми немногими, кто остался в живых… И они уже наводили на меня дула винтовок…
Он надолго замолчал. Сидел, скрестив на коленях руки, сгорбясь.
– Ну… Что же дальше?
– Дальше? Немцы перегруппировались и снова двинулись на наши окопы. И кто-то сказал: «Он еще молодой…» А другой возразил: «А те, убитые, не молодые?» И еще кто-то снова меня пожалел: «Пусть кровью искупит…» Командир посмотрел на меня и скомандовал строю: «Разойдись!» – и дал мне винтовку…
Я молчу.
Он что-то рассказывает еще, а я сижу и думаю о погибших. О тех, кто не дрогнул под натиском вражеских танков, кто верил в товарищей, стоящих плечом к плечу, кто заслонил своей грудью дорогу фашистам к Москве…
– А потом что ты делал?
– Воевал… До победы.
– А потом?
– Потом жил на Севере… – И он замолчал, вспоминая. Наверное, и у него есть свои нехоженые снега. Мы сидим с ним в одной комнате, за одним столом, под одной общей лампой и остаемся каждый в своей стране, за тысячи верст друг от друга. И вся прожитая им жизнь дышит мне в лицо арктическим льдом.
– Ты работаешь?
– Да.
– Кем?
– Токарем. В паровозном депо.
– Работой доволен?
– Нет. Я ее не люблю. Просто так, ради заработка. Ведь надо же жить.
– У тебя есть жена, дети?
– Нет. Я один.
И вдруг горький, черный вопрос сам выпрыгивает из меня, вопреки моей воле:
– Послушай… Для чего же тогда ты… живешь?!
Он подумал. Ответил спокойно:
– А я и сам не знаю, для чего я живу. – И долго глядит на метель, за окно. – Когда к нам в депо приходят вагонетки с углем, я взбираюсь наверх, в вагонетку, и иду по самому краю, по узкому бортику, и жду, когда паровоз дернет…
Ну, что ж… Это очень логично. Это нужно было предвидеть.
Я знаю твои суровые законы, великая, милая Жизнь!
Тот, кто цепляется за тебя, единственную, драгоценную, – любой ценой, – кто готов совершить любой, самый грязный проступок во имя спасения своей собственной шкуры, тот потом будет ставить тебя ни в грош и считать проклятием и обузой!
В самом деле, например, могла бы я жить без права смотреть людям прямо в глаза?!
Но однако же паровозик не дернул…
Он, наверное, тоже кое-что понимает, тот гуманный, северный паровоз из заснеженного северного депо! Он не дернет, пока человек идет по самому краю угольной вагонетки. Потому, что есть повидавшие смертный ужас глаза. Есть жестокая память. И есть складки у губ, которых уже не разгладишь ничем. И есть скорбные брови.
И хотя человек расплатился за все по всем существующим ныне законам, он все платит и платит… Теперь уже платит сам, уже сверх назначенной командиром и товарищами меры. Потому, что он помнит их, пощадивших его перед строем и ушедших на смерть. Пожалевших его оробевшую молодость…
Он все платит и платит… И будет платить потому, что товарищи, пощадившие его перед строем, все остались лежать там, в разбитых окопах под Наро-Фоминском, «в декабре в той стране»…
В «той» стране – на войне.
На пушистых, белых снегах, под Москвой, в сорок первом году.
ТАНЦЫ
Рассказ
Как забуду?..
Знойный июльский день. После легкого прошумевшего дождя асфальт на проспекте стал блестящим, агатово-черным, а там, где была хоть какая-нибудь преграда отвесно летящей туманистой кисее: слишком старый, разросшийся куст акации, широкие кроны вязов и тополей, кромка крыши, – там серая, в темных бусинах влаги горячая пыль. Торговки цветами сидят на земле под шатрами листвы, в незабрызганных полукружьях, – они не покинули своих мест. Перед каждой в тазах, в оцинкованных ведрах, в длинногорлых крестьянских махотках цветы: алые, белые, розоватые, желтые розы; с неразвернутыми цветками, похожими на улитки, гладиолусы; мохнатые, стрельчатые георгины; сладко пахнущие тленом флоксы, – их сиренево-белые и бело-розовые шапки привлекательны только издали, а вблизи как будто нарочно неряшливо смяты. Происходит это оттого, что душистые венчики цветков, составляющие их пышные шапки, расцветают неодновременно и так же неодновременно начинают и увядать, терять яркость красок, душистость, упругость.
Я медленно прохожу вдоль строя торговок, этих хитрых, притворно-любезных старух, всевидящих, темнолицых, выбираю цветок. Торгуясь, как цыганка, покупаю бутон темно-красной, пряно пахнущей розы, – бутоны дешевле распустившихся роз, – и прикалываю к воротнику полотняного белого платья. Платье мне длинновато, но оно по подолу с красивой, ручной, вышивкой, а поэтому нельзя ни подрезать, ни подшить покороче. Но я очень люблю его, ведь оно заработано мной, хотя я и школьница, мне всего лишь шестнадцать. На ногах у меня парусиновые башмаки, тоже белые, аккуратно начищенные мелом. Мои волосы чисто вымыты, они, кажется, наэлектризованы от своей чистоты, паутинятся, липнут ко лбу. И мне так хорошо, так чудесно быть чистой, наглаженной, молодой и здоровой, а тем более в шумной компании молодых, остроумных, веселых мужчин.
Мы проходим проспектом, расходясь из редакции после собрания. Дождь держал нас в каком-то подъезде, где мы спорили, острили, перебивая друг друга, а теперь мы идем шумным сборищем – и все на проспекте оборачиваются на нас, а больше всего на меня, на девчонку, одну среди взрослых, это людям кажется странным, и на Федора, черноглазого, скуластого, с длинными, чуть не до плеч, волосами, немножечко фатоватого красавца. Федор – «подающий надежды прозаик», а я – поэтесса. И все у меня впереди. Я, наверное, тоже чего-нибудь «подаю». Потому что друзья меня хвалят, в то же время ругают за отдельные неудачные строчки в стихах. А я не умею стихи «дорабатывать», исправлять. Они – не мои. Они – из меня, но, как что-то живущее, неподвластны. Как теперь говорят: автономны. Они выливаются сами, как дождь из набредшей на город переполненной влагою тучи. И рядом с какой-нибудь полновесной дождинкой, овальной, алмазной, удлиняющейся на лету в лучах проглянувшего солнца, летит и бесцветная, тусклая капелька, может, даже пылинка, водяная туманность. Но и яркая, и туманная – из меня, без меня, то есть, наверное, совершенно без моего участия.
У меня еще нет объекта радостных или печальных поэтических вздохов, героя стихов, а есть только субъект, я сама. Я, я, я… Но глаза мои уже зорко ищут того, незнакомого, о котором бы можно было сказать: «Это он». Я мечтаю о нем.
Мне хочется сказать тебе такое,
Такое тихое и, может быть, простое,
Товарищески-нежное, любя.
Но как, скажи, мне разыскать тебя?
На свете много новых городов,
Огромных, неизведанных краев.
Средь техники грохочущего века
Скажи, как отыскать мне Человека,
В каких полях, в каких снегах сыскать,
Чтоб нежное, хорошее сказать!
Да, мне очень хотелось бы именно Человека, а не просто носящую брюки неизвестную личность. Я к нему предъявляю суровые требования. Я разыскиваю его во всех встречных, в товарищах по поэзии, даже по школе. И когда убеждаюсь, что данная личность «не проходит по ГОСТу», впадаю в отчаяние, тогда злюсь и стараюсь казаться безжалостной, дерзкой, потом равнодушной. Ах, он уезжает на Север? Ну, что ж… Уезжай! Мне-то что?..
Ненавижу блеск осенний золотых твоих волос,
Никогда их на рассвете мне ласкать не довелось.
Ненавижу взгляд вдогонку, слово, сказанное веско,
Ненавижу голос звонкий, что звучит немного резко.
Разбежись по жилам речек, голубая кровь земли,
Чтоб скорее снял ты с пристань голубые корабли,
Чтобы волны, с ветром споря, были слов моих верней…
Милый мой, на дальний Север уезжай же поскорей!
А объект был сутулый, с очень тонкими злыми губами, но с чудесными, цвета желтой осенней листвы, волнистыми волосами, кареглазый. А имя-то, имя… одно чего стоит: Игорь! С ума сойти можно. Но, как видите, не сошла. Мы с ним не были даже знакомы. Впоследствии никуда золотоволосый Игорь не уехал, мне достаточно было проводить его в стихах, мысленно. Я отправила его так далеко, что он больше оттуда уже не вернулся. И прекрасно! Есть еще и другие хорошие люди, есть еще и другие хорошие темы, И есть окружающий мир и какое-то внутреннее беспокойство оттого, что у многих предметов и явлений имеется и второй, ускользающий, скрытый смысл, до которого хочется докопаться.
Мальчик бегал с мячом.
Оба были розовые и круглые.
Все дети завидовали его игрушке.
И лишь девочке одной казалось, —
Она была печальная, странная, —
Что это не мячик, а зайчик,
И это у него так бьется сердечко
И прыгают длинные ушки…
У нас зимы в длинных белых хрусталиках инея, в одевающих улицы, ветви деревьев, провода. Город весь, как из сказки, в бахроме из сосулек и прочищен, продут по асфальту, отполирован до блеска. На улице по тротуарам идешь с осторожностью, как по зеркальной витрине. Недаром Ахматова написала о нашем городе и о нашей зиме: «По хрусталям я прохожу несмело. Узорных санок так неверен бег…» Он не может не тронуть, прозрачный, звенящий декабрь или январь с волшебными зеркалами дорог, с отягченными бусами, льдистыми ветками. Но я знаменитых ахматовских стихов о своем родном городе тогда еще не читала, поэтому и рискую писать об увиденном по-своему, в лад шагам по Проспекту, по Кировской, по Красноармейской:
Декабрь, а над городом дождик…
Покрылись ледком тротуары,
Стеклянные ветви деревьев
Роняют серебряный звон.
Спешат по асфальту машины,
Ласкаются встречные пары,
К подругам пришли любимые,
Ко мне не пришел только он…
Потом я отбросила это стихотворение – не понравился его размер. Он немного пришаркивающий, в лад не мне, не моему настроению, а фланирующей возле Кольцовского сквера публике. Моим стало вьюжное, снежное, когда намело до колен, а потом открылось высокое небо – и все в белом, и на каждом столбе как будто сидит, затаившись, песец, а где, расшалившись, распустил и белый хвост. Все ветки мохнатые, и даже афиша, надорванная метелью, тоже выставила белые ушки.
Еще долго я буду кружить в этой теме, как белка в колесе. Еще долго заснеженный город, в тихом инее, в талых лужах, в туманах, в синем солнечном свете то ранних, то поздних безрадостных осеней и ликующих весен, навеет мне и простую строку, и темную, горькую, чуть вычурную от желания что-то сказать и от неумения это сделать:
Для тебя одного я хранила цветов аромат,
Я тебе посвящала свой первый, ласкающий стих.
Время шло и прошло. В оголенный, испуганный сад
Ветер кинул листву и покорной собакой утих.
Город жил под туманом, в огнях голубых фонарей,
И туман, серебрясь, осаждался на руки и мех.
Ты с другою шутил, торопясь пройти поскорей,
Я услышала вслед твой обидный и деланный смех.
Я шагнула под тень одного из седых тополей,
И в фигуре моей были гордость и вызов на бой,
И, наверно, не случайно – от резкого ветра с полей —
Навернулись вдруг слезы. И в сердце ударила боль.
Я ушла, в мокрый мех зарывая лицо и глаза,
Расплывались в тумане огни голубых фонарей.
И решила тогда я, что жизнь – это гром и гроза
И что жизни моей не шагать по дороге твоей.
Горевать я не стану. Я сердце сожму, как в тиски,
Я заставлю его онеметь, помертветь, замолчать…
Чтоб оно не задохлось от темной, нездешней тоски,
Будут только глаза мои молча во мраке кричать.
Это время моей жизни тогда осложнялось не только какими-то объективными неприятностями и случайностями, но и собственными моими недостатками и свойствами характера: я была чрезвычайно приметлива и нередко связывала в одно целое явления самого разного рода, не имеющие между собой никакой ни обидной для меня, ни унизительной общности. Но сама я любила других унижать. Даже тех, кто любил меня, кто хотел мне помочь, но по странной наивности не умел это сделать.
За окошком шел дождь сероглазый,
А в квартире было темно.
Я увидела, вздрогнула – сразу
Кто-то стал под мое окно.
Я склонилась цветком осенним:
Словно ветер сорвал меня.
Он уже шагал по ступеням
И улыбкой светлой сиял.
Эти последние два-три года моей предвоенной жизни отмечены странной двойственностью отношений с людьми. Писатели, взрослые, умные люди, мужчины и женщины, разговаривают со мной то ласково, добродушно, а то уважительно, как со взрослой, – я печатаюсь уже года два, сначала в пионерской газете, потом в молодежной, а теперь уже в местном литературном альманахе. А в школе – я все еще девочка, подросток, даже девчонка.
Помню: поздняя осень, унылые погребальные дроги еле тащатся по Чернавскому мосту через реку, на новое кладбище. Ветер ледяной, промозглый, пополам с дождем и снегом. Мы хороним поэта Ивана Козлова, умершего от чахотки. Нас всего-то, идущих за гробом, человек пятнадцать. Здесь писатели, журналисты, один критик, поэты. Все замерзли, носы у всех красные, у меня и башмаки промокли, и куртка пронизана ветром насквозь, и шапка моя, сидящая на макушке, не греет. Так и кажется, что дня через три-четыре и меня повезут на таких же дрогах через серую от ноябрьского ветра реку, с закраинами льда, на то же самое кладбище. Не пройдет мне этот печальный день даром… Нудно, холодно, – и не уйти. Что-то сдерживает меня. Я нутром ее чувствую, эту общую свою связь и с умершим, и с мерзнущими провожающими. Все поглядываю, а скоро ли это кончится. Однако лошади едва тащатся, да и дорога не близкая, когда-то подъедем.
А там речи, прощание, комки мерзлой глины на гроб. Возвращение пёхом, через «приспособление для простуд». И учение в школе: ведь я, не сказавшись никому, пропустила занятия. И уроков не делала…
Кто-то читает над гробом стихи умершего. Кто-то, отворачиваясь от ветра, вытирает ладонью слезы. Я смотрю на безжизненно-белое, с желтизною, лицо в скромном, сбитом из досок гробу.
Я видала поэта живым, и читала его стихи, и слушала их в исполнении самого автора, и мне странно: поэты, оказывается, тоже смертны. Они умирают…
Позже, в школе, учительница Катерина Ивановна Вебер сурово допросит меня:
– Ты вчера почему не была на уроках?
– Я была на похоронах.
– Да?! Вот это номер! – Голос у нее меняется, «Кити» – вся волнение. – А кто у вас умер?
– У меня лично из родных никто. Я была на похоронах поэта Ивана Козлова.
– А какое имеешь к нему отношение? Мало ли кто умирает? Не всех же ходить хоронить?..
– Нет, не всех. Он писатель, поэт. Поэтому я и ходила на кладбище.
– Записываю пропуск без уважительных причин. Завтра вызовешь мать.
– Хорошо, – пожимаю плечами, сажусь.
Как ей объяснить, что поэт для меня куда ближе, дороже самых близких родных!
Это первая двойственность, когда некоторые взрослые не понимают меня. Но есть двойственность и другая, когда я не понимаю некоторых взрослых. Например, своих новых друзей, журналистов Костю Гусева, Юру Зевина и других…
Я люблю танцевать.
Я могу танцевать целый вечер, часов с шести вечера и до двух-трех ночи. Площадка в Студенческом саду, где хриплое радио разносит вот уже сколько лет один и тот же томящий мотив:
«Двери балконов забиты,
Значит, кончилось лето… Утомлен… утомлен… утомленное солнце
Нежно с мо… нежно с мо… рем проща-алось… В этот
час ты призна-а-алась, что нет-ет любви-ии»… – отнимает у меня все свободное время.
Ветер с реки шумит в старых кронах огромных вязов. Танцплощадка висит над обрывом. Пары кружатся, отдыхающие от «телодвижений» сидят на скамейке, протянувшейся вдоль балюстрады. И я тоже сижу. Вот танцует одна чудесная пара, по-моему, он рабочий, у него небольшие, но крепкие руки, он сильный и ладный, хотя ростом не очень высок; она тоненькая, изящная, всегда скромно одета, в какой-нибудь тонкой кофточке, облегающей юную, молодую фигуру.
И вот высшее мое счастье, когда этот самый рабочий, а может, спортсмен, в нем есть и что-то спортивное, оставив свою девушку – или жену, мне кажется, что они не так давно поженились, – подходит ко мне и приглашает на танец.
Я, смущаясь, краснея, встаю. И мы, слившись в одном точном необъяснимом движении, в одном ритме, начинаем скользить по площадке. Я угадываю все его повороты, отступления, шаг в сторону, я все это чувствую бессознательно, не улавливаю, как иные, начало движения, для того чтобы с небольшим запозданием продолжить его, зеркально повторить, я угадываю каждый поворот, еще до рождения мысли, и мне кажется, я парю, у меня вырастают за спиной никому не заметные, поднимающие в воздух крылья.
Нет, это чувство теперь уже не повторится.
И этот человек, как мужчина, мне был безразличен. И музыка меня трогала лишь постольку, поскольку под нее можно было кружиться, начинать у л е т а т ь. Но самое главное, самое-самое, это то, что я действительно с ним всякий раз у л е т а л а.
Никогда и ни с кем я не чувствовала потом такой радости слитности в общем движении. Этой легкости, растворенности в музыке. Он и сам понимал, что мы с ним на мгновение танца – одно целое. И всегда подходил, всегда приглашал. А я даже не знала, кто он, как его зовут, где он учится или работает, да мне это и не было нужно. Меня ждал на скамейке суровый товарищ, снисходивший до всех моих блажей, он спокойно сидел и глядел, пока я натанцуюсь, и я думала только о нем, а вовсе не о том, с кем так ладно, так радостно, самозабвенно кружусь.
В нем была для меня не мужская, а ритмическая, музыкальная притягательность. А самое главное, я вместе с ним сама была совершенством или, может, точнее, орудием совершенства. Это видела юная женщина, приходившая с ним, и всегда ему позволяла пригласить меня раз-другой за неделю на танец. И это был танец…








