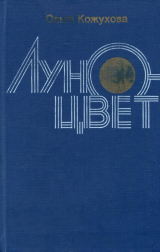
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Но вот, вот, чу. Повеяло свежим ветерком. Доживем ли мы, ветераны, до новых времен? До и с т и н н о й р а д о с т и?
* * *
Человечество должно иметь разные точки зрения на предмет. Один человек, даже самый гениальный, не может в себе совместить эти разные точки, – в силу ранга, привычек, обязанностей, суеверий, в силу выработанной системы. Поэтому для выражения другой точки зрения обязательно должен существовать другой человек – не играющий. Не подыгрывающий и сам ни явно, ни втайне. А истинно совершенно другой человек. Только тогда будет понимание предмета во всей объективности.
* * *
Книги хороши и могущественны тем, что, читая их, ты можешь даже в давно прошедших временах найти себе друга, понять его мысли, его идеи, его заблуждения и ошибки и все это разделить по-солдатски, по-братски.
Человек, у которого есть книги – если только он умеет из них взять самое нужное, – всегда будет счастлив.
* * *
Княгиня Ольга (мой муж называл меня тем же титулом, только с небольшим изменением: «книгиня»). Так вот, о моей древней тезке написано так:
«Радуйся, прежде разумения закона божия, по закону совести праведно жившая: радуйся, прежде приятия христианской веры дела христианам подобающие творившая. Радуйся, державу твою от нашествия супостата мужественно защитившая…»
«Равноапостольная княгине Ольго богомудрая…»
Это из акафиста в честь моей тезки.
А какие слова, какой стиль!
«Путеводительница, правую стезю к вечному спасению показавшая… Мощная споспешница и укрепительница проповедников православной веры… Присная покровительница благих наставников, благотрудящихся на пользу общую…»
Да-а… Державу свою от нашествия супостата мужественно защитившая. Какая важная мысль! Оно и вообще, знаменитые церковные «престольные» праздники – это праздники патриотизма. Празднования Владимирской, Смоленской, Казанской Божией матери были связаны отнюдь не с религиозными событиями, а с военными, национальными. Наверное, поэтому они так и популярны в гуще народа до нынешних дней.
Например, празднования в честь Владимирской иконы Божией матери совершаются три раза в году, 26 августа, 28 июня и 21 мая, и только одно из этих торжеств чисто ритуальное (майское), а два остальных – это воинские, патриотические. 26 августа празднуется потому, что Тамерлан (Тимур), подошедший в 1395 году к Москве, устрашился принесенной в столицу иконы Божией матери из Владимира. Встреча жителей города, этой иконы была столь восторженна, что он не осмелился идти на Москву. В честь встречи иконы был воздвигнут Сретенский монастырь на улице Сретенка… Увы, где он теперь?..
23 июня празднуется подобная же встреча той же самой иконы, но в 1472 году, когда Москва избавилась от Ахмата, царя Ордынского, достигшего уже Оки. И этот хан не осмелился идти на Москву, устрашенный единством народа.
Смоленская Божия матерь Одигитрия (что означает путеводительница, точнее вожатый, поводырь для неверующих, ведущий к вере) празднуется 28 июня. Ею, этой иконой, полученной из Греции от императора Константина, князь Черниговский Всеволод Ярославич благословлял свою дочь Анну на брак с вышеупомянутым императором. Икона была в Смоленске до той поры, пока литовец Витовт не изгнал в Москву последнего смоленского князя Юрия Святославича.
При великом князе Василии Васильевиче того самого Витовта шибанули из Смоленска, а икону вернули в Смоленск как знак исконной русской власти (1456 год). Сам князь Василий Васильевич провожал икону до Дорогомиловской слободы. На месте его прощания с иконой в 1525 году построен Новодевичий монастырь.
Значит, тоже победа!
Еще прелестнее история иконы Казанской Божией матери. Этот праздник учрежден в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
Кстати, большого внимания заслуживает и Дмитриевская родительская неделя, по новому стилю 8 ноября, – день поминовения всех воинов, на брани убиенных. Начало сему было положено в 1380 году, после битвы на Куликовом поле, в которой великий князь Дмитрий Донской одержал победу над Мамаем.
Церковью празднуются и другие победы русского оружия – Петра Первого над шведами под Полтавой, взятие Иваном Грозным Казани и т. д.
Вот вам известное – никто не забыт, ничто не забыто. Зачем же забываем мы и вот это стародавнее?
* * *
Литература – это великая мистификация, в которой один человек, сидя у себя за столом, выступает перед целым светом в облике многих сотен людей, переживает сотни жизней, умирает и снова рождается на свет в образах своих героев. Оттого характеры самих писателей так сложны и так многообразны, а поступки их порою так противоречивы. Цельные личности в литературе поэтому пишут или только о самих себе, или же заставляют всех своих героев, без различия пола и возраста, быть похожими на их создателя. Так, Толстой, например, обвинял Горького в том, что все его герои слишком умны и много мудрствуют. Мюссе варьировал на разные лады свою собственную трагедию любви к Жорж Санд. Стендаль наделял своей наблюдательностью и логичностью и прелестную герцогиню Сансеверину, и сорванца Фабрицио, и деревенского неуклюжего грамотея Жюльена Сореля…
Умение же перевоплощаться до конца – если оно наличествует в даровании – никогда не проходит для человека бесследно. Рано или поздно оно начинает мстить за себя – и тогда писатель поступает драматическим образом, неожиданно для окружающих.
* * *
Читаю Фолкнера… Американской литературе не свойственна наша русская эмоциональность. В подавляющем большинстве она очень насмешлива, наблюдательно-холодна. Даже у Фолкнера, например, наблюдательность иногда превращается не в образы, не в картины, а в простую перечислительность, в цветовые и графические рисунки отдельных предметов, без внятной, осмысленной связи их в целое. Наш русский пейзаж, тургеневский ли, толстовский, особенно чеховский, всегда ясно виден во всей широте и приближен к нам на всю глубину. В литературе Америки читатель находит названия ручьев, холмов, пород деревьев, состояния почвы, погоды и т. д., но пейзажа он не найдет, картины не будет – и в этом известная ущербность весьма многих и многих знаменитейших книг. Читаешь и все время чувствуешь две языковые стихии: негритянскую и европейскую, соединившиеся на новой для них почве, в данном случае на почве Америки, но не родившие органического единства.
* * *
Этика народных обычаев – и здоровье. Тема, пожалуй, что докторской диссертации уж во всяком случае, а если не диссертации, то весьма уважительного размышления. На нашем Востоке, в Средней Азии, нельзя откусывать от хлеба, можно только отламывать. Иначе оскорбишь хозяина.
Чтобы понять суть обычая, стоит спросить, каков хлеб в Средней Азии? Это в основном пресная лепешка, печенная в тандыре. Она очень упруга, ее трудно откусывать. Можно повредить себе десны. Поэтому лепешку отламывают небольшими кусочками.
Чай в пиалу наливают понемногу, чуть-чуть. Если налить с краями, как наливаем мы свой чай, оскорбишь гостя.
Но ведь горячий чай, если его налить много, обожжет пальцы человеку, держащему пиалу. (Пиала не имеет блюдца,) Поэтому надо наливать понемногу, тогда чай и в меру горяч и в меру остужен, чтобы держать сосуд рукой.
У русского народа обычай – прохожего ли человека, гостя ли, своих близких поить свежей колодезной водой. Обязательно свежей. Ибо степлившаяся, долго стоявшая полна бактерий. О бактериях, конечно, в старой дореволюционной деревне ничего не знали, но знали, что вода свежая, чистая, будь то колодезная или еще лучше ключевая значительно полезнее, здоровей. Она не принесет вреда человеку.
И если внимательно присмотреться, здравый смысл и еще раз здравый смысл – отнюдь не суеверия в основе многих и многих обычаев или привычек народа.
* * *
Лучше умереть, чем жить опозоренным.
По крайней мере, в этом случае остается в живых семья. И уже потом, – но выше всех прочих соображений, – у русского человека появилось еще одно качество, порожденное нашим временем: умереть за свободу, за добытое – тоже в бою – равенство, за право детей быть образованными. За новое государство.
Способный голодать и холодать, не знающий отступления, ибо отступать некуда, закаленный, отважный русский человек творил и творит на войне чудеса. Но в дни мира он доверчивее теленка, – режь его, ешь его, хоть с горчицей, хоть без горчицы, он нисколечко не потревожится, разве что повернется на тот бок, с которого удобнее начинать его есть…
* * *
Меня удивляет, когда военные писатели, бывшие пехотные офицеры, пистолетами и матерщиной поднимавшие своих бойцов в атаку, саперы, прекрасно владевшие своей гибельной техникой, талантливые артиллерийские офицеры, убивавшие врага с первого, со второго выстрела орудия, сегодня в своих романах вдруг становятся-сентиментальными, мягкотелыми и их даже «тошнит от одной мысли об убийстве», они вдруг начинают искать смысл, во имя чего «железная красота убивает самую высшую красоту творения – человеческую жизнь», проливают рекой крокодиловы слезы.
Трудно понять, чего больше в таких заявлениях: литературного кокетства, игры в гуманность, модничанья или же лицемерия.
Военная ситуация создается не по воле какого-то единственного человека, и, когда она возникает, вступают в права особые нравственные проблемы. У человека, если он порядочный, честный человек, любящий не себя одного, а свою семью, свой народ, в такую минуту нет выбора. Или он должен, даже обязан честно и неукоснительно совершать бессмыслицу – и убивать себе подобных, или – если он откажется сделать это, то в первую очередь погибнет сам, затем погубит свою семью, а впоследствии, может быть, и свой народ.
Зачем лгать себе, зачем нынче обманывать и себя и людей, говоря, что безнравственно убивать. По-моему, безнравственно задним числом отъединять себя, как разумного и гуманного, от всех остальных, неразумных и негуманных. Безнравственно осуждать убивавших, коли сам убивал. Безнравственно говорить человеку, лишенному права выбора, что он сделал дурной, подлый выбор.
Эти увертливые вертишейки сейчас делают больше вреда, чем все убийства в прошлом, ибо они лишают современного человека нравственных ориентиров в грядущем, разрушают «центровку» в живом организме. Этот ложный псевдогуманный мотивчик очерняет миллионы и миллионы людей, честно отдавших свои жизни за то, чтобы писатель сегодня сидел и писал и раздумывал о гуманизме.
* * *
Люди, которые трудятся только «во имя грядущего», живут на земле в одном измерении. У человека же, не ограниченного этим одним устремлением к неизвестному, мысли в чувства куда более многообразны, ибо этот человек ценит не только себя, но и миллионы людей, живших до него, их привычки, их нравы, их труд, их ошибки и заблуждения, которые и помогли ему, любителю совершенного, самому совершенствоваться и умнеть. Неблагодарность к веку прошлому, равнодушие к сегодняшнему, по-моему, качества хищника, потребителя, эксплуататора.
* * *
Наконец-то, слава те господи, нас озвучили по вертикали! Несколькими этажами выше, над нашей квартирой, поселился сосед-умелец. И тотчас же раздались визг пилы, верещание коловорота, трели дрели, стук молотка. Ну, думаем, как хорошо! Благоустраивается!..
Год прошел. Проходит второй. А трели не прекращаются. Видимо, на эту-то мини-площадь не иначе встраивается дворец.
И снова и снова среди ночи вдруг вздрогнешь с испугу. Сосед мелко-мелко, робко-робко, настойчиво-настойчиво молоточком конопатит стену, и не десять минут и не двадцать, а часа полтора: не иначе начал и этот свой дворец перестраивать! А то отбежит к другой стенке – и там тоже застенчиво: «тук-тук-тук». Или убежит на кухню – и там в переборке жужжит дрель, а то работает фреза, а то полировальная машина. Хорошее хобби у соседа! Куда нам за ним…
И вот думаешь… А не устроить ли так всю нашу жизнь, чтобы столь прекрасное хобби превратилось бы в основную профессию, и шел бы мой сосед утречком на завод, там строгал бы и пилил в свое удовольствие, а уж потом, поздним вечером, после ужина, в качестве развлечения решал бы какие-нибудь математические задачи. Или классиков бы перечитывал…
* * *
Наши жизненные привязанности и симпатии слагаются где-то задолго до встречи с конкретными людьми. И формируются они не только приятием каких-либо нравящихся тебе в людях черточек, но и отталкиванием от того, что не нравится.
* * *
Наши самые горькие тайны знают не близкие и родные люди, а, к сожалению, только лишь парикмахеры, маникюрши, портнихи – все, у кого есть время между делом выслушать, а может быть, и прислушаться повнимательней, – впрочем, тоже для дела. Для тайного, своего. А вот близким, родным, бывает, нет дела до них.
* * *
Нелюбовь, даже ненависть, – все не самое страшное, потому что они нам даны сразу, заранее, в готовом виде. Куда страшнее разочарование. Потому что еще веришь человеку, потому что ждешь от него хорошего, а этого хорошего уже давно нет. И летишь как в провальную бездну, ни за какую зацепку не зацепиться, не остановить падение.
* * *
Не надо думать, что «отходы», оставшиеся от того или иного произведения, – это литература второго сорта. Нет, это просто то, что по законам гармонии не укладывается в сюжет, что мешает ему, утяжеляет повествование. Это все то, что иные писатели все же стараются впихивать в свои повести и романы и что – пищит, а не лезет.
* * *
Не помню, кто сказал, что литературный образ обычно гораздо вернее, значительней, тоньше своего прототипа. Замечание это очень верно, ежели не сказать гениально. Ибо искусство, – оно вообще делает жизнь благородней и чище. Например, Печорин значительно загадочней своего создателя хотя бы уже потому, что в нем многое не досказано.
Сосед по квартире тоже, может быть, интереснейший человек, но мы его видим в домашних тапочках и подтяжках, непричесанным и без галстука. А он в жизни ничем не хуже Грушницкого или Печорина. (Здесь, наверное, кстати будет сказать, что у этих двоих «антиподов» много общего. Может быть, поэтому-то они и враждуют?)
* * *
Осенью, когда небо вдруг люто нахмурится и после по-летнему теплых, солнечных дней север злобно дохнет почти нестерпимым зимним холодом, в небе можно увидеть большие собрания многих тысяч грачей. И при этом с какой-то определенной повесткой дня. Может быть, подготовка к зиме. Предстоящий отлет. Может, выбора вожаков. Потому что грачи при этом отчаянно спорят, кружатся один за другим – не то тренируются, не то соревнуются и что-то доказывают окружающим, гоняя по кругу своих повзрослевших подлетков, которые демонстрируют уже крепнущее мастерство, летание и парение, а взрослые птицы при этом кричат. Только трудно понять, чего больше в их криках: восторгов одобрения или птичьей хулы, каких-то особенных птичьих злобных ругательств.
Как-то вечером в сумерках в Марьине мы в течение долгого времени наблюдали такое скопление грачей. Они, шумно галдя, слетались огромными вереницами к лесу над озером; там выстраивались в целые летные соединения где-то прямо под тучей и ходили кругами над уже пожелтевшими вершинами деревьев, сменяя друг друга поэшелонно. Вот они обогнули колонной, наверное, в три километра длиной, весь массив потемневшего леса, перестроились на ходу, покружились на месте спиралью – и стали спокойно, почти незаметно растачиваться, расходиться по высокому куполу неба, размыкаться на два, затем на три, на пять взмахов крыла, по каким-то одним им понятным канонам грациозности и красоты. Вот они повернулись. Вот летящие правофланговыми и левофланговыми птицы разошлись и еще, и еще, все свободней и шире, все дальше друг от друга, паря, охраняя с большой высоты ядро стаи, самый ее центр, в котором плотной черной спиралью все кружатся главные, может быть, самые ловкие, может, самые мудрые, старые птицы.
В другой год их собрание не было таким ладным.
Как кричали, как ссорились птицы! Какой шум стоял над землей, какими нестройными полчищами грачи носились по закатному небу, сколько гнева и злости звучало в их кликах!
Это длилось почти до густой темноты. Птицы словно не могли примириться, найти выход из создавшегося положения, злобно каркали, ссорились, спорили, что-то громко доказывали друг другу. Иногда это выглядело со стороны просто бабьей отчаянной перебранкой, которая может закончиться и потасовкой.
Долго, долго я слушала этот птичий загадочный спор, эти крики, все ждала, чем же это окончится?
Небо быстро темнело, а птицы носились по кругу над лесом, галдели, вопили… Но вот кончилась наконец эта странная сходка, понеслись в разные стороны к своим гнездам и целые группы грачей, и отдельные семьи. По дороге, уже расходясь, они все еще злобно оглядывались друг на друга и что-то кричали, доругиваясь. Это было настолько комично, так похоже на нас, на людей, что я засмеялась. Пролетающий над моей головой сытый грач обернулся к грачихе и, кажется, так и крикнул ей: «Дура! Дура!» А она ему: «Ах ты, старый дурак!»
Что держало их вместе такое долгое время над лесом? О чем они спорили, что порешили? Отчего, наконец, разошлись?
* * *
Подумать только, некоторые знакомые придают мне такую цену, что даже не здороваются со мной! Это только вообразить, сколько времени, сил и энергии они посвящают мне; значит, им надо постоянно держать в уме: ага, при виде этой женщины я, имярек, должен перестать быть цивилизованным человеком, унизиться до невежливости…
И вот этой ценой унижения передо мной – а ведь я, безусловно, его презираю за это! – он со мной не здоровается и считает, что сделал мне горько и больно! За что?
* * *
По-моему, нет ничего опаснее мечты жить «во имя будущего», ибо будущее неуправляемо, оно складывается из миллионов противоречивых усилий народов, и еще неизвестно, какое из них окажется плодотворным, определяющим, наше худшее усилие или наше лучшее. А кроме того, как узнать, может быть, что потомки отвергнут и то, и другое. Мы-то видим их счастье в том же самом, в чем видим свое, а они-то, наверное, представят его себе совершенно по-новому, по-иному – так учит история. И зачем оно нужно мне, добытое кем-то счастье, если пользуешься им и не знаешь цены?
* * *
Последние дни января с ежечасно меняющейся погодой, уже с мягкой подсветкой грядущего солнца из-за туч… И метель, и мороз, а в воздухе что-то мягкое, обещающее, останавливающее тебя от последнего жеста.
* * *
Среди множества удовольствий в моей жизни едва ли не первое – плыть в теплом море от берега, вдаль.
Вот и пляж позади паутинистой линией, и фигурки людей уже словно игрушечные, и солнце так мягко дробится, слепит, перепрыгивая с волны на волну…
Ты плывешь – и тело твое эластично вжимается в голубую, а то в синеватую, в прозелень, влагу, растворяется, тает в ней, такой ласковой, обнимающей душу. И пора бы назад, и невольно уже опасаешься: а хватит ли сил на обратную дорогу? Но не можешь остановиться, море тянет тебя все дальше и дальше, оно как бы само помогает уходить в синевато-сиреневую бесконечность…
Но волна уже с гребнем, уже с перехлестом, она с мощной силой упруго несет тебя сверху вниз, в темную, мрачную бездну, где пахнет сырой чешуей и йодом, и роняет – и вроде бы не роняет, а просто играет с тобой, как бы втайне испытывая: ну, схлестнись, ну, схлестнись, ну, померяйся силой! И снова – наверх, на гребень волны.
В теле легкость и звон, жажда жизни, движения, ритма. Случись посильней и побольше волна, и, наверное, не заметишь, как ты, в самом деле, навек растворишься в соленой на вкус, непроглядной морской темноте…
* * *
Сырая тропинка, где осклизлая, а где в топких, зеленых, словно бы губчатых мхах, ведет через лес, по гребням холмов, когда-то, наверное, в доисторические времена окаймлявших огромную, необозримую реку, теперь отошедшую и погасшую в границах сегодняшней поймы.
Лес и справа и слева уже перезрелый, седой, в седых наростах мхов и лишайников, внизу сучья и сосен и елей засохли, сплелись серой колкой преградой. Здесь завалы, чащобы, забитые мусором ямы воронок: когда-то поблизости проходила война, была линия фронта. Одни только лужайки, все в ландышах, радуют глаз. На сырой, плодородной земле стебли ландышей выросли крепкими, длинными, кисть унизана сверху донизу, как фонариками, большими цветками, необычайно душистыми, оживляющими человека, вдохнувшего их насыщенный свежестью аромат. Среди сочной травы, среди белых, как жемчуг, рассыпанных ландышей пробивается и какая-то незаметная травка, вся кружевная, в мелких, белыми точками, цветках. Здесь другой аромат, тоже сильный, но больше медвяный, чуть-чуть душноватый, даже затхлый немного. Он так крепок, силен, что долго вдыхать его даже нельзя: начинает болеть голова. Пчелы, бабочки, осы, шмели так и вьются над этими белыми точками, чуть присобранными в ершик.
Дорога становится чуть чище и суше, вот мы и перепрыгиваем через большую поваленную сосну, лежащую наискосок на тропинке, и снова идем под зеленым, звенящим хрустальными голосами певчих птиц, неподвижным, насыщенным влагою пологом леса.
Путь приметный. Кто хоть раз здесь прошел – не заблудится.
Слева большая куртина разросшихся папоротников. Они, как павлины, играют на жарких прогалинах зелеными распущенными хвостами своих сочных листьев.
Вот береза, она всем стволом своим изогнулась над вьющейся нашей тропинкой, как белые, чистые, праздничные ворота в какие-то заповедные и сокрытые чащи. И мы сперва проходим в одни такие ворота, потом в другие, потом как бы подныриваем под ветки орешника и сразу сворачиваем по тропе, отходящей влево, начинаем спускаться по пологому склону среди маленьких елочек и берез на большую поляну. И тут все останавливаемся – ослепленные, задыхаясь, – обозреть необъятную широту чуть наклонного поля с могучим, у самого края, развесистым дубом, и торфяников, и лугов, уходящих до самого горизонта. Там, на горизонте, за рекой, леса, свои луговины и горы с деревнями, колокольнями, пыльной серой дорогой и чуть сизыми от дрожащего марева золотыми хлебами.
Километров на тридцать отсюда обзор. А небо такое прозрачное, невесомое, что оно увеличивает пейзаж, приближая его, как огромная линза, в то же время и удаляет отдельные купы деревьев, стога и людей, как бы сплющивая их на краях.
Мы проходим по пахоте к дубу и долго стоим под могучей его глянцевитой листвой. Здесь растет земляника, встречаются иногда шампиньоны. Чаще можно найти кем-то брошенную бутылку, обрывки бумаг и огромные, черные, словно ведьмины знаки, кострища. Иногда стороной, у торфяников, гурьбой проходит Мамай, – так зовут здесь туристов, – с гитарами, в странных, словно истоптанных шляпах, с растрепанными бородами «под Иисуса Христа» – это парни. А девушки в шортах иль в брюках, подстриженные под мальчишек, с вульгарными, хриплыми голосами, с рюкзаками за спинами, отчего они издали все похожи на тощих двуногих верблюдиц. Они молча бредут, не видя лугов и ромашек, берез на полянах, так как смотрят под ноги впереди идущих, с лица их градом катится пот, им, наверно, не хочется ни о чем ни думать, ни говорить, просто гонит в дорогу какая-то сила, неистраченная на работе. Ведь, конечно же, это совсем не любовь к моей милой земле. Потому что зачем же любить ее таким диким, таким неестественным способом?! Разве эти кострища, бутылки и мусор – итоги любви и познанья природы?
Да, быть может, познанья… но только – чего?! Настроение у нас всех как-то сразу испорчено. Мы уходим от дуба назад, в зеленую, влажную чащу, как звери, чтобы спрятаться там и зализывать раны.
И только задумчивый голос пеночки и гулкое бульканье, воркотанье дикой голубки возвращает утраченный дух единения со всеми сокрытыми, заповедными чащобами, с тропами в лесу, с колыханьем орешников, с тайной запахов трав и прозрачной, пленительной белизной и свежестью ландышей.
Человек… ты разумное существо. Отчего ты не помнишь об этом?
* * *
На зеленой лужайке, окаймленной пунцовыми, белыми и бледно-лиловыми флоксами, над красными розами, над зарослями жемчужниц и густо-свекольными георгинами с раннего утра летает неисчислимое количество белых бабочек. Некоторые из них большие, хорошие экземпляры, другие поменьше, наверное, молодняк. Почти над самой головой у нас резвится большая крылатая игрунья. «Смотри, какое прекрасное существо!» – говорит человек, наблюдающий за полетом этих странных созданий, таких грациозных, воздушных в вышине, на свободе, и не таких-то уж очень приятных вблизи, когда их рассматриваешь у себя на ладони, это мягкое, кольчатое брюшко, цеплючие кривоватые ножки, темные усики, шаровидные выпученные глаза.
Под окном у нас растет борщевик. У него огромные резные листья, длинный темно-зеленый трубчатый ствол и бело-зеленые зонтики соцветий. Прямо в центр одного такого соцветия и садится прекрасная бабочка! Ни старая, ни молодая, но такая изящная, милая, что летавший над высоченной елью самец вдруг сложил свои крылья и спикировал с высоты совершенно отвесным скользящим движением, будто только что подсмотренным у немецкого «мессершмитта». Никогда я еще не видела в мирной нашей природе такого полета: только лишь на войне.
Две бабочки слились вместе и, танцуя, выписывая на фоне зеленой листвы размашистые таинственные письмена, унеслись в высоту, ярко-белые, и стали неразличимы на белом же облаке. А мне уже не до бабочек, не до цветов. Я все вижу пикирующее движение, его хищность, мертвящую точность, несущую смерть. И раскинутые в траве человеческие тела, для которых все кончилось этим единственным мигом.
* * *
Только слабые духом боятся печали, ее возвышающей одинокости. Печаль приносит мысли, какие никогда не принесет человеку радость, она воспитывает в нас умение отдавать людям и делу всего себя, до конца.
* * *
У любимого моего поэта я сегодня нашла не свойственную ему жестокую фразу о том, что все заблуждающиеся, не понявшие хода истории «в самих себе умрут, истлеют падью листопада». Отчего у нас такая уносная нетерпимость к другим? Отчего мы живем и не знаем сомнений? Жизнь с падениями и ошибками, с заблуждениями и утратами, своим собственным опытом и его осмыслением, которые стоят порой больше любой твердой однолинейности. Для меня неуверенность, в частности, стократно милей тупой и надменной уверенности в себе. О истины-однодневки! Вы хотели бы стать единственно-вечными, но судьба справедлива. Она одинаково уничтожает все хорошее и дурное, заменяя другим – новым – в равной мере хорошим, в равной мере дурным. И тот, кто думает, что держит в руках совершенную правду – одну правду навечно, наверное, заблуждается горше всех остальных, потому что доволен собою – и слеп.
Не истлеет одно – движение этих холодных небес, теплых весен, сменяющих зиму, и сменяющее весну благодатное лето. И еще – не истлеет надежда на лучшее и вера в народ.
* * *
У людей физического труда – девственная память. Они памятливы на все, что забыли мы, живущие среди миллионов расхожих мыслей, миллионов ничего не значащих улыбок, раскланиваний, комплиментов, обещаний, обязанностей, люди вроде бы неотложной, но все-таки бесконечно откладываемой работы. А уж если не запоминается в данную секунду свое собственное дело, если можно оставить его ради интересной встречи, ради хождения в театр или в кино, бросить письменный стол ради читательской конференции, ради читательского письма, ради магазина, прогулки или хуже – ради прекрасного ресторана, значит, этому делу грош цена. Грош цена и тем самым прекрасным мелькающим лицам, которым мы что-то обещали – и не запомнили…
Если может, например, пообещать и не запомнить дежурный врач-акушер, что ему нужно прийти в родильный дом и принимать рождающихся ребятишек, если пожарный забыл, что у вас пожар, если пекарь забыл испечь хлеб, а водопроводчик подать воду, то грош цена этим акушерам, пожарным, пекарям, водопроводчикам. Но грош цена и тем писателям, которые не могут прожить «ни дня без строчки» и живут целую жизнь – без обновляющей и утешающей человека мысли. Что толку в тех строчках, что рождены между двумя посещениями ресторана! Что толку, если твой труд ничего не значит по сравнению с трудом пахаря, сеятеля, комбайнера, пекаря, продавца в магазине, где вам подают самый свежий, и самый мягкий, и самый поджаристый хлеб! Неужели ваша мысль важней хлеба? Нет, конечно. Но она должна быть, она обязана быть важней хлеба. Голодный человек обязательно должен сэкономить на хлебе и купить твою книгу, вот тогда ты писатель…
К сожалению, до такой читательской почести доживают из сотен тысяч писателей только лишь единицы. Ну, так будь же такой единицей, стремись остаться в таком одиночестве. Именно в таком. Это самое священное и самое уважаемое одиночество.
* * *
Умение считать приходит с отсутствием денег. Умение обсчитывать – с изобилием их.
* * *
У меня много радостей в жизни. Зимы, весны и лето… Друзья. Книги. Письма читателей. Всего и не перечислишь. Но бывает радость особая, даже и не придумаю, как ее назвать. Радость общности чувств, радость общих познаний… Затрудняюсь определить.
На одном писательском заседании, где присутствовали известнейшие поэты и прозаики, сидел и дряхлеющий критик. И вдруг он мне читает стихи. И спрашивает: чьи они? Кто их написал?
Я говорю:
– Вениамин Каверин.
Критик только ахнул, развел руками:
– Ну, Ольга Константиновна…
В самом деле, кто мог бы сказать, что известнейший прозаик в своих произведениях процитировал собственные же стихи?!
Я-то их вспомнила и «опознала» по некоторой «кабинетности» и сходству со стихами Эдгара По. Ведь и книга, в которой эти стихи процитированы, тоже «детектив». Так что я действовала «по аналогии». И не ошиблась. И порадовалась, как ребенок.
В другой раз подобная же радость меня посетила на общем собрании. Сидела я рядом с молодым талантливым драматургом. Собрание, к сожалению, шло довольно уныло.
И я говорю соседу стихами:
– Мне скушно, бес…
А он – вдруг! Это надо же! – отвечает мне фразой из этих же стихов:
– Все утопить.
Боже!.. Подумать только! Такого счастья я не испытывала и от похвал. От наград. От заслуженной благодарности. От взгляда любви…
Да это же – Пушкин!
Разговор Фауста с Мефистофелем на берегу моря.
Кто бы мог подумать, что вот так, в одно «электрическое» мгновение мой сосед ответит на шутку такой же шуткой, таким знанием предмета!
Нет, все же мы – книжники и фарисеи…
* * *
Странно, но факт: я, женщина, – военный писатель. И всю сознательную жизнь пишу о войне.
Пишу потому, что последняя война была величайшим испытанием для моего народа и он с честью выдержал это испытание, хотя и понес самые страшные потери.
Пишу о войне и потому, что видела ее своими глазами и имею о ней свое собственное представление.








