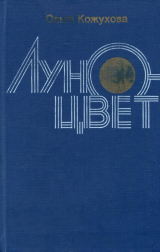
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Он сидел на маленьком складном стульчике, на местах, отведенных для иностранных гостей, – чуть правее молящихся, – и слушал монотонное, хриплое пение бритоголовых, в желтых рясах монахов. Мелодично позванивали колокольчики. Тревожно и глухо звучал гонг.
Ушакову было жарко и душно на солнцепеке, в толпе людей, очень вежливых, но вполне равнодушных к чужому для них, непонятному богу, и он глядел вверх, под купол вполне современного храма, без единого украшения, туда, где в белой каменной нише сидел молодой, тоже белый, каменный Будда.
Бог смотрел строго прямо перед собой – не на банки с томатным и апельсиновым соком, не на пачки кофе, арбузы и груды сластей, не на связки серповидных, цвета старого меда, бананов и груды зеленых, пряно пахнущих грушами яблок – приношения верующих, – а куда-то поверх всего этого в жаркое небо, как раз в ту самую точку голубой полусферы, откуда совсем так недавно – или очень давно? – и пришла в этот город, лежащий внизу, незнакомая до сих пор человечеству смерть.
Даже сейчас, спустя столько лет, лицо Будды было все еще белым от ужаса, а большие, навыкате, красиво разрезанные глаза смотрели на город, как в бельмах, незряче.
– Николай Николаевич, взгляните на храм, – сказал ему переводчик, толстяк коротышка Васюта Антонов. – Храм построен на пожертвования индийских единоверцев уже после войны.
– А жаль! – сказал Ушаков. Ему очень понравился этот образ – помертвевший от ужаса бледный Будда, – с ним теперь уже будет трудно расстаться. Но бог, которому он так симпатизировал, оказывается, не видел войны!
Бог не видел возникшего над котловиной, в дельте Оты, сероватого облака, которое видит сейчас Ушаков, и той бомбы, которая, кажется, все висит, почти четверть века, над городом и рекой, сея смерть, как висела в тот день.
После жаркого, знойного дня вечер тихо ложился на город, весь прозрачный, чуть подкрашенный солнцем снизу в розоватину, в прозелень. Очень тоненько, как комарики, позванивали ритуальные колокольцы, затем слитно, взволнованно зазвучали серебряные голоса хора мальчиков. Над храмом кружились белые голуби, и женщина, сидящая наискосок от дремлющих иностранцев, казалось погруженная в молитву, иногда вдруг хватала с колен фотоаппарат, очень быстро высматривала подходящие кадры, быстро щелкала, чуть прищурясь, и снова в молитве упоенно приникала к сложенным у подбородка ладоням.
Все печальнее и торжественнее звучит монотонное пение.
Два монаха, взобравшись на самый купол храма, пригоршнями стали разбрасывать над молящимися разноцветные круглые лепестки из бумаги, похожие на конфетти, – отгоняли злых духов, объяснил Ушакову Антонов.
Над сгорбленными спинами людей, над склоненными их головами уже шелестел первый ветер, несущий прохладу с гор, а монахи все пели, листки колыхались по ветру, и в голове Ушакова все вертелась одна и та же фраза, он прочел ее там, внизу, в центре города, на доске у памятника погибшим: «Спите спокойно. Это не должно повториться!»
Ушаков поймал несколько разноцветных лепестков, кружившихся, планируя, над головою по ветру, и долго рассматривал их. Да, это не повторится… Но сколько раз за историю человечества повторяется эта фраза, всякий раз на новом, еще более выжженном пепелище! Сколько раз народы давали опять и опять убаюкать себя, поверив, что этот огонь, так сильно их обжегший, действительно был последним!
Сейчас, проходя спящим городом рядом с Юкико мимо строгих гранитных подъездов многочисленных банков, отелей и богатых контор, он глядел на зеркальные окна и мог поручиться, что за этими плотными шторами, в недрах новеньких сейфов, вызревают солидные капитальцы, отсчитанные владельцам рукою еще не отогнанного от города дьявола, – будь он в облике сперва добренького оккупанта, а позднее союзника, наживающегося на бомбежках Хайфона или Ханоя.
Ушаков вдруг припомнил фигуру уходящего через мост человека.
Хорошо понимая всю бестактность вопроса, но желая во всем дойти до конца, он спросил:
– Да, Юкико, а кто это был сейчас с вами на реке?
– Амеко[13]13
Амеко – американец (японск., жарг.).
[Закрыть], – спокойно сказала она, поднимая на него свои узкие, но такие прекрасные, молодые глаза.
– Ну, скажите еще, что солдат, да еще из Вьетнама! – пошутил Ушаков.
– Да. Солдат. И вы правильно угадали, из Вьетнама, – ответила Юкико совершенно серьезно.
Ушаков даже на миг приостановился.
– Что он делает здесь? Да еще в такой день!
– Он? На отдыхе… После ранения!
– И теперь между делом любуется вновь отстроенной Хиросимой, музеем и атомным госпиталем? Фонариками на реке? Хорошенькими хибакуся?
Ушаков удивился спокойствию маленькой женщины. Он был возмущен.
Юкико молчала.
– Он плакал сегодня на митинге, – наконец объяснила она. – Он сказал, что он проклял свою Америку за эти две бомбы: в Хиросиме и Нагасаки. Теперь он не хочет возвращаться на Окинаву. – Она пояснила: – Их части базируются на Окинаве. Он поклялся, что больше не будет стрелять ни в северных, ни в южных вьетнамцев…
– Вот как! Это с ними бывает?
Юкико кивнула.
– Да. У нас не единственный случай…
– А вы его чем-то обидели. Он ушел разозленный…
– А что я должна была делать? – вздохнула Юкико. – Что касается женщин, он по-прежнему думает, что каждая почитает за счастье быть обласканной им… А я всего-навсего выполняла поручение своего профсоюза…
Ушаков был смущен.
– Вы храбрая женщина, Юкико-сан!
– Нет, при чем же тут я? Такая работа…
Они вышли к центру.
Город здесь, на главных своих магистралях, все еще бесновался и грохотал: взад-вперед проносились машины, скрежетали колесами на крутых поворотах трамваи. Еще ярко горели витрины бесчисленных магазинчиков и закусочных, хотя кое-где окна и двери уже запирались.
Они повернули куда-то направо.
Еще переулок, еще – и их охватила глубокая тишина и безлюдность погасших кварталов, наверное, таких торопливых, кричащих, таких ярких в дневные часы, а сейчас таких сумрачных, страшноватых, что Ушаков невзначай оглянулся.
В этот душный, томительный, будоражащий вечер жизнь людей еще не заканчивалась тяжелым, почти не дающим отдыха сном, но текла она уже не на улице, а в домах, за раздвинутыми бумажными сёдзи[14]14
Сёдзи – раздвижное окно (японск.).
[Закрыть]. Там, в кубических сотах квартир, еще ссорились, целовались, кто-то шил на машинке, тачая куски разноцветного материала, кто-то ужинал, сидя на корточках за крохотным лакированным столиком, и белые палочки – хаси, – словно спицы вязальщицы, привычно, до механичности, мелькали в руках. Какая-то женщина раздевалась перед окном; Ушаков разглядел ее тонкое, стройное тело, отраженное в глубине чуть подсвеченным зеркалом.
Каждый дом был похож на другой: те же крыши, такой же конструкции двери, те же голые стены внутри пустоватых, очень чистеньких комнат, а рядом веселая суматоха витрин, завлекающих надписей, ярких вывесок и реклам, арок, окон, украшенных флагами и фонариками, изречениями, написанными на материи, букетов, венков и гирлянд, сплетенных из вечнозеленых растений, – торжество бесконечной фантазии, ликующего мастерства, устремленного к одной цели: победить, удержаться, не дать себя сбросить со счетов, уязвить конкурента…
– Какой яркий ваш город…
– А Москва – не такая?
– Нет, Москва не такая, – сказал Ушаков. – Темнее. Суровей.
– Да? Я думала, наоборот.
– У нас слишком холодно. Много снега… – объяснил Ушаков, ощутив вдруг свою чужеродность в этом ватном и влажном, расслабляющем климате. Он припомнил синеющие сугробы под липами на Воробьевском шоссе, метель, вылетающую из-за угла, свежесть южного ветра и бодрость, когда прилетают грачи и так пахнет корою деревьев и пузырчатым мартовским снегом.
«Греет кровь мою легкий мороз…»
А ведь действительно греет! Но вообще, почему это ценишь только тогда, когда ты находишься от всего этого вдалеке?
– А в Москве много красивых женщин?
– Да, много.
– А река у вас есть? Такая, как Ота?
– А вы приезжайте к нам в гости, Юкико-сан, я вам все покажу.
– Я давно мечтаю об этом. Не знаю, удастся ли…
– Постарайтесь!
– Попробую…
Она с ним говорила серьезно, а он улыбался. Ему вспомнились, словно сквозь сон: зима, и далекое детство, и картинка в журнале: грациозная женщина, словно бабочка, сидя на корточках, на циновке, разливает по чашкам дымящийся чай…
– Вы женаты? У вас есть семья, дети?
– Никого нет, Юкико… Один словно перст.
Он не спрашивал, в свою очередь, кто она, где живет, одинока или замужем, – непонятное, недосказанное для него было радостней, интересней, чем обыденные «милицейские» определенности.
– Вот мой дом, – вдруг сказала Юкико.
– Да? Так быстро? Я думал, идти еще далеко… А мы уж у цели…
Ему жалко было с ней расставаться, с такой мягкой, уютной и женственной, и вовсе не куклой. Потому что Юкико хорошо понимала не только слова, но и взгляд и, наверное, то, что он думал и чувствовал. Потому что она замолкала, когда он замолкал, и смеялась, когда ему было смешно.
Ушакову понравились в ней ее современность и отсутствие робости: у себя в стране он привык к равенству женщины, и ночная, печальная странница в темном оби и шелковом кимоно, идущая в одиночестве по сегодняшнему отгулявшему, отгрустившему городу, чем-то трогала воображение, может быть, этой нежностью, этой твердостью облика.
– Как мы встретились необыкновенно!.. И приходится расставаться, – сказал он, сам себе удивляясь, что предчувствовал эту встречу и эту разлуку.
– Сожалею… – ответила тихо Юкико. – Но поздно. Пора! Очень рано вставать. Я работаю гидом в туристской конторе. Преимущественно с американцами. А они народ очень капризный.
– Понимаю. Хорошо понимаю… – Ушакову хотелось сейчас подарить ей на память какой-нибудь маленький изящный значок, безделушку, которая бы спустя годы напомнила ей этот вечер, он пошарил по карманам, но, кроме ключей от московской квартиры, ничего не нашел.
– Вы не будете в нашей гостинице? У вас нет никаких поручений от вашего профсоюза ко мне, например?
– Нет, – она засмеялась. – А что?
– Я хотел бы увидеть вас завтра.
– Я подумаю… Я вам с утра позвоню. Вы, конечно, остановились в «Син-Хиросима»?
– Да.
– Ну что ж, хорошо… До свидания, – сказала она и вдруг поклонилась, как кланяются здесь лишь одни старики и старухи, – с достоинством, грациозно, так низко, как если бы Ушаков был какой-нибудь очень важной особой. – До свидания, Ушаков-сан… Доброй ночи!
– До свидания, Юкико! Спасибо за вечер…
4Ушаков шел один спящим городом и был так одинок, как если бы весь этот город вымер и он, чужеземец, был единственным его жителем.
Мелочные лавчонки, кофейни, аквариумы для любителей ловить рыбу удочкой, помещения для игры в маджану и «пачинко», бани для бедноты, разделенные ситцевой занавеской на две половины, для мужчин и для женщин, – все было закрыто или уже закрывалось, завинчивалось болтами, на двери и окна спускались тяжелые железные шторы, гасились последние фонари, и шаги Ушакова под круглыми сводами торговых пассажей раздавались во тьме оглушающе звонко, даже хищно, как выстрелы.
Он приглядывался к провалам подъездов и к теням, отброшенным от деревьев, и вдруг замечал в темноте какие-то чуть очерченные фигуры. Полицейского в светлом шлеме, с заложенными за спину руками в перчатках, набеленной, накрашенной женщины – лицо ее было, как маска, – возле чайного домика, увешанного фонариками и флажками. Пожилого японца, сидящего на корточках возле темной стены – в ожидании счастья. Его добрая, неосмысленная ощеренная улыбка была как бы отсутствующей: человек, вероятно, витал в облаках неизвестного Ушакову наркотика.
Днем чужие, незнакомые города – как открытая книга, и все в них как будто понятно. А ночью, особенно на окраинах, тебя все пугает, как будто плывешь по огромной реке: невидимые препятствия, чудовища, выползающие из своих темных нор, подводные камни, и пни, и коряги, волосатые водоросли, цепляющиеся за руки… Кажется, вот-вот мимо твоего лица проскользнет что-то мерзкое, леденящее душу. И вдруг – яркий свет проезжающей мимо машины, подъезд и двое влюбленных. Все так просто, знакомо, совсем как в Москве!
«Да, странный был вечер… И очень хороший», – решил Ушаков. И чувство товарищества и уважения к такой независимой маленькой женщине не покидало его всю дорогу, пока он шел в гостиницу через мост к парку Хейва.
5Войдя к себе в номер, Ушаков принял душ и лег на кровать, наслаждаясь прохладою «танки соти»[15]15
«Танки соти» – установка для кондиционирования воздуха (японск.).
[Закрыть] после вязкой, тугой духоты хиросимских улиц.
На стук двери, на шум падающей воды из соседнего номера примчался Васюта Антонов, в японском халате на голое тело, с косматыми волосами на голой груди. Он и здесь, в охлажденной, искусственной атмосфере отеля, дышал трудно, с усилием, и все вытирался большим желтым платком в темно-синюю клетку.
– Ну что? Нагулялся? – спросил он завистливо. Сам он сидел за бумагами, переводил на японский какие-то документы.
– Нагулялся. Угу…
– Я ждал, ждал… Потом мы с шефом поужинали без тебя… Спагетти с томатным соусом.
– Молодцы! Очень рад за вас.
– Завтра здесь завершаем работу – и в поезд. – Васюта любил сообщать всегда самые свежие новости. – На остров Кюсю. В Нагасаки.
– Отлично.
– Ты чем-нибудь недоволен?
– Ничем.
– Я включу телевизор?
– Пожалуйста, если хочешь.
– Слушай, нет ли у тебя чего-нибудь почитать? Развлекательно-утешительного?
Васюта томился по вечерам, не зная, куда девать свои силы. После вежливых, но достаточно утомляющих споров на конференции, экскурсий, хождений, визитов и суеты, осмотров, приемов, он мог еще до рассвета бродить из номера в номер, разговаривая о пустяках, дымя сигаретой.
– К сожалению, кроме Библии, ничего.
– А что! Это мысль… Прекраснейшая из книг!
Он взял библию с такой радостью, словно в номере у него самого не лежала в столе совершенно такая же, обязательная, как гостиничный инвентарь, как блистающий никелем, кафелем и фаянсом, похожий на лабораторию туалет или как телевизор, – знаменитая книга на двух языках, на английском и на японском, на тончайшей бумаге, с изысканным и ласкающим глаз мягким, жирным шрифтом.
Васюта уселся, развалясь в низком кресле, близоруко приблизив к страницам расплывшееся в толстой щетине лицо.
– Ты только послушай, что тут написано! – вскричал он вдруг радостно, оживленно, оборачиваясь к Ушакову. – Вот комики!
– Да?
Но Антонов уже не откликнулся больше. Он весь погрузился в чтение книги, заглядывая то в японский, то в английские тексты, что-то сравнивая, выбирая.
Ушаков сел рядом с ним смотреть телевизор.
Рекламировали часы, потом транзисторы. Потом парень в белой рубашке спел песню «Сакура, сакура…». И сразу, без перерыва, пошли кадры хиросимской кинохроники.
Он увидел себя самого и совсем еще раннее утро, но дымное, жаркое, без единого дуновения ветра. Иностранные делегаты выходят из «Син-Хиросима» и группами направляются на гражданскую панихиду к дуге сенотафа. Здесь, на площади Мира, море голов и море цветов, транспаранты и флаги. И торжественный шаг мэра города, направляющегося к микрофону. И весь этот скорбный церемониал возложения венков. И камешки серой обкатанной речной гальки, поскрипывающей под ногами, – обычная, ничем не приметная галька, знаменитая только тем, что положена на дорожках вокруг сенотафа по счету: сколько тысяч убитых, столько и камешков. И так странно ходить и слушать под собственными каблуками их скрипение и шорох…
И минута молчания.
И венки, венки… Стаи белых голубей над парком. А чуть выше их подобными же концентрическими кругами – полицейские вертолеты. Вот закончена официальная часть, потянулась длиннейшая очередь из сотен людей: у каждого в руке букетик цветов и зажженная курительная палочка. Пряный сладкий дымок чуть струится в расплавленном золоте солнца: жертвам атомной бомбардировки…
На экране все шло в той же самой последовательности, как это уже происходило сегодня: отвесное солнце слепящего полдня, клубы пыли, мелькание знамен и флажков, движение к центру города многих сотен людей, и каждый из них с повязкой на лбу и написанными на ней призывами к единению.
– Глянь, Вася, и ты здесь! – сказал Ушаков.
В самом деле, они шли по экрану среди демонстрантов, Ушаков и Васюта. Один рослый, высокий, другой низенький, толстый, оба в мокрых от пота, измятых рубашках. А вокруг курчавая вязь иероглифов, гирлянды бумажных цветов, флаги, лозунги на транспарантах. На трибуне, над всем этим пыльным, движущимся, суетящимся – снежно-белые пряди волос человека, пережившего атомную бомбардировку.
– Профессор… А это канадец… И Эрик попал на экран!
– Ну, и Эрик? – Васюта с трудом оторвался от книги.
Перед ними на экране вертел головой темноглазый смеющийся мальчуган – он приехал на конференцию из Канады с отцом, сторонником мира, Операторы время от времени подолгу держали мальчика в поле зрения, неотступно ведя вслед за ним объектив. А тот грыз большое, красивое яблоко и чему-то посмеивался, поблескивая глазами, видно очень довольный скоплением машин, ревущих на перекрестках, громким пением демонстрантов и всей этой пыльной, грохочущей кутерьмой.
Толпы шли нескончаемо, занимая всю проезжую часть мостовой крепко сомкнутыми рядами.
– Слушай, Коля, что тут написано, – сказал вдруг Антонов, отрываясь от книги. – Понимаешь? Бог решил уничтожить всех жителей двух городов… В наказание за грехи… И вот, значит, некто с тоскою взмолился: «Господи! – значит, он говорит. – А если там есть хоть пятьдесят праведников, неужели ты и их погубишь?» «Нет, – сказал господь. – Я ради них помилую город…»
Ушаков с детства помнил эту притчу, впервые услышав ее от бабки, читавшей всю жизнь одну только эту старинную книгу, и круглое, потное лицо Антонова, исполненное восторга от возникших ассоциаций, сейчас показалось ему похожим на то, бабкино, морщинистое и худое, с птичьим носом и желто-коричневыми кругами вокруг темных глаз.
Пятьдесят праведников для того, чтобы спасти целый город… Это много или мало? Почему пятьдесят, а не сто или двести? Из какого расчета? А если в каком-нибудь стратегическом центре святых, честных людей окажется меньше нормы, что тогда остальным, грешным гражданам делать? А ежели праведник вообще всего только один? Неужели и он тоже должен погибнуть?..
– По-моему, здесь, в Хиросиме, старик обсчитался, – сказал Ушаков. – А может, действительно, в каждом городе их всегда сорок девять?.. Ты как думаешь, Вася?
– Все возможно, – ответил Антонов. – Ты же знаешь хорошую поговорку. Когда хотят убить свою собаку, говорят, что она разбила горшок…
6Утром, чистовыбритый, вымытый, в свежей рубашке, Ушаков, ровно в восемь, спустился к завтраку в ресторан при отеле. Стаканчик грейпфрутового сока, овсяная каша, кофе, поджаренный тост со сливочным маслом привели его в хорошее настроение. Он ласково улыбнулся хорошенькой переводчице, работавшей с англичанами и взглянувшей на него из-за чьей-то массивной спины смеющимися глазами. Всюду слышалась разноязычная речь; французы, американцы, англичане, югославы, индийцы, цейлонцы – все кивали друг другу приветливо, дружески. Слышался шорох крахмальных салфеток, звон тарелок, стук вилок, ножей.
– Как спалось?
– Ничего. Хорошо… Домо аригато![16]16
Домо аригато! – Большое спасибо! (японск.)
[Закрыть] – Это как-то уже по привычке. За день тысячу раз – в шутку, если между собой, и растроганно, удивленно, благодарно, всерьез, если это с японцами: всего два варианта изученных слов: «Домо аригато» и «Вакаримасэн»[17]17
Вакаримасэн – не понимаю (японск.)
[Закрыть]. Ну, еще иногда, с напряжением: «Гомэн кудасай!»[18]18
Гомэн кудасай! – Прошу прощения, разрешите! (японск.)
[Закрыть]
– Сейчас будем принимать декларацию…
– Отлично. Тексты розданы?
– Да.
После завтрака конференция продолжалась спокойно, без всяких эксцессов. Ораторы поочередно вносили поправки. Несогласные тут же, немедленно, возражали. Постепенно опять возникала дискуссия, все шло по шаблону, как и следовало ожидать. Ушаков, сидя в кресле за общим столом делегаций, оглянулся: бесшумные, словно призраки, работники пресс-бюро разносили от стола к столу только что переведенные на три официальных языка конференции – английский, французский и японский – выступления глав делегаций, и каждый глава, не откладывая, изучал уже перевод, сверяясь по тексту.
«Мир…» «Миру…» «О мире…»
Это слово повторялось здесь так же часто, как вдох или выдох. Он и нужен был всем народам, приславшим сюда своих представителей, как воздух для легких. На развалинах Хиросимы, на застроенных, восстановленных ее улицах это слово звучало по-особому твердо.
Ушаков, заслонившись от яркого света рукой, машинально расчерчивая закорючками белый листок бумаги, внимательно слушал ораторов.
Война представлялась ему гигантским чудовищем. В сорок пятом году ее наконец-то загнали под землю – в надежде, что там она задохнется, помрет. Но она не погибла без пищи и воздуха, как не гибнут бактерии, возбудители разных болезней, даже в космосе, как сегодня доказано точнейшими, удивительными приборами, а спустя столько лет по-прежнему полна злобной силы, и вот в этот прекрасный свежий утренний час, может быть, она где-то под полом, под зданием, где идет конференция, пробивает себе в потемках дорогу, пробирается сквозь пески и гранитные скалы, прогрызает их, точит зубами, чтобы выползти на поверхность, как она уже выползла на поверхность во Вьетнаме. И кто знает, где и когда она прогрызет, просверлит себе еще один новый ход и выйдет на волю?! В какой это будет привыкшей к спокойствию тихой, мирной стране? На Ближнем Востоке? В Корее? В африканских саваннах? А может, на севере, в бесконечной полярной ночной темноте? Чьи дети погибнут от первого взрыва?
«Слушай, милый! – хотел сказать Ушаков оратору, выступающему с какой-то хитроумной поправкой, сводящей на нет все достигнутое за три дня напряженной работы. – А ты пойдешь за свою поправку на вражеский пулемет? Ты готов ее грудью своей защищать? Я так думаю, нет… Но видишь ли, загребать жар чужими руками – это каждый умеет…»
Он припомнил вчерашних рабочих, шагавших с ним рядом по улицам Хиросимы, потом ночной митинг и сотни людей, громко бьющих в ладоши и мечущих гневные выкрики против войны во Вьетнаме, против атомной бомбы. Смуглые лица, облитые потом, выхваченные из темноты светом ярких прожекторов, были яростны, напряженны, люди хором кричали: «Хейва! Хейва! Хейва! – Мир! Мир! Мир!» Ведь не кто-нибудь, а они, хиросимцы, уже умирали и еще умирают от атомной радиации…
Очень многие из участников митинга шли сюда, в Хиросиму, из других префектур, из различных, весьма отдаленных районов страны, пешком, маршем мира. Это был их собственный маленький подвиг в защиту Вьетнама – по извилистым горным дорогам, вверх и вниз, из долины в долину, под дождем, под отвесным, сжигающим солнцем, и не день, и не два, иногда без еды и без крова, позабыв о семье и лишившись работы…
Ушаков вчера крепко жал руки этим маленьким, желтым, морщинистым людям, обгоревшим на солнце, но весело улыбавшимся. Он завидовал им, их воинственной напряженности, их серьезному, страстному отношению к делу. Помогая совсем не оружием – только словом, далекой, почти неизвестной стране, где горят от напалма деревни, гибнут в грохоте бомб незнакомые люди, эти смуглые до черноты паломники мира терпели немало лишений в своей долгой дороге, а некоторые из них могли и погибнуть.
Солидарность – суровое, трудное чувство. В нем заложено слишком много надежд, и, наверное, люди не раз еще будут стоять под пулями, осыпаемые насмешками, – погибая не ради корыстных своих интересов, а во имя свободы какой-нибудь отдаленной страны.
– Николай Николаевич, – сказал, обращаясь к Ушакову, глава делегации академик Георгий Иванович Романов, высокий, с кудлатой седой головой человек. – Мы сейчас здесь закончим всю эту торжественную процедуру, а вы вместе с американцами поезжайте на митинг. Они просят выступить…
– Хорошо, – сказал Ушаков. – Я готов! – Он взглянул на часы. Потому что как раз на это время – всего лишь минут на пятнадцать позднее – он назначил в гостинице встречу с Юкико, приготовив ей маленький сувенир. Если он сейчас уедет на митинг, значит, больше ее никогда не увидит. Ушаков вдруг представил себе, что подумает Юкико-сан, если он не придет…
– Хорошо, – сказал он Романову. – Раз надо, так надо!
– Да, да, пожалуйста! – ответил тот, чуть кивнув головой.
Ушаков стал набрасывать текст предстоящего выступления.
В ложе прессы уже поднимались со своих мест обвешанные фото– и киноаппаратами газетчики и телерепортеры, приготовившиеся к съемке заключительного момента – подписания декларации и закрытия конференции, когда Николай Николаевич вместе с Васютой Антоновым направился к выходу.
Американцы – двое высоких широкоплечих мужчин и красивая загорелая женщина с рассыпанными по плечам волосами – давно уже ждали их в холле внизу.
Отстав от Васюты, Ушаков вдруг пошел не к двери на выход, а к маленькому кафе в глубине стеклянного холла.
– Ты что, потерял, что ль, чего? – окликнул его Васюта.
– Нет, Вася, нашел, а не потерял, – ответил торжествующе Ушаков и расплылся в улыбке. Он увидел Юкико. Она стояла возле стойки бара, в строгом светлом костюме, причесанная по-европейски, с прямой низкой челкой, и пила через соломинку лимонад.
Заметив идущего к ней Ушакова, Юкико, покраснев, отставила недопитый запотевший стакан.
– О! Здравствуйте… – сказала она, улыбаясь. – Вы уже уезжаете?
– Нет, я еду на митинг, Юкико-сан, дорогая, а когда вернусь, право, не знаю. Наверное, прямо к отходу автобуса. Получается нехорошо…
– Нет-нет, ничего, – успокоила она Ушакова с терпеливой улыбкой. – Я вас подожду.
– Мне как-то неловко заставлять вас одну здесь сидеть. Я не знаю, как много займет это времени.
– Но к поезду-то вы приедете?
– Да. Конечно.
– Ну вот, я вас и провожу. Я сегодня свободна, отпросилась с работы…
– Хорошо. Постараюсь вернуться пораньше.
Она была очень красива, эта женщина, а он, Ушаков, сколько помнил себя, был неловок и некрасив. Он подумал: «Конечно… За мною большая страна, она любит Россию… Сам-то я здесь уж совсем ни при чем!» И он крепко пожал ее тонкую, узкую руку.
– Спасибо, Юкико-сан, что пришли. Мне так много вам нужно сказать… Буду рад, если вы подождете…
Васюта Антонов, тяжело отдуваясь, вернулся за ним с улицы, весь мокрый от пота, вытирая лицо большим белым платком.
– Ты чего здесь так долго? Тебя ждут.
– А где они?
– Уже сели в автобус.
Ушаков еще раз с подножки автобуса оглянулся на двери отеля, помахал рукой Юкико. Почему-то ему захотелось хорошего отношения и к себе, а не только к России. Ну, может быть, не хорошего, это громко сказано, просто лучше, чем равнодушие…
Еще в школе, подростком, сидя на измятой траве волейбольной площадки, Николай Ушаков подолгу раздумывал: а как догадываются девчата, что он некрасив? Они попросту не замечают его – и все.
Это было печальным открытием.
Оказалось, что в жизни, кроме рук, ног и мыслящей головы, еще нужно счастье, которое находится не в тебе самом, а где-то вовне – неустойчивое, неуловимое, не похожее ни на деньги, которые можно всегда заработать, хотя бы тяжелым трудом, ни на орден, добытый подвигом, с риском для жизни, ни на сытость после вкусной еды, ни на хмель, ни на сон. Оно, видимо, и приходит совсем не к тем людям, которые его ждут, упорно, с надеждой, стремясь заслужить, потому что оно не заслуга и не награда, а просто дыхание милой, родные глаза, поцелуй…
Повзрослев, Ушаков бестрепетно принял себя таким, какой он есть.
Он много учился, читал, много думал. Пришли первые радости настоящего мужества: весь ревущий, грохочущий от моторов аэродром, необычное чувство парения, рывки парашюта. Небо тоже было как счастье – не заслуга и не награда, но влекущее и большое, и померяться силами с его восходящими и нисходящими токами было истинным делом мужчины, испытанием воли. Ушаков уже знал счастье локтя, большой, крепкой дружбы, взаимного уважения. Счастье грозного поединка с голубой высотой.
Он не знал только лишь одного: что за всякое счастье, даже самое небольшое, обязательно нужно платить. Эта хрупкая, ненадежная штука всегда выдается в кредит. Сперва вроде бы ни за что. Просто выпало тебе счастье, ну и пользуйся им на здоровье, наслаждайся, дыши! А потом выясняется: будьте добреньки, кровь и слезы, и друг погибает у тебя на глазах, и обрывки шинели и комья глины в большой, рваной ране, последний сухарь, разделенный на четверых, последний костер, последняя ночь…








