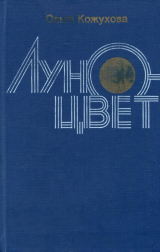
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Война длилась 1418 дней.
Многое помнится…
Но я никогда не забуду и ту ночь – накануне. Накануне войны. Самую короткую в году, почти белую, теплую, смутную от волнения, смеха и беготни, от живого, веселого шума, который предшествует властной, глубокой, завершающей тишине.
Я сижу на скамейке в большом школьном зале, рядом со шведской стенкой, окрашенной масляной краской в ядовитый голубой цвет, и не чувствую боком ее деревянной ребристости. Потому что минута настала торжественная. Вот сейчас… Сейчас прозвучит и моя фамилия по алфавиту – и мне тоже вручат аттестат, И я стану взрослой. Серьезной. Свободной.
Да, минуту спустя и я отхожу с аттестатом в руках от стола, за которым сидят наши учителя, наш директор школы, гости из гороно, мамаши из родительского комитета.
Я действительно уже взрослая! Я свободна, свободна! Свободна от давно надоевших уроков, от примеров на грамматические правила, от диктантов и сочинений, от решения задач по алгебре и геометрии, от звонка, зазывающего нас за парты. Я свободна от сурового, строгого взгляда нашей классной руководительницы Катерины Ивановны, которую мы тайком, за глаза, называем почти что почтительно: Кити. Что может быть прекраснее этой свободы – пройти независимо мимо Кити и знать, что она уже больше не властна над моей душой, над моим неуломным, углами, характером, над моим маникюром, таким скромным, чуть розовым, – чем он ей помешал? – над моей прической – вся в локонах, как у Милицы Корьюз, – над всей моей новой жизнью, уже не школьницы, а, возможно, студентки университета, над моими стихами, над тревожно-летящими снами, над романом, засунутым под подушку…
Да, я взрослая, взрослая, Катерина Ивановна! До свиданья, прощайте! Не грустите о нас. А уж мы-то, на полной свободе, о вас не забудем. И, наверное, не загрустим в этой сладостной, предстоящей разлуке…
Ночь в распахнутых окнах чуть дремлет, загустев лишь немного, ненадолго в темных кронах деревьев по улице Комиссаржевской. Последняя ночь, а верней, затянувшийся вечер, перешедший из медлительных июньских сумерек, из серебряного полумрака, прямо в теплое, летнее, душноватое утро.
Я оглядываюсь на своих одноклассников, на парней и девчат. Нет, прощаемся мы без скорби… Ну, подумаешь, эти лица! Ты их видела в течение долгих десяти лет – на каждом уроке, на каждой перемене, на каждом собрании. И вот, думается, и опять будешь видеть их – и не год и не два, а всю жизнь, ведь живем в одном городе! Значит, будем встречаться на проспекте Революции, – весь Воронеж встречается на проспекте во время вечерних прогулок, когда группы гуляющих движутся встречными волнами, с разговорами, смехом, с шарканьем многих сотен подошв, с ароматом духов, табака и политых из шланга газонов. Ты их встретишь, эти знакомые лица, и в театре, на премьере. И в очереди в магазине. И на танцах в Студенческом. Или в парке культуры. А кроме того, ведь мы все собираемся учиться дальше: кто в ВИСИ – Воронежском инженерно-строительном институте, кто в мединституте, кто в СХИ – сельскохозяйственном институте, кто в институте иностранных языков, а кто в зоовет – зооветеринарном, – выбор у нас в городе большой, обязательно с кем-нибудь да встретишься на лекциях или в читальне, не с одним, так с другим, снова будешь еще издали насмешливо примечать чей-нибудь рыжий чубчик, веснушки или черную, хмурую соболиную бровь.
К утру в том же самом школьном зале, на длинном столе, накрытом скатертью, подан чай. Конечно, не чай, а портвейн, разнесенный под видом остывшего чая: «А вы выпейте… Пейте, пейте, мы сейчас погорячей принесем!» Крепок чай, хотя и остыл, обжигает тебя с непривычки, а ты щуришься и смеешься каким-то неловким, чужеватым смешком: ну и ладно! Ну и что? Ну заметила Кити, как я сморщилась при глотке, но ведь больше не скажет уже ничего. Вон она и сама, выпив чашечку, а вернее пригубив, тоже сморщилась – и засмеялась. Взяла для блезира варенье и ложечкой стала его осторожно размешивать…
А потом под широкими тополями мы идем по проспекту, взявшись за руки, одной длинной цепью, и поем, будоражим весь город. Постовые милиционеры только скорбно покачивают головами, но сказать ничего не решаются. Они тоже, как Кити. Как же! В жизни у человека бывает лишь один выпускной вечер, самый главный – из школы. Второго такого уже не случится. Позади твоя юность, впереди – уже взрослая, мудрая жизнь…
На площади Двадцатилетия Октября, у памятника Ильичу, мы, напевшись и наплясавшись, наконец, расстаемся. И хоть кто-нибудь на прощанье крикнул бы вслед: оглянись! Скорей оглянись – и запомни эту площадь и купы деревьев Кольцовского сквера, этот памятник Ленину, эти колонны обкома – квадратные, из черного мрамора. Потому что так скоро здесь будут одни только развалины, дым пожаров, бомбежки… Да, запомни, пожалуйста, их и себя! Ты ведь тоже не будешь такой никогда. И твой город не будет уже больше таким. И страна, что сейчас просыпается, и народ, они тоже не будут больше такими, как прежде, а в другом измерении, нам доселе неведомом, в новом качестве, – в жизни и в смерти, уже на войне…
А я этого в ту минуту не знала.
Я пришла домой, сняла новое платье, аккуратно сложила его и улеглась спать на конике, на веранде, у большого окна. И заснула мгновенно. Ведь не думалось ни о чем. Все так было прекрасно…
Я потом вспомню этот час – между бытием и небытием миллионов людей, когда нам перед строем зачитают приказ, леденящий душу. Мы, курсанты, будущие офицеры, молча выслушаем приказ. Вечером начальнику курсов подполковнику Владиславу Ивановичу Кондыреву, сухощавому, стройному, подтянутому человеку, требовавшему от нас жесточайшей дисциплины и беспрекословного подчинения, легли на стол рапорты тех, кто считал себя коренным воронежцем: «Прошу отправить меня на Воронежский фронт, защищать мой родной, любимый город, оказавшийся в смертельной опасности…»
И всех нас снова построили, а рапорты зачитали.
«Вы будете воевать там, где прикажет Родина…»
…Когда я, наконец, выспалась после веселого, шумного выпускного вечера, позавтракала, принарядилась, чтобы опять идти в «город» (так у нас назывался центр, а жила я тогда на окраине, знаменитой шпаною и персидской сиренью Чижовке), уже близился полдень.
Над городом заходила гроза, туча ширилась, наливалась угрюмой, безжизненной чернотою, расползалась по горизонту, – и никто, ни один человек не воспринял ее мрачность, угрюмость ко всему прочему еще и фигурально. И вдруг хлынул ливень. Меня он застал на Никитинской площади в дверях фотографии. Дождь в прямоугольной раме дверей висел перед глазами длинным ровным стеклянным пологом, лишь на внешность расчерченным на отдельные полосы, а в сущности эти полосы плотно смыкались. Гром ревел, перекатывался по крыше, грохотал как-то очень уж звероподобно. По асфальту мостовой, по тротуарам, с кипеньем, вся мутная, грязная, с клочьями мусора мчалась вода. Она забивала собой все стоки. Струи ливня сшибали листву с тополей, – пряно пахнущим слоем, измятые, в рваных ранах, они толстым слоем лежали на тротуарах, на асфальте проезжей части, на рельсах трамвая, вместе с мусором мчались по улице, завивались холодными водоворотами возле стоков. Вода поднялась почти вровень с рельсами, с тротуаром.
А на площади, перед кинотеатром «Пролетарий», прямо под серебряной грушей репродуктора, – я это увидела все из тех же дверей, – стала скапливаться, собираться огромная, страшная в своей неподвижности под грохочущим ливнем толпа. Молча слушала голос по радио.
Война!
ЛУНОЦВЕТ
Счастливые люди гуляют,
А я за работой сижу.
Счастливые люди танцуют,
А я за работой сижу, —
Но все, что они не сказали,
Сегодня за них я скажу.
Счастливые люди смеются.
Страданье их, горе и смех
Лежат предо мной, как на блюдце,
А я их счастливее всех.
Уж так ли они бессловесны,
Уж так ли мы в горе смешны,
Что им не нужны мои песни,
А мне их смешки не нужны?
ФОНАРИКИ, ПЛЫВУЩИЕ ПО РЕКЕ
Повесть
Чужой город за окнами в душных сумерках разгорался цветными огнями реклам, волновал бесконечным шуршащим потоком людей и машин. После трудного дня напряженной работы Ушакова потянуло на улицу.
– Ну, ты, Вася, как хочешь, а я пойду.
– Пойди погуляй. За счет сна хоть всю ночь…
– Да нет, я ненадолго.
Он спустился по лестнице, прошел мимо боя, почтительно поклонившегося. Квадратные двери отеля раздвинулись автоматически – зеркальные стекла, светлый пластик, пушистый ковер, – пропустили Ушакова на улицу и снова задвинулись, оставив его одного в духоте и бензиновой вони огромного города, на мягком, расплавленном от жары тротуаре в бесчисленных оспинах от каблуков.
Он шагнул на мостовую и смешался с толпой. Но тотчас же оглянулся, чтоб запомнить дорогу.
Этот памятник в виде серой подковы они видели днем, когда ехали с вокзала, а потом у подножия его возлагали венки. Сейчас памятник оставался левей, заслоненный толпой гуляющих. Прямо против гостиницы мрачно темнело торцовой стеной бетонное остроугольное здание мемориала на квадратных тяжелых колоннах-ногах, нечто длинное, строгое и неуклюжее.
Впереди, за деревьями, была река Ота, и небо над ней клубилось тревожным дымящимся светом и этой тревожностью было странно знакомо. Оно почему-то напомнило небо войны под Москвой в декабре сорок первого года.
Постояв, посмотрев на багровые облака, отражающие непонятное, очень медленное перемещение источников света внизу, за деревьями, Ушаков долго думал, куда ему двинуться: для него все вокруг было одинаково любопытно. Но люди спешили куда-то направо, толпой проходя под колоннами мемориала, – мужчины и женщины, старухи и старики, нарядно одетые дети и даже собачки. И он тоже нырнул под бетонные своды угрюмого здания и вышел на площадь, посредине которой шумел и сверкал меняющий краски, подобно огромному хамелеону, совершенно не дающий прохлады фонтан.
Люди шли к нему толпами, торопливо. Но, дойдя до цветной, рассыпающейся воды, останавливались кольцом и так замирали надолго, почти неподвижно, словно что-то их завораживало в этом сложном движении, может быть, не его красота, не изменчивость, не покорность, а расчетливое постоянство, с каким эта теплая, дымная влага вдруг меняла по четкому графику то свой цвет, то свои очертания.
Созерцание этой безмолвной воды, текущей туда, куда ей прикажут, по-видимому, и завершало собой этот самый красивый из виденных Ушаковым и самый мучительный праздник – день памяти мертвых. Отсюда, от здания мемориала, люди шли уже по домам, к повседневным заботам, и больше не оборачивались на широкую площадь, освещенную разноцветным фонтаном, на разрушенный купол, на дугу сенотафа:[4]4
Сенотаф – символическая братская могила, памятник.
[Закрыть] человеку жить в обществе символов неуютно. Они иссушают горечью воспоминаний, а жизнь и работа есть жизнь и работа…
Ушаков отвернулся от пестрой, подсвеченной прожекторами воды: что ж, фонтан был как фонтан, а зрелище у него за спиною куда интересней! Там двигались, перешептывались и замирали у самой воды сотни людей – мужчины и женщины в разноцветных одеждах. Да, особенно женщины, изящные, грациозные, щебечущие, как птицы, на своем непонятном ему языке, в струящихся складками кимоно: рыбы, листья и розы на бледно-лимонном искрящемся шелке, серебряные цветы хризантем на розовом и голубом, золотые и черные маки на красном; пушистые длинные стебли растений, пунцовые, желтые, синие звезды.
Ушаков этих женщин рассматривал отвлеченно, почти как рисунки. Его удивляло лишь то, что они улыбаются совершенно реально и обмахиваются веерами, белолицые, узкоглазые, с подведенными, как шнурочки, бровями, в плотно стянутых поясах из парчи, прикрывающих грудь и спину, как десантника-парашютиста прикрывает надетый перед прыжком парашют. И одежда, и пояс, и обувь – деревянные гэта или дзори с одним ремешком вокруг пальца, надетые на носочки, – все это казалось настолько занятным и необычным, что он, Ушаков, должен был для себя расшифровывать их, как загадку: а что это такое, а это? Кто это такая, морщинистая, длиннозубая, седая старуха, которую все приветствуют, сгибаясь в изящном старинном поклоне, почти до земли, и при этом ревниво приглядываются друг к другу – а кто дольше не разогнется? – и тщеславно выдерживают длиннейшую паузу?.. Он видел морщинистых стариков, опирающихся о барьер у фонтана, важных дам с причудливыми прическами, с веерами и зонтиками, и студентов в простой европейской одежде, и девчонок-работниц, молоденьких и хорошеньких, когда главное украшение – молодые глаза, и улыбка, и смех, и этого беспричинного смеха за недели работы, видать, накопилось в избытке.
Здесь, в толпе было все: ожидание, неуверенность, любопытство, – а ему, Ушакову, хотелось увидеть на лицах что-то важное, непохожее, отличающее этих людей ото всех остальных граждан мира, от него самого, например, не видавшего, не пережившего всего того, что увидели и пережили они.
Нет, особенного в этих лицах Ушаков не нашел ничего. Люди просто шутили. Скучали. Жевали конфеты. Обмахивались веерами: у фонтана было душно и жарко, не прохладнее, чем где-нибудь в центре города с его вереницей машин. Только облако над фонтаном становилось последовательно то малиновым, то желто-оранжевым, то зеленым, да нарядно одетые мальчики с пробритым кружком на макушке и девочки в сшитых точно по росту хорошеньких кимоно подставляли ладони под брызги; в них все было взрослое, в этих пяти-, шести-, семилетних кокетках: и жест, и походка, и взгляд, который они, трогательно семеня, догоняя родителей, едва успевали бросить на бредущего в одиночестве иностранца.
Ушаков подмигнул двум таким улыбающимся черноглазым девчонкам («Ах вы, маленькие обезьянки!»), наблюдая, как точно, как радостно-грациозно копируют они взрослых, такие похожие друг на друга, словно кто вымерял и выделывал их по шаблону, в то же время такие не отличимые от матери и отца.
В самой этой точности сходства, в поразительном повторении внешности взрослых, в постоянстве преподанных им движений, манер и привычек веками сменяющихся поколений было, видимо, что-то очень большое и очень надежное: залог процветания, нестарения нации.
Сам он, Ушаков, не имел ни жены, ни детей и теперь уже не надеялся, что кто-нибудь повторит его мысли, походку, дурные привычки – о себе Ушаков размышлял почему-то критически, – и он повернулся и пошел от фонтана, огибая музей, снова к парку, к излучине Оты, откуда и поднималось над городом это странное зарево, словно дым от пожара.
Он дошел до реки, но на мост не поднялся, а свернул по песчаной дорожке вдоль берега, под деревьями, и встал у бетонного парапета.
2За деревьями, прямо по стрежню реки – может, то была Тенме, Хонкаве иль Мотоясу (Ушаков еще не знал всех названий каналов), – проплывал излучающий теплоту огонек. Это, видимо, был бумажный фонарик. И он был зеленый.
За ним следом тянулись малиновый и розоватый.
Чуть дрожащий, невидимый свет, защищенный бумажным квадратом, поставленным на скрещении двух щепочек на плаву, диковинно украшал эту темную реку. В трепетании чуть прикрытой бумагой свечи было что-то тревожное и одинокое; этот свет доносился, как зов, к человеку, стоящему на берегу.
Ушаков проследил за ним взглядом до самого поворота.
На мгновение на реке все померкло.
Вдруг огни потекли сверху густо, искрящимся ярким потоком от берега и до берега, медлительно завиваясь в тугие спирали, дрожа, шевелясь и волшебно мерцая. Кто-то их запускал в центре города по воде. Здесь, в излучине, они перестраивались на ходу то широкими полосами, то в затылок, в колонну, уходили по одному, и опять наплывали, все гуще, все шире, и опять распадались на желтые, красные и зеленые точки.
Из сумерек – в ночь.
Из каменных тесных набережных огромного, многолюдного города – в прибрежные воды Великого океана.
Разноцветные, яркие, казалось, они никуда не спешили. Течение в дельте Оты почти незаметно. Поэтому они плыли задумчиво, невесомые, чуть покачиваясь вразнобой на густой, маслянистой, как олифа, воде.
Мимо Ушакова вдоль берега прошла пара: он – высокий, широкоплечий, рыжеволосый, одетый по-европейски, она – тоненькая, изящная, в дорогом кимоно и затканном золотом оби. «Дзубэ-ко[5]5
Дзубэ-ко – женщина, не заботящаяся о своей репутации (японск.).
[Закрыть], – решил Ушаков. Но тут же подумал: – Да нет, не похожа».
– Подожди, я только взгляну еще раз, – попросил по-английски мужчина свою спутницу и, обойдя Ушакова, стал под тенью разросшихся длиннолистых плакучих ив. – Посмотри, как их много! – обернулся он к женщине и быстро привлек ее к себе, обнимая за плечи. – Очень странный обычай… И очень красивый! И каждый фонарик действительно означает погибшего человека, да, Юкико?
– Хай![6]6
Хай – да (японск.).
[Закрыть] – ответила женщина по-японски. Она едва уловимым движением отвела от себя его белую, длинно-палую руку и несколько отстранилась. Потом тихо добавила, как бы что-то подумав и что-то прощая стоящему рядом с ней человеку, объяснила ему: – У каждой погибшей души свой фонарик… освещающий путь!
Мужчина закашлялся, заколыхался во тьме: наверное, засмеялся. Он громко спросил:
– И ты веришь, Юкико, во всю эту чепуху? Вы странные люди…
– Мне странно одно: что я все еще живу, – ответила женщина. Она отвернулась от рыжеволосого спутника. – В тот день, – сказала она, – я видела здесь плывущими одни только трупы…
Ушаков оглянулся на скопления разноцветных огней. Да, он знал: много трупов плыло в тот день по реке, обожженных, со сползающим с костей мясом, с растекшимися глазами. Еще было много сгоревших, превратившихся в пар, в серый пепел, в бесплотную тень, отпечатанную на асфальте. Еще были мужчины и женщины, прикипевшие костями скелета к железу и камню, как бы сросшиеся в одно целое. Еще были умершие спустя много лет после взрыва и те, что болеют и умирают теперь в больницах, на улице, в жалких лачугах.
Он все это знал, но не видел глазами. Сейчас река Ота, забитая огоньками, живыми, кивающими из темноты, с покорностью истлевающими, уплывающими в океан – безвинно, бесцельно, безвестно, безвольно – сотни тысяч огней по семи рукавам, – казалась наглядней, чем школьная диаграмма!
Он припомнил другие – холодные – реки. Сколько их у него за спиной! Укрепленный фашистами берег Волги в декабре сорок первого под Калинином. Извилистая, в полыньях, разбуженная артобстрелом Угра в апреле сорок второго и трупы товарищей, вмерзшие в лед. Днепр, форсированный в ноябре сорок третьего ниже города Киева. Мутный Одер весной в сорок пятом году, Аурит, где солдаты сидели в залитых водою траншеях. Холодная, серая Эльба. Все они легли на пути у идущих к победе ледяным, обжигающим рубежом.
Ушаков тряхнул головой, отгоняя видение неизвестной речушки под Витебском, освещенной огнями сигнальных ракет.
За то время, пока он выплывал из собственных воспоминаний, как из черного небытия, здесь, рядом, поссорились, и женщина плакала.
– Ну что ты, Юкико! Ведь я пошутил…
Но женщина не отвечала.
Она стояла, прижавшись грудью к нагретому за день бетону, и смотрела на реку, погасшая и печальная.
– Ну что, в самом деле, сегодня с тобой? Ты шуток не понимаешь! Я тогда ухожу… До свидания! До завтра…
– До свидания! До завтра, – машинально ответила женщина.
– Ну, чего ты обиделась? – спросил снова рыжеволосый. – Чего ты молчишь? – Теперь он уже разговаривал с ней бранчливо. Потом повернулся и пошел прямо к мосту. – Саёнара![7]7
Саёнара – до свидания (японск.).
[Закрыть] – уже отойдя, крикнул он.
Но женщина ничего не ответила.
Тяжелыми шагами человек прошел к мосту, постоял над рекой. Силуэт его четко врезался в бледное, полуночное небо, потом его сбоку оплавило ярким светом проезжей машины, и горячая, банная мгла поглотила его, может быть, навсегда.
Река шевелилась, щетинилась, горбилась от скопляющихся на излучине, наплывающих сверху огней. Среди этих пестрых, мерцающих скопищ, малиновых, желтых, зеленых, что-то вспыхивало, перебегало, словно кто-то кого-то искал, но не мог найти, и, сгорая, взывал и молил о пощаде.
«Наверное, война не кончается и не продолжается, – решил Ушаков. – Она живет в нас… А иначе о чем этой женщине плакать?»
Он не мог отойти от бетонного парапета.
Кто их знает, каким заблудившимся душам освещают вот эти фонарики путь?
Может быть, в самом деле какой-то из этих огней, ну хотя бы зеленый, был красивым мужчиной. А вот этот, чуть-чуть розоватый, – молоденькой женщиной. А вот это, наверное, души детей. Вот они взялись за руки и, приседая, тихо кружатся на медлительной темной дегтярной воде: раз-два-три, раз-два-три… И вдруг словно спохватываются, вспоминая печальное свое назначение, сокрушенно покачивают головками и с большой неохотой, как бы делая очень нелегкое дело, снова тихо вытягиваются чередой, один за другим.
Освещение на аллеях уже выключалось, и парк Хейва пустел. И женщина, все еще стоявшая рядом, с сухим треском сложила сандаловый веер и хлопнула им по пальцам, как бы что-то отчеркивая от себя.
Ушаков пригляделся к ней искоса, пытаясь понять, кто она, такая красивая, молодая… Продавщица из универмага, из так называемого «депато»? Может быть, секретарша из богатой конторы, чертежница или швея? Кимоно ее очень нарядное, дорогое. Но ведь все японки во все времена умели одеться. Даже самые бедные. Да и кто в такой день не достанет из шкафа свое лучшее платье?
Ушаков закурил, чиркнул спичкой, и женщина опасливо покосилась в его сторону, только теперь разглядев в темноте постороннего человека. Она прикоснулась рукой к парапету, как к живому, знакомому ей существу, и пошла по дорожке, ступая ногами в ослепительно белых носочках и маленьких дзори как-то очень легко и волнующе мелко.
– Простите, пожалуйста, – вдруг сказал Ушаков. – Гомэн кудасай. Тёттэ маттэ кудасай…[8]8
Гомэн кудасай. Тёттэ маттэ кудасай… – Простите, пожалуйста. Подождите немного… (японск.).
[Закрыть] – повторил он уже по-японски, опасаясь, что женщина его плохо поймет или неправильно истолкует его неуклюжее от застенчивости движение.
– Yes?[9]9
Yes – да (англ.).
[Закрыть] – Она на мгновение приостановилась, вскинув глаза.
– Вы тоже пускали сегодня фонарики по реке?
– Да, – кивнула она и взглянула на реку.
– Кто у вас здесь погиб?
– Мать… – сказала она и замолкла надолго. Потом повторила: – Мать, отец… два брата, сестра…
– Со дэс ка![10]10
Со дэс ка! – Вот как! (японск.).
[Закрыть] – только и нашелся Ушаков. Он всегда цепенел и терялся при виде безмолвных женских слез. – Я, наверное, сказал что-либо не так, ради бога, простите!
– Нет, нет! Ничего… Это я виновата… – И женщина наклонилась, чтобы слезы падали не на драгоценный шелк кимоно, а на землю. Улыбнулась смущенно: – Сейчас все пройдет…
Она успокоилась, вытерла щеки.
– Вас, кажется, зовут Юкико-сан? Я нечаянно слышал…
– Да. А вас?
– Николай Николаевич.
Она повторила старательно:
– Никорай Никораевич.
Это было забавно, и он усмехнулся. Она удивилась:
– Так, значит, вы русский?
– Да, русский, конечно.
– И к нам, в Хиросиму, приехали из Москвы?
Теперь Юкико-сан доверчивее взглянула в глаза Ушакову.
– Я люблю вашу… вашу… Россию! – сказала она. – Вы, наверное, к нам приехали на конференцию в защиту Вьетнама, против атомной бомбы?
– Да, Юкико-сан. Вы просто-таки молодец и все угадали!
– Бывает, и обезьяна падает с дерева, – пошутила она над собственной необыкновенной догадливостью. – Ведь я слушаю радио, смотрю телевизор…
Травянистого цвета, расшитое золотом ее платье в полумраке сливалось с листвою цветущих кустарников и деревьев, мимо которых они проходили. Лишь белые таби[11]11
Таби – японские носки из плотной материи с отдельно обшитым пальцем.
[Закрыть] Юкико мелькали отчетливо, как в стихах о прославленной Садо Якко: его спутница, по-видимому, и не подозревала, как была близка к тому, созданному поэтом экзотическому образу!
Они взошли на мост Хейва и постояли на нем, провожая глазами уплывающие фонарики. Эти два завораживающих движения – движение воды и движение огня – были соединены очень просто, но как били по сердцу! Ушакову, застывшему у перил, показалось сейчас, что и он уплывет куда-то в безвестность, в тягучую бесконечность субтропической ночи.
Он спросил:
– Ну а вы, дорогая Юкико… Вы тоже были здесь, когда сбросили бомбу?
– Да. Но только я была чуть подальше от эпицентра. Я гостила у бабушки. Но я тоже… горела, – она показала на плечи и ноги.
– Сумимасэн![12]12
Сумимасэн – извините (японск.).
[Закрыть]
– Нет-нет… Ничего! Я не делаю, как другие, из этого тайны!
Ушаков понимающе склонил голову.
В здешнем атомном госпитале он видел келоиды – следы этих страшных ожогов: малиново-красные и сине-лиловые пятна – в уродливо стянутых шрамах-тяжах. Они ясно представились ему и сейчас, одинаково жуткие и на старческом, дряблом, и на девичьем, молодом, нежном теле, этот дьявольский знак, безобразящее тавро. Все мужчины и женщины, пережившие атомную бомбардировку – их здесь называют х и б а к у с я – прячут атомные увечья, как что-то постыдное, о чем никто никогда не должен узнать. Иначе кому-то не выйти замуж и не жениться, а может быть, не найти и работы…
Ушаков вдруг припомнил свои золотые нашивки, полученные за ранения. Что ж, он тоже теперь их не носит! Потому что когда-то, еще в сорок пятом, один пижон покосился насмешливо, а он, Ушаков, застеснявшись угрюмо, почему-то стерпел. А нашивки носил, лишь пока по-студенчески не истрепал гимнастерку. Потом, заказав себе новенький штатский костюм, на пиджак этих желтых и красных полосок не стал нашивать: ладно, нечем хвалиться, не бог весть какая награда! Вся страна воевала…
– Я вообще ничего не скрываю, – сказала Юкико. – Я член клуба хибакуся, я участвую во всех митингах и демонстрациях против атомной бомбы… Я хожу на молитвы в честь павших… Простите, – сказала она. – Мне кажется, я вас видела в монастыре. Вы присутствовали на молитве?
– Да, – сказал Ушаков. – Я там был. Я был на молитве…










