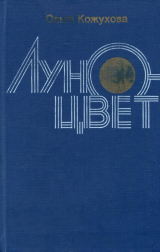
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
– Но, – сказала другая, в гипюровой кофточке, – только не обнажайте молочные железы. Это очень опасно…
23Лодки с черными парусами в Токийском заливе. Черные хребты островов, словно спины гигантских чудовищ, то шерстистые от могучих лесов, то скалистые, вырезные, как петушиные гребни. Последний маяк на последней, едва различимой в тумане скале.
Вот и кончились эти дни, этот яркий, насыщенный всеми красками, запахами и движением сон. Еще можно, если плотно прикрыть ладонью глаза, удержать в смутной памяти эти смуглые тонкие лица, сохранить теплоту протянутых дружеских рук. Но тысячи километров, разъединяя, пролягут между сердцами такими таежными дебрями, такой океанской неизведанной глубиной, такими ущельями и хребтами, что нет и не может быть настоящей уверенности в том, что сохранишь в себе навсегда эту сложную, бурную музыку настроений и чувств, эту радость сознания, что ты в мире не одинок, что ночная печаль одинаково душит каждого, проходящего ночью по городу, а за встречными взглядами, за мгновенной улыбкой незнакомого тебе человека одинаково многозначное чувство привета.
Тучи, тучи с востока, тяжелые, низкие тучи. Ветер гонит крутую, зеленую, в мыльной пене волну. И уже не увидеть причала в задымленной Йокогаме, с размокшими под дождем обрывками серпантина, с нарядной толпой, не разглядеть стоящей у края на пристани женщины – человека, пережившего термоядерную войну.
Где-то там, за тяжелыми, низкими тучами, город, вставший из пепла, с белым каменным богом на высокой горе и серой дугой сенотафа внизу, на скрещении дорожек, усыпанных галькой, положенной строго по счету.
Я не камушек, под скрипящими, равнодушными каблуками, я живой человек. Со своими невзгодами и надеждами, со своей странной верой, что всегда существует прямой, честный путь. Он нередко проходит во мраке, над бездной, но поэтому надо найти в себе мужество – и идти и идти, не сбиваясь с дороги.
Хиросима, любовь моя… Ты прошлое или будущее человечества?
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
Из дневника писателя
* * *
Восьмого мая я разбудила мужа – ветерана Великой Отечественной – в четыре часа утра.
– Вставай, война кончилась!
Он сперва ничего не понял, рассердился за то, что подняла ни свет ни заря, а потом вдруг все вспомнил, вскочил, и мы сели на кухне, и он от волнения закурил.
Тридцать пять лет Победы!
И мы вспоминали каждый день и каждый час, как мы встречали Победу. Были на одном фронте, чуть ли не в десяти километрах друг от друга, но в разных частях, и не были знакомы. И даже не предполагали, что потом встретимся и почти тридцать лет проживем вместе – без бурь и ураганов, в тихом, мирном быту, в полном счастье и в полном согласии…
Вспоминаем – и слезы на глазах.
* * *
Как волшебно точен наш русский язык! Как хороши русские поговорки, пословицы, сколько в них человеческого опыта, знания жизни, души! Как бы я жила без них?!
Ну, вот эта так прямо про меня: «С умным браниться – ума набраться, с дураком мириться – и свой растерять».
А эта разве не про меня: «Ни к селу, ни к городу»? Для села я слишком городская, для города – слишком деревенская.
И еще:
«Чужой дурак – веселье. Свой дурак – похмелье», – говорят в народе. Очень верное наблюдение.
А недавно услышала не менее удачное и точное:
«Чужой дурак лучше своего».
* * *
Самый большой для меня, самый строгий литературный критик нашелся в столовой у раздаточного окна. Прочитав мою книжку, она сказала:
– Козьма Прутков!
Это о «Доннике», вообще об этой форме прозы.
Так я стала Козьмой Прутковым.
Я даже подпрыгнула от радости. Вот бы мне и моим произведениям судьбу той, единственной книги Козьмы, – да о чем еще тогда и мечтать?! О чем жалиться и печалиться?!
* * *
С волнением смотрела кинофильм К. Симонова «Мы не увидимся с тобой». Переживала в эти, теперешние дни все заново, и свое и чужое. Удивляюсь только лишь одному: что за поветрие было на киностудиях лет десять – пятнадцать тому назад делать положительных героев с незапоминающейся или же даже отталкивающей внешностью? «Дегероизация» со всеми вытекающими из нее последствиями. Не жалеющая никого. Даже самых прославленных, даже самых заслуженных. Хорошо хоть женщину пожалели. Женщина красивая, какая и в жизни была.
И вспомнились его стихи:
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что так другие не назвали…
Веский довод и веский мотив. Он был мотивом поступков у многих и многих. Особенно после войны. А некоторые и смерть приняли за нее, за единственную, которую другие таковой не решались назвать.
* * *
Какая радость была просыпаться на заре и видеть на стекле венецианского окна широкий, похожий на распластанную лягушку лист винограда. Уже от одного этого листа приходила в хорошее настроение. А кизячного д впереди еще целое утро и долгие радости – радость каникул. И роса на траве, и запах ыма, и вкус свежего черного хлеба с парным молоком, сладкий солнечный день ничегонеделанья, когда в радость даже сбегать к колодцу за водой, хотя идти туда чуть ли не полкилометра. Или купаться в мутной, бурной реке, уносящей тебя, как соломинку, вдаль, вниз, до самого острова, до которого и на лодке-то не сразу доплывешь. А когда возвращаешься, мать только ахает на берегу:
– Пока ты сплавала туда и обратно, я здесь вся истлела…
* * *
Мать знала великое множество смешных, а то и не очень приличных историй о монашках и нищенках, о разорившихся богатеях, о пьяницах и ворах, о старухах, торгующих на базаре, и речь ее цвела и пестрела шутками, присловьями, необычными поговорками, какими-то понятными только ей намеками на события поразительные, необычайные.
Иной раз скажет фразу – и сама задрожит от смеха, и при этом вся сморщится так, что маленькие глаза превратятся и вовсе в узкие щелки, а мы и подавно уж держимся за животики, ибо знаем: сейчас она нам расскажет такое, что только держись!
Не будь ее приговорок да прибауток, суеверий да извечных «примет», да рассказов о пережитом, чем бы жили, чем наши души «питались» бы в голой степи?
* * *
Самое драгоценное для меня – читательские письма.
Большей радости я не знаю. И каких только чудес не приносила и не приносит мне почта!
Письмо из Рио-де-Жанейро, от товарища по школе, нашего посольского работника. Письмо с Асуанской плотины от дважды Героя Социалистического Труда… От летчика из полка «Нормандия – Неман». Мы с ними во время Великой Отечественной стояли рядом под Ельней, в одной деревушке. Вместе ходили смотреть кино в деревенскую конюшню… От летчика из Варшавы из Войска Польского. А я с Войском Польским разделила его боевое крещение под Ленино… И от… И так далее.
Почта мне принесла и двух Ольг Кожуховых, причем одна из них Константиновна и живет в моем родном Воронеже, на моей родной улице, только номера домов не сходятся. Я очень растрогалась, а мой муж хохотал до слез. Это значит, что он может «обновить» жену без лишних хлопот, взять себе помоложе, – ведь в паспорте у него записана женщина именно с этим именем. Но я усомнилась, охладила его восторг: «А вдруг это просто девочка, которая учится во втором-третьем классе. О возрасте моей тезки ведь не сказано ничего…» На что мой любимый ответил: «А я подожду, пока подрастет…» Не было веселее и прекраснее этого вечера. Мы смеялись до полного изнеможения, пока не уснули.
Вторая тезка живет здесь, в Москве. Но с нею дело гораздо сложнее. Это все бесконечно трогательно и интересно, а может быть, и драматично. Я пока не могу об этом писать.
Но почтовые радости приходят и не только от тезок. Пишут мне много особенно фронтовики, мужчины, и все бесконечно волнует и трогает в их приветах.
А есть и такие чудесные письма:
«Здравствуйте, Оля!»
Автор письма, видимо, не подозревал, не догадывался, что если Оля прошла всю войну «от звонка до звонка», то ей уже и лет немало. Так что надо, – «Оля» – да еще по батюшке. Вот так-то!
«Обращается к Вам рецидивист Митя».
Ну, это вообще из области фантастики! Я уже получала письма от рецидивистов, по крайней мере, один из них был осужден за три побега с тремя убийствами. Его письмо вообще надо хранить, как величайшую для писателя ценность. Жаль, что я не Федор Михайлович Достоевский!
Но вот продолжаю.
«Здравствуйте, Оля!
Обращается к Вам рецидивист Митя».
Дальше все идет как на какой-нибудь респектабельной пресс-конференции, где у писателя берут интервью.
«В связи с тем, что вся моя сознательная взрослая жизнь проходит вдали от общества, за колючей проволокой, и мне неведомо тепло женщины, ни физическое, ни душевное, у меня к Вам как к писателю, как к восприимчивому и принимающему все близко к сердцу доброму человеку, – судя по опубликованным Вашим субъективным мыслям, – наконец, как к женщине, имеется ряд вопросов, на которые, сделайте исключение, ответьте, пожалуйста.
Первое: что такое любовь? Я не шучу. И меня не удовлетворит ответ: «Нельзя ли спросить о чем-нибудь попроще» Или: «Сие есть великая тайна». Человек, который пишет, должен иметь свое мнение на этот счет.
Второе: что такое счастье? Согласен: вести разговоры о подобных нематериальных понятиях очень трудно. И все-таки?
Третье: возможна ли в жизни такая ситуация, когда человек виновен в совершении преступления, но наказанию не подлежит?
Четвертое: говорят, в обществе женщин мужчины становятся мягче, человечнее, что ли. Правильно ли это?
И, наконец, последнее: по-моему, Вам лет 45—50 (наконец-то, Ольга Константиновна!) и Вы мать и у Вас есть дети. Отказались ли бы Вы от непутевого своего сына или от непутевой своей дочери?
Конечно, понятие «непутевый» расплывчато и конкретно на него ответить нельзя. Тогда сформулируем вопрос так. Самое тяжелое преступление считается, и не без основания, измена Родине. В данном случае у меня вопроса к матери не будет. Если же человек совершит какое-нибудь другое преступление, за исключением измены Родине, может ли мать отказаться от этого человека?»
Цитируя эти строки из письма, я, конечно, опускаю некоторые интимные вопросы, опускаю конец письма, в котором автор участливо беспокоится, можно ли писателю класть все на свое сердце, – ведь оно одно, но это уже все сугубо личное и отношения к делу не имеет. Однако многие вопросы, заданные автором письма, как раз и заставляют «класть все на свое сердце». Надо думать, что Митя мог бы приложить свои силы и способности, как человек несомненно талантливый, интересный и серьезный, не к какой-нибудь рецидивистской ерунде, а на пользу обществу, сложись в его семье другие условия, не попади он в какой-либо момент в обстоятельства, в которых решение принимаешь не ты сам, а тот, кто сильнее тебя и бесчеловечнее. Но об этом можно только гадать, ибо мы не знаем ничего: что же совершил «рецидивист Митя».
А я получала письма и от людей, у которых, например, срок наказания вырастал до 25 лет, и даже до 75 лет – за тягчайшие преступления. Тогда этот абстрактный вопрос – о матери – не возникал, там были другие вопросы, не менее важные и серьезные, на которые тоже затрудняешься ответить. Мне кажется, общество, в целом, не должно отворачиваться от решения этих проблем, ибо писателю в одиночку такие вопросы не разрешить. Это нужно делать коллективно, сообща.
Где искать «отвечающих»?
Да и мы, писатели, отвечаем. Мы слишком легко решаем иные проблемы, особенно в так называемых «детективах», в телевизионных сериалах, в киносюжетах о беспризорниках, о детской преступности. Чуть-чуть бы построже, поответственней, вспоминая, что и убийца не так-то давно жаждал ласки от матери, внимания от учителя, от комсомола, ну, даже и от домоуправа, от соседей, от просто свидетелей детского горя…
Где ты, Митя? Неужели не выслужил «службой сердца», раскаянием и трудом прощенья себе? Неужели, талантливый и молодой, ты все еще ТАМ и читаешь кого-то другого, пришедшего в литературу уже после меня? Как поймешь ты сегодня нашу новую жизнь?..
* * *
«Размышления после полуночи». Так я хотела назвать свою новую книгу, но потом передумала. Это значит размышления о прошедшем дне. Но для чего они нам в первые минуты нового, наступающего дня? Это все равно что пресловутые «доводы на лестнице»…
Но вот прошло время, и я с течением лет научилась ценить и доводы на лестнице, и доводы в кабине лифта, уходящего вниз. Мне кажется, что, в конечном итоге, они не так уж и пессимистичны и не так уж и непригодны для грядущих забот, эти горестные итоги. (Хотя бы для самой себя. Хотя бы для того, чтобы не повторять своих прошедших ошибок – а делать новые!)
Как ни печально, но всю жизнь мы живем в цепи не до конца осознанных нами фактов, вечно нас мучают неутоленные мечтания о совершенстве, пускай и на лестнице. Но ведь кто-то же приходит на наше место, вооруженный нашими ошибками, нашим горчайшим опытом, и делает шаг, – пускай маленький сперва, просто так, почти детский шажок, но все же вперед, шаг дальше, чем сделали мы, еще один шаг ближе к цели – и вот это и есть единственное оправдание нашей жизни и наших, как будто бесплодных, усилий.
* * *
Есть что-то значительное, трагичное в обнаженных черных сучьях деревьев. Словно все опавшие листья за многие годы, и все клейкие, коричневатые почки, и все птицы, сидевшие на этих ветвях и певшие песни, и все ручьи, звеневшие у подножья весной, – все сложилось и отпечаталось в сумрачном небе какой-то извилистой, выпуклой линией. Так в складках у рта на лице человека иногда отпечатываются все надежды, и все страдания, и все радости, и все обиды, и все, что в жизни скопилось неразделенным, неотданным другим людям, а замкнулось в себе, навсегда, до конца. Лаконизм этих линий тем мучительней, тем острей, чем я дольше живу. Может быть, что и я тоже невольно что-то вкладываю от собственного своего горя, добавляю к уже пережитому деревом, к этим черточкам и морщинкам на лице незнакомого мне человека? Я об этом не знаю, я только догадываюсь…
* * *
В молодости у меня часто случались такие дни, когда все валилось из рук, я слонялась по комнатам, не зная, за что взяться в первую очередь, а за что во вторую. Потом дисциплина, привитая в армии, подчинила себе не только мою природную лень, но и эту хандру. И вдруг, спустя долгие годы, она вылезла вновь. Вот снова тоскую, хандрю. А о чем? Не знаю и сама. Разве мертвых воскресишь? Разве угадаешь, кто будет меня, одинокую, хоронить? Разве вернешь вспять пережитое время, чтобы исправить ошибки и сказанные мною злые слова? Разве наверстаешь не сделанные вовремя дела, разве напишешь задуманные, но не вылившиеся на бумагу книги? Уже нет ни таких сил, ни столько времени впереди, чтобы исправить неисправимое… Да, увы, к сожалению. Но если бы повторить мою жизнь, разве я на этот раз в самом деле ушла бы за письменный стол, если муж, молодой и веселый, здоровый, сидит за стеной в одиночестве? Нет, конечно бы, не ушла. А сидела бы с ним рядом, и мы разговаривали бы, как всегда, с юморком обо всем, что волнует… Какие дела, если он здесь, он со мной!
Но вот нет его. А работа не движется, и дела мои в том же забвении, как и при нем.
* * *
Истинная причина всякой тоски – во все времена – это хотя бы минутная, но собственная никчемность. Стоит хоть ненадолго прервать работу, почувствовать себя усталой, неспособной преодолевать препятствия, как приходит тоска. В юности я особенно часто тосковала, может быть, потому, что еще не была приучена к повседневному обязательному труду. Писать стихи для меня было не трудом, а забавой. Я посмеивалась над В. Брюсовым, написавшим такие стихи:
Вперед, мечта, мой верный вол,
Неволей, – если не охотой…
Хороша мечта, если она – вол! Для меня мечта в те годы была пестрокрылой бабочкой или какой-нибудь веселой незатейливой птахой… Цветком… Синеватой, кристаллической звездой в небе. А тут «мечта – мой верный вол»! Труд поэта – это ведь не труд пахаря, погонщика скота, это… Ах, да что говорить об этом! Сейчас, когда я сижу часами за письменным столом и не пишу стихов, вернее, пишу их редко, а в основном, то есть чаще всего пишу прозу, то иногда вспоминаю и брюсовского вола. Писать стало так же трудно, как пахать. Или же – дробить камни. С той только разницей, что камни дробить иногда, наверное, полезней.
* * *
Я долго старалась понять, отчего юмор и сатира для меня не являются жанрами настоящей, серьезной литературы, а чем-то вроде прилагательного к ней. (Хотя я и смеюсь, когда написано действительно смешно.) Дело, видимо, в том, что смех – не лечит. Лечит душу и возвышает ее теплота, надежность, искренность чувств. А юмор царапает, уязвляет и без того больные места. Он может служить обществу диагностом, но не лечащим врачом и не сиделкой, выхаживающей человечество теплотой, сердечностью и милосердием. У юмора нет милосердия.
* * *
Когда писатель жаждет признания, это понятно. Но когда он претендует на звания и награды, это читателей как-то немного коробит. Хочется и простить эту слабость в уважаемом человеке, и улыбнуться про себя, ибо что может быть выше и лучше книги? Ведь это же сам прозаик – или поэт – создал для себя единственный в мире, незабываемый, не похожий на все остальные отличительный знак, замечательный орден, этим орденом он награжден, как когда-то говорили, от бога, так чего еще надо?
Но даже великие умы и великие характеры клонились, не могли устоять перед соблазном обычной, житейской награды. И даже Вольтер вымаливал у Фридриха Великого ордена и подарки, на что Пушкин заметил однажды спокойно:
«Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы».
* * *
Мне думается, Толстой и физически и духовно надорвался в своей титанической, «львиной» писательской работе. Поэтому, к концу жизни он и стал отрицать самого себя как художника. И это естественно. Как больному лежать, а не двигаться, и тем более не бегать. Даже трусцой. Как набегавшемуся – отдышаться. Как голодному, растратившему калории, хоть немного да подкрепиться. Кто знает, прошло бы время, и, если бы не дергали нервы гения его семья, его окружение, ученики, последователи и прихлебатели, возможно, он создал бы еще нечто такое, от чего все мы замерли бы от восхищения.
* * *
Наблюдаю в окружающих меня писателях, особенно в талантливых – жестокость таланта. Это очень существенное, но такое приметное качество: во имя писательства, во имя литературы они зачастую «переступают» через близкого человека, через семью, через любовь, а главное – через детей, им некогда, некогда заниматься всем этим. И несут свои мысли, свои образы, свои химерические надежды в бессмертие, в будущее, «через тернии к звездам». Иногда их надежды, между прочим, осуществляются, даже с лихвой. Маленький талант становится большим, серьезным. Но почему именно такой ценой? Ценой собственного одиночества, ценой одиночества жены, беспризорности детей, отчуждением от друзей – и даже от критиков, с которыми необходимо общаться.
* * *
Мне кажется, единственно умное, что религия изобрела, это право на исповедь. Потому что живой человек беспрерывно, на протяжении целой жизни обязательно должен с кем-то советоваться, соотноситься, проверять себя, контролировать свои собственные побуждения, свои мысли, поступки. Он желает, не часто, а в минуту отчаяния или утраты, или понятой вдруг тяжелой вины, перед кем-то покаяться, от кого-то услышать слова утешения и прощения, снять с души своей гнет – и при этом в глубокой, священной для окружающих тайне… Люди слабого духа, может быть, не нуждаются в этом, потому что выбалтывают себя повседневно, всю свою подноготную. Но для сильного, цельного человека, не умеющего и не желающего изливаться перед каждым, наверное, нет и не будет достойнее собеседника кроме «господа бога». С богом спорили, не покорялись ему, да что говорить, ему угрожали, в этом тоже был велик человек. Не соседу, не сослуживцу, а богу – проклятья!..
Или Демон… Ну, хотя бы тот самый, летающий над Кавказом. Поверженный и скорбящий в своей сатанинской гордыне…
Вот я прихожу к нему.
Добиваюсь приема.
Он сидит в низком кресле, сложив траченные в безверии огромные крылья.
– Ну-с… На что жалуетесь?
И что я скажу?!
В чем откроюсь?
* * *
Если бы кто знал, сколько раз я приходила в отчаяние от того, что проза моя не ладится, что все получается «типичное не то» и не так, как хотелось бы. Но не с кем мне было своим отчаянием поделиться. С кем поделишься? Ведь никто не поймет. Удачливый будет смотреть на тебя свысока. У неудачливого нечему научиться.
Я читаю прекрасные книги и думаю: как их писали? Неужели, как я, в муках, в горе, в сомнении, выбрасывая горы исписанных черновиков, создавая по сорок, по пятьдесят вариантов, из которых в каждом что-то есть и хорошее, но и такое, что меня не удовлетворяет. Да, я знаю людей, которым и пишется очень легко, и живется, и любится… Ведь есть же счастливчики! Но чем кончат они, когда кончится эта легкость? У меня-то в запасе терпение, осознание этой тяжести труда, есть известная закаленность от встреч с неудачей, а у баловня «золотого пера»? Неужели до старости ему будет легко?
* * *
В сумерках дом, стоящий напротив, на фоне светлого летнего неба кажется великаном-роботом с квадратными плечами, квадратными же глазами, чудовищно-многоглазый и даже как будто бы ясновидящий. Вот он перемигивается этими ярко горящими глазами с кем-то невидимым мне, что-то в нем щелкает, движется. Так и кажется, что он вот в эту минуту заговорит со мной страшным, скрипучим, механическим голосом…
* * *
Вспоминаю свою прожитую жизнь и людей, которых встречала, и вдруг вывела неожиданную закономерность. Все, кто когда-то причинял мне зло, впоследствии был наказан судьбой. И ведь я не желала этим людям ответного зла, так как не видела в их поступках заведомого умысла, а всегда относила совершенное ими к нечаянности, к горячности и лично к себе, к своим недостаткам в характере. Даже в романе «Ранний снег», написанном бог знает когда, моя героиня Шура Углянцева, ведет себя точно так же. Узнав о тяжелой болезни Женьки, она думает: «Такого я ей никогда не желала!» А ведь первое мое большое произведение почти не продумывалось сознательно, оно выливалось, как песня.
* * *
Все мои близкие не любят трех вещей: когда я болею, когда я на собрании и когда я работаю.
Они любят, когда я им услужаю.
* * *
В прошлом веке писатель боялся, что его обвинят в «реализме», то есть в том, что он описывает действительно живших людей, их радости и их беды. Что у той или иной героини, у того или иного героя есть свои прототипы.
В те давние времена почти каждый писавший клялся, что он никого лично не имел в виду. Вот, например, Лессаж. Он же с первых строк заявляет, что в его книге нет «прототипов».
«…существуют такие люди, – пишет он, – которые не могут прочитать книгу, не отождествляя кого-либо с изображенными там порочными и смехотворными характерами».
И так далее.
А у нас же писатель даже кичится тем, что ничего «не выдумывает», «не изобретает», что он «списывает из жизни». Кстати, по-украински писатель так и называется: списыватель. И чем лучше писатель «спишет», тем критика добрей и внимательней к нему, благосклонней.
Теперь что же, выходит, и призрак отца Гамлета Шекспиром «списан» из жизни? Так, что ли?
* * *
Над лесом, над рекой, над домами поселка прошла буря. Порывистый, шквалистый ветер ломал и валил большие деревья, обрывал провода, крутил в воздухе пыль, песок, обрывки бумажек, пожелтевшие иглы хвои и пожухлые листья. Там, где прошла, прокатилась, как вал, беспощадная эта стихия, в лесу, на земле остались лежать переломленные пополам или вывороченные с корнями огромные сосны и ели. На одном небольшом отрезке дороги, шагов в двести, таких сосен и елей мы насчитали не менее тридцати.
Мы подходим к поверженной бурей великанше сосне, преградившей дорогу, и маленький Роман говорит:
– А я знаю, кто свалил это дерево!
– Кто же, Рома?
– Да вот… это… она виновата! – И Ромка снимает с обломанной хвойной лапы зеленую волосатую гусеницу, отвратительно извивающуюся у него в руках.
Мы смеемся. Потом умолкаем и оглядываемся на поваленное необъятное дерево. В самом деле, разлапистая красавица сосна вся изъедена изнутри, ее древесина трухлява и пориста. Ну, может, не гусеница, а какой-нибудь жук-короед, древоточец, действительно и свалил это дерево, источив его сверху донизу, всласть поработав. Гроза – только, повод.
А Ромка победно шагает вперед. Он не связывает еще воедино людей, и деревья, и горькие мысли…
* * *
Ворона – интеллигентка среди городских птиц. Не знаю, за что невзлюбили ее баснописцы, ведь это умнейшее, а главное, полное юмора летающее существо.
Наблюдаю в окно веселую сцену. На старых тополях сидят вороны. По направлению к деревьям идет рыжая, пятнистая кошка. Заметив ворон, она припадает к земле и ползет, наверное, не без того, чтобы напасть. Но вороны, по-моему, потешаются над усилиями рыже-пестрой. Вот одна из птиц громко каркает, чтобы привлечь внимание кошки, и слетает на землю, садится немного подальше от деревьев. Кошка быстро кидается к ней. Подпустив ее чуть ближе, ворона взлетает и садится на дерево. Теперь слетает следующая ворона, она отвлекает кошку в другую сторону. И тоже с торжествующим карканьем улетает. Кошка прыгает, мечется, а вороны как будто хохочут, вид у них удивительно насмешливый, но беззлобный. Наигравшись вволю, потешив других ворон, неподвижно сидевших все это время на самой верхушке деревьев, – может быть, это их маститые старцы, а может быть, дамы, которым и показывался спектакль, но соскучившись от игры с глупой кошкой, – все снимаются стаей и улетают. Долго кружатся в небе.
В другой раз я видела, с каким презреньем они осмеяли голубей, копавшихся на помойке. Пролетая над ними, вороны так каркнули разом, так насмешливо оглянулись – одним движением – на жирных сизарей, что не оставалось никакого сомнения: птицы выразили совершенно определенные свои эмоции, и смысл этих эмоций – осуждение, брезгливая неприязнь.
А как красиво и сильно они летают, играя, над спортивной площадкой. Как мощны и одновременно грациозны взмахи их крыльев. Оттого, наверное, люди и верили в вороний грай, что понимали, какая это умная, всевидящая и всезнающая птица.
* * *
В чем вред всякой регламентации? В том, что в человеке нарушается заложенное в нем природой стремление к многообразию. Регламентация же есть нечто противоположное ему. Она есть стремление к единообразию. Но именно она, однако, облегчает работу на заводе или в армии. Например, на военной службе не нужно убеждать человека встать и идти стрелять, для этого достаточно подать команду. На заводе достаточно выработать стереотип поведения, стереотип мастерства в обработке детали – и ты лучший рабочий. Хотя организм несомненно угнетается повторяемостью одних и тех же движений, одних и тех же усилий.
В чем же прелесть художничества, писательства и даже работы артиста, – хотя в этой, последней, значительно чаще присутствует штамп. Да, конечно же, в многообразии функций, мыслей, чувств, в том, что ни одна фраза не похожа на другую, ни одна мысль не должна дублировать только что высказанную.
Работа крестьянина, охотника, рыбака тоже в значительной степени многообразна. Поэтому стремление к городу, к станку, к распорядку всегда двойственно, всегда в чем-то ущербно, как подмена действительно радостного, естественного бытия чем-то искусственным, ограничивающим развитие, рост, совершенствование человека, его умение применяться ко всяким условиям, ко всякому труду.
* * *
Как я не люблю эти мрачные и пустые, с ледяным, арктическим ветром дни безвременья – между осенью и зимой! Земля голая, даже палые листья сдуты ветром, все травинки прибиты дождем и втоптаны в грязь, приморожены к ней, ставшей каменной, жесткой, повторившей в своем ледяном забытьи каждый след, человечий и птичий, и каждое колесо; повторившей не мягко, не ласково, как их повторяет горячая летняя пыль, а скованно, отчужденно, совсем как бездушный бетон.
Лес уже поредел совершенно и стоит весь сквозной, неприютный, суровый, и только березы сияют стволами, похожими на стоячие прожектора, на столбы слепящего света, отливающего то ли молочной, то ли жемчужной живой белизной. И так празднично, самозабвенно, так любовно для всех проходящих и едущих это трепетное сияние, что не хочется верить зиме: нет, она еще за горами-долами…
* * *
Что означают слова «берег», «дерево», «солома», «расширять», «мочало»? Сегодня в обиходе мы уже забываем смысловые истоки употребляемых слов и речений; и дерево, может быть, вовсе не то, что дерут, обдирают на лыко, с чего снимали корье, чтобы укрыться от дождя, первобытные люди, но, может, как раз и есть то самое; однако знавшие первородную истину вымерли, а мы уже и не знаем ничего.
Что солома означает «соломенное», то, что сломили, это можно еще догадаться; что «мочало» происходит от слова «мочить», «мокнуть», тоже всем ясно, а вот если «берег» означает береженье воды, то что же тогда бережет самый берег от разрушенья, от оползней, от размыва, от разрушительных паводков? Берег – самое неустойчивое в природе, так оно было прежде, так оно и теперь, впрочем – теперь особенно, так как по рекам ходят «ракеты», суда на подводных крыльях, и большая волна, поднимаемая ими на большой скорости, губительна для берегов.
* * *
Я не чувствую никакой ущербности в себе по сравнению с какими-то, мне неведомыми внеземными цивилизациями, каких бы успехов они ни достигли. Во-первых, может быть, им никто не мешал достигнуть этих успехов, во-вторых, я чувствую в себе силы и способность постигнуть любые науки при условии, если бы они мне были преподаны с детства, когда так чиста и так восприимчива память, а также будь все это, хоть самое сложное и самое трудное, сообщено мне достаточно внятно и достаточно логично. В-третьих, если эта цивилизация не окажется враждебной моим умершим дедам и прадедам и моим еще не рожденным внукам и правнукам, моей земле, ее воздуху, ее недрам. Тогда пожалуйста… Тогда будем знакомы! Гостите себе на здоровье.
* * *
Я часто встречаю на улице или в подъезде своего дома холодных, нарядно одетых, чистеньких, ненакрашенных девушек, от которых всегда все-таки остается впечатление, что они чем-то вымазаны жирным, и парней, которые их сопровождают, тоже ярко одетых, самоуверенных, даже наглых, и мне кажется, что это какая-то особая порода людей, с которыми нельзя заговорить ни по-русски, ни по-английски, ни по-французски: все равно не поймут. А поймут, – не ответят, только лишь презрительно переглянутся, пожимая плечами. Так уже со мной бывало не однажды, и я надолго запоминала этот урок, пока не привыкла к одной тайной мысли, что это, видимо, люди с другой планеты. А когда к этой мысли привыкла, мне уже не захотелось их понимать или быть понятой ими. Удивляет одно: для чего эти люди, такие холодные, все же женятся – без любви! – для чего обзаводятся детьми, а потом их прогуливают в определенные часы, своих пухлых надменных мальчиков и еще более пухлых девочек, а если нет ни тех, ни других, то породистых, тоже пухлых и тоже надменных собачек. Разве им что-то дорого на земле?!








