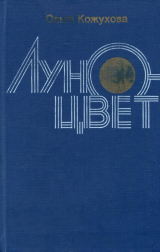
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
* * *
Военные писатели работают каждый в своей сфере, наиболее ему знакомой: один с присущим ему блеском масштабно изображает батальные сцены, другой описывает окоп и сидящего в окопе отдельного человека, приготовившегося к бою, но описывает так подробно, что мы видим этого человека как живого. Третий мало интересуется подробностями переживаний, ему важно, как проявляет себя человек внешне – и притом в быстро меняющихся, необычных условиях.
* * *
В свое время Лев Толстой дал нам, пишущим, ориентир: как разобраться в огромнейшей массе людей и событий. Он сказал:
«Я думаю, что самое важное и полезное людям, что может написать человек, это то, чтобы рассказать правдиво пережитое, передуманное, перечувствованное им».
Писатель в годы Великой Отечественной войны, как и все, тоже многое видел и перечувствовал и это увиденное пережил и обдумал. Но в войне участвовали десятки миллионов людей, и у каждого солдата была какая-то своя отличительная черта, свой характер, а, как известно, люди разных характеров одно и то же событие переживают и оценивают по-разному. Как же это потрясающее многообразие уловить и со всей достоверностью запечатлеть на бумаге? Как проникнуть в душу каждого человека?
* * *
Мне кажется, для того чтобы «рассказать правдиво пережитое, передуманное, перечувствованное», писателю нужно за каждого героя пережить и перечувствовать, КАК ЗА СЕБЯ.
Полагаю, что именно эти усилия делают профессию военного писателя особенно сложной и трудной.
* * *
Вторая мировая война закончилась в 1945 году. А для военного писателя она все еще продолжается, продолжается ежедневно и ежечасно, пока он работает над повестью или романом, и каждая ситуация, в которую попадают его герои, в какой-то мере – военная ситуация его собственной духовной биографии: ведь он тоже ее мысленно пережил – всю! – как воочию, наяву, во всех горьких и страшных подробностях, в муках, в поту, в крови и слезах. Это в него целились из винтовки. Это он стоял на посту в лютый мороз, на ветру. Это его подбили на самолете над линией фронта. Это он шел, раненный, отступая, без оружия и без хлеба…
* * *
Но писать трудно не только поэтому. О Великой Отечественной войне уже создана необозримая литература. Однако несмотря на все сказанное о войне, все-таки остается ощущение огромности материала, до сих пор не использованного, и это ощущение порой просто давит на душу. Вспоминаются сотни смешных или же трагических событий, обрисовывающих людей с самой неожиданной стороны, но так и не нашедших воплощения на страницах художественного произведения, ибо они загораживают дорогу главным судьбам, без которых нельзя обойтись.
* * *
Мне кажется, это очень серьезный вопрос для каждого пишущего о войне: безошибочно определить значимость пережитого лично им самим и его товарищами, всем народом, а потом убедить и читателя в достоверности пережитого. При этом я всегда вспоминаю слова Анри Барбюса из его «Огня».
«Сколько ни рассказывай потом, все равно не поверят. Не по злобе, не для того, чтобы поиздеваться над тобой, а так, просто не смогут поверить. Если будешь еще жив, и сможешь ввернуть словечко, и когда-нибудь скажешь: «Мы ходили на ночные работы, нас обстреливали, мы чуть не утонули в болоте», тебе ответят: «А-а», – и, может быть, прибавят: «Небось невесело было, туго вам пришлось!» Вот и все. Никто не узнает. Знать будем мы одни».
* * *
Непонимание человека непережившего – это высокий психологический барьер, который предстоит преодолевать всякий раз, когда берешься за перо, чтобы писать о войне. Мне кажется, именно из потребности угодить непережившему, ныне массовому читателю, и рождаются некоторые современные детективы, поражающие воображение нагромождением чрезвычайных, немыслимых обстоятельств. На самом-то деле на войне человек жил буднично, в суровой, но все же будничной обстановке, ведь война-то длилась четыре года, привыкаешь ко всему. Но для того чтобы писать о будничном, нужно иметь какой-то внутренне праздничный талант, а этого, видимо, не у каждого хватает. Отсюда и возникают порой разного рода «ковбойские» ситуации, невозможные на войне, но зато необыкновенно живучие и даже процветающие в некоторых произведениях нашей сегодняшней литературы.
Мне кажется: «остранением», заострением ситуаций иногда также подменяют исчерпанность личного опыта.
* * *
Соотношение факта и вымысла в военной литературе – одна из сложнейших проблем. При всех вольностях стиля, сюжета, известной условности жанра военный писатель в своих книгах обязан придерживаться если не полностью правды факта, то хотя бы почти документальной правды обстановки. Он должен считаться и с трагическим самоуправством войны, и с истинно воинской регламентацией, со спецификой армейского бытия, подразумевающей множественность связей героя как по «вертикали» – с вышестоящими командирами и политработниками, со своими же собственными подчиненными, – так и по «горизонтали», а именно: с равными себе по должности и по званию. Поэтому, изображая излюбленного героя, ты волей или неволей обязан изображать и многие другие личности, без которых по специфике военного дела тоже нельзя обойтись.
* * *
К сожалению, повторяемость ситуаций, обязательный перечень лиц, с которыми приходится сталкиваться герою, обусловленность должностных отношений нередко накладывают на изображаемое в романах и повестях отпечаток чего-то известного, повторенного, уж слишком знакомого.
Поэтому, принимаясь за новую книгу, с особенной тщательностью начинаешь пересматривать события под этим углом зрения: как вырваться из условностей жанра? Как нарушить традиции, не вступая в противоречие с военным бытом? Как замкнуть поинтересней сюжет при его «незамыкаемости» в силу оборванности чьей-то прекрасной судьбы, многих судеб?.. Это чувство оборванности, незавершенности жизни было главным ощущением, которое возникло у меня на войне и которое в те годы изнуряло душу. Не боясь быть назойливой, это чувство я переношу из книги в книгу как самое главное.
* * *
О том, как я много лет писала стихи и как перешла на прозу, я подробно рассказала в своей повести «Не бросай слов на ветер…», поэтому повторяться не буду. Единственно должна сказать, что и в качестве прозаика я не сразу стала военным писателем. Сперва я написала повесть о целине, потом повесть о студентах, рассказы о журналистах – то есть о той среде, в которой находилась сама. Два-три рассказа были у меня и о войне, но я им не придавала значения, впрочем, как и стихам, написанным на фронте и изданным в 1945 году маленькой книжечкой, ибо в понятие «военный писатель» я вкладывала не сумму каких-то удачных и малоудачных произведений, а концепцию и судьбу.
Никакой концепции у меня в те годы не было. А судьба моя оказалась неотличимой от судьбы миллионов, хотя в некотором отношении я находилась в более выгодных условиях, чем другие участники войны. С 1943 года я стала литературным сотрудником армейской газеты, получила возможность много ездить и встречать многих интересных людей.
Не могло не сказаться, наверное, и то, что с января 1942 года до самой демобилизации прослужила в одной и той же армии, знала многих солдат, особенно ветеранов; знакомые мне командиры взводов и рот вырастали до командиров полков, а командиры полков становились командирами дивизий. На армейских дорогах я знала многих шоферов в лицо. В иные воинские части приезжала, как в дом родной, и там от меня не было утаек, рассказывали все начистоту…
Но все же как долог и труден был путь к большой книге о Великой Отечественной, к военному роману!
* * *
О войне в романе «Ранний снег» я писала без привлечения каких-либо документов, по памяти. К началу работы над этим произведением уже прошло много долгих мирных лет, и кое-что из того, что я видела и пережила в качестве медсестры, политработника, военного газетчика, пройдя путь от рядового солдата до офицера, в моем сознании уже слегка затуманилось. Я все время балансировала на тончайшей кромке, отступая от правды военной сводки, но сохраняя достоверность виденного лично мной, меняя фамилию, имя, внешность героя, но оставляя, хотя и сдвинутыми, несколько преувеличенными или же приуменьшенными, черты того или иного характера. Среди многих героев, имеющих прототипов, я помещала людей вымышленных, они вступали между собой в соответственно вымышленные отношения. Из двух-трех реальных, знакомых мне личностей я лепила одну, она обогащалась подробностями моей же собственной биографии, моими наблюдениями, становилась противоречивой – и выходила из подчинения автору. Я теперь думаю: именно эти герои работали на сюжет, ибо ими управляла я, а не жизнь; к ним я была снисходительней и добрей: они продолжали жить в то время, когда настоящие люди, бойцы, от которых я «оттолкнулась», давно уже были убиты и зарыты в братских могилах. Таким образом, преображая действительность в соответствии с замыслом, я не тратила времени на беседы с однополчанами, на знакомство с архивами, мною руководило единственно одно чувство, о котором я уже говорила, – огромное чувство утраты, и оно так давило меня, так требовало излиться, что я просто засела за стол и все, что думала о войне, то по памяти и записала.
* * *
Потом, когда роман вышел, я была удивлена потоком писем. Люди узнавали дивизию, узнавали тот или иной населенный пункт, хотя я везде изменяла названия, узнавали людей, изображенных под другими фамилиями и совсем с иной внешностью, узнавали, наверное, не потому, что это было уж очень замечательно написано, а потому, что в центре романа лежало главное, всеми узнаваемое событие: окружение наших войск под Вязьмой, гибель нашей дивизии и смерть командарма.
Среди приславших мне письма были люди, уцелевшие в этом пекле, я встретилась сочень многими из них, услышала рассказы об их дальнейшей судьбе. Мне теперь уже заново захотелось обдумать все в целом: свое представление о событии, вот эти живые, невыдуманные рассказы и архивные документы. Я поехала в город, где эти архивы хранились. Признаюсь: прочитанное меня потрясло.
* * *
Сейчас, вспоминая о том времени и о работе над «Ранним снегом», я все же считаю, что все сделала правильно. Ибо в самом главном память меня не подвела. Но если бы я заранее знала иные детали, если бы знала дальнейшие судьбы людей, я, наверное, никогда бы не взялась за перо, не осмелилась, руководимая тем самым чувством, которое не позволило мне на войне прикасаться неосторожной рукой к чужой незаживающей ране. В данном случае мое незнание – по сравнению с знанием – оказалось куда более бережным, осторожным.
* * *
Оглядываясь назад, на свои тридцать с лишним «прозаических лет», включая в эти годы и работу в военной газете, я думаю, что с очень большим количеством накопленного материала я все же поступила не по-хозяйски, расходовала его не задумываясь. Даже то неисчерпаемое, о чем я говорила выше, и оно вклинивалось в текст – где намеком, где неразвившейся мыслью, где просто строкою «для воздуха» как заполнитель. А ведь теперь не вернешься к нему, по-иному не скажешь. Это только опыт научает ценить казавшееся пустяком. Но, когда я писала роман, у меня еще не было опыта, он «выращивался» в процессе работы.
Для примера приведу один эпизод.
Работая над образом Кедрова, я не смогла использовать все возможности, заложенные в нем. Человек, который дал самый первый толчок к созданию этого образа, погиб трагически при весьма странных обстоятельствах. А мне хотелось сохранить его до конца романа живым, и я начала окружать Кедрова «воздухом» из пережитого мной самой. В том числе отдала ему эпизод со стрельбой рикошетом.
А дело было так: в мае сорок четвертого мы стоим в Белоруссии. От своей газеты «За правое дело» я еду в одну из стрелковых дивизий. Мне нужно на НП артиллерийского дивизиона, который находится на передовой. Сопровождает меня капитан, начальник штаба, человек очень суровый и очень сдержанный. Где броском, где ползком, где в рост по траншее мы добираемся до конечного пункта – небольшого дзота, где и был НП – офицер-наблюдатель и связист с телефоном.
Я беседую с ними. Потом в стереотрубу мне показывают небольшой городок, в центре которого – обгорелое трехэтажное здание, на утоптанной площадке группу немцев, занимающихся строевой подготовкой. Командует группой фельдфебель. И я спрашиваю у своего сопровождающего: «Как же так? Они ходят у вас на виду и вы терпите?» А он отвечает: «А что ж поделаешь, снарядов нет совсем. Один только НЗ, разве вы не знаете?»
Я видела столько смертей, столько слез и столько сирот, что эти дюжие фрицы, поворачивающиеся направо и налево, были просто чудовищны! Нет, не имеют права они маршировать!.. Говорю: «Ну… не знаю! Они – в полный рост. А вас это… не трогает?» Начальник штаба молчит, наконец соглашается: «Хорошо, ладно… Для учебных занятий у нас есть два-три снаряда на орудие. Попробуем… рикошетом… три снаряда… Пугнем».
Я наблюдаю в стереотрубу. Начальник штаба передал по телефону на огневые позиции расчетные данные. И вот первый снаряд. Он ударяется о землю перед самым строем фашистов, подскакивает и взрывается в воздухе. Фашисты падают, строй рассыпается. Второй и третий снаряды мне уже не видны в облаках долго-долго не оседающей пыли.
Признаться, по спине у меня мурашки.
Это – враг. Враг, разоряющий мою Родину, погубивший мою дивизию в окружении под Вязьмой весной сорок второго; враг, убивший очень многих моих добрых знакомых, друзей и подруг, уничтоживший миллионы людей; врат, взорвавший и сжегший мой родной город, в том числе и мой дом, и все еще продолжающий убивать и разрушать. И вот эти три снаряда…
Потом мы беспечно идем с капитаном по траншее, разговариваем с бойцами-пехотинцами, смеемся. Траншея становится все мельче и мельче. Скоро она должна вывести нас на торфянистый зеленый луг, еще по-весеннему влажный, с мочажинами.
– Да, а как вас зовут? – вдруг спрашивает капитан.
Ведь это только в романах и в кино герои с первой же секунды выкладывают свое имя, фамилию. А тут – кому какое дело, как тебя зовут? Кто-то где-то проверял твои документы, потом со связным тебя привели в артполк, потом в дивизион, а здесь ты просто «старший лейтенант», и не больше. И вдруг у артиллериста пробуждается интерес, с кем же это он стрелял по группе фашистов.
– Так как вас зовут? – повторяет он свой вопрос.
Я оборачиваюсь:
– Ольга… – И вдруг слышу мучительный, уничтожающий свист, прерываюсь на полуслове. Капитан, только что интеллигентно пропустивший меня по траншее вперед и даже поддержавший меня под локоток, когда я выбиралась из траншеи на луг, тоже, видно, услышал это грозное движение воздуха, его мерное сплющивание и вытягивание вокруг мчащегося тела снаряда, сопровождаемого таким тянущим душу скрежетанием, свистом…
Хлоп!
Снаряд падает в пяти шагах от меня. Падает капитан. Одновременно – инстинктивно – падаю и я, правым боком. Так что только правая сторона моего тела немеет, только правое ухо глохнет, и я все же слышу, что взрыва – того самого ожидаемого взрыва, несущего смерть, – почему-то не следует. Нет, он все же последовал, вон большая воронка: снаряд углубился в болото, под торф, но там и растерял, в луговине, под слоистыми пластами травы и земли, свою убойную силу.
Мы с капитаном поднимаемся одновременно, и от контузии, что ли, от шока я совершенно спокойно завершаю уже начатую было фразу:
– Константиновна…
Вот так мы знакомимся.
Спустя годы на съезде писателей РСФСР два поэта с интригующими улыбками подвели ко мне того бывшего начальника штаба, капитана, а ныне тоже писателя. Мы взволнованно и неловко улыбнулись друг другу.
К сожалению, в романе «Ранний снег» все это сведено к пяти-шести строчкам. Между большими драматическими событиями в жизни Кедрова я вклинила этот маленький эпизод для того, чтобы проиллюстрировать, как человек после личного потрясения и личной утраты возвращается к обыденной фронтовой жизни с ее ежедневными потерями и с той и с другой стороны. Очень может быть, что расход материала в данном случае и не оправдан. Но кто скажет, когда человек начинает понимать, что можно потерять, а что приберечь? Возьмись я сейчас роман переделывать, я думаю, нисколько его не улучшила бы, а только ухудшила.
* * *
События, стоящие за «тоненьким» эпизодом, почти всегда имеют известную неисчерпанную «толщину», в противном случае литература заменила бы собой почти полностью жизнь с ее многослойностью и многообразием. Но писателю и самому иногда удивительно, почему он сказал однажды вот так, а сегодня вот эдак, кто знает? Кто может это объяснить? Бывает, достаточно во фразе поставить другой эпитет – и вся фраза изменится, приобретет другой смысл. И никто ведь не подскажет, какой именно эпитет ты должен выбрать в том или ином случае, так как именно изобразительные возможности и определяют тебя как писателя.
Однако важнее всего в жизни писателя, конечно, не фраза и не эпитет, а судьба. Честно говоря, я завидую писателям, которые пришли на войну, уже осознав свое назначение. Они были готовы увидеть, они уже знали, что нужно видеть, – и все это увидели. А я осознала увиденное спустя многие годы, припоминая. На войне же я смотрела вокруг себя не как художник, а как боец. К тому же в то время я писала стихи, и это заставляло меня не вникать в окружающую жизнь, а романтически от нее отъединяться.
* * *
В последнее время не только читатели, но даже и критики ищут в художественных произведениях документально точные даты, требуют документально точного изображения людей и по тому или иному роману пытаются восстановить подробности событий исторических. Но ведь задачи писателя и задачи историка совершенно различны. Они могут иногда совпадать, но не всегда и не во всем, и мне думается, что художественное изображение событий всегда шире по смыслу, чем описание их у историка. Ибо писателем изображается душа события. Его скрытое эмоциональное излучение, нечто вроде психической радиации. То есть объектом изображения является не история народа в годы войны, а народ на фоне истории. Человек как самое главное в истории – и ничто другое.
* * *
По-видимому, иногда нет смысла искать у писателя какие-то прототипы, особенно в том понимании, в каком это укоренилось среди читающей публики. Когда у меня спрашивают, кто был прототипом Женьки, Марьяны, Кедрова, Петрякова, я всегда отвечаю, что прототипом являюсь я. Да, это мои мысли у Кедрова, это факты моей биографии у Шурки Углянцевой, и Женька Мамонова переживает те же самые чувства, которые переживала я. В то время я перестрадала и перемучилась за всех моих товарищей и подруг, как за себя, и вынесла в душе все, что выпало им на долю. И теперь где найти ту грань, которая бы нас разделяла? Не знаю. Ибо я – это они. А они – это я.
* * *
Потомки наши никогда не простят нам затопленные, выведенные из строя сотни тысяч квадратных километров земли, ушедшей под водохранилища, обезрыбленные, зацветшие реки, горы мусора, кучи отвалов пустой породы, выжженные степи, лишенные всякой птицы и всякого зверья, тундру, взодранную вездеходами, выжженную пожарами тайгу, опустошенную человеческую душу, в которой уже не осталось ничего, кроме пользы и кроме наживы. Но для того чтобы стыдиться, нам нужно видеть потомков в лицо. Для того чтобы им сердиться не отвлеченно, не попусту, им нужно бы видеть в лицо своих собственных предков. Однако, как в средневековых драмах, связь веков «распалась». Они никогда не узнают, какими были мы. Мы, в свою очередь, никогда не узнаем, какими будут они, и, может быть, в том, в чем они обвинят нас, мы же сами и будем в конечном итоге виноватыми: ведь это же мы их научили уму! Мы привили им понятие преемственности, истории, чувство общей ответственности, – не отцов и детей, а целых видов человечества, целых его популяций, играющих руководящую роль: белых, желтых, черных.
Пожинайте плоды трудов своих…
* * *
Почему самые сложные и самые важные представления в жизни мы познаем только через смерть? Неужели она неизменна из века в век, из поколения в поколение, эта странная, грустная диалектика: свет – и тьма, добро – и зло, жизнь – и смерть?
Вот я вижу уже ряд могил самых близких людей, сейчас на них падает снег, и никакая – даже острая – боль, никакое сочувствие, никакая самая быстрая помощь не вернет их к жизни, моих дорогих. Отчего же я им не сочувствовала, не бежала на помощь, пока они были живы? На что я надеялась? Неужели я верила в их бессмертие, в бесконечность их жизней? Все мне думалось: не сейчас. Этот день – не последний. Еще будут хорошие, тихие дни, без болезней, без горя. А он взял и пришел – последний день. Пришел незаметно, как приходит обычный день, но так же неотвратимо, и уже ничего не исправить, не изменить. И ничем не поможешь. И хоть плачь, хоть умри, все останется так, а прошлое не вернется.
По старому обычаю, на могилах рассыпаны семена – для птиц. Чтобы чистые существа посещали эти черные холмики и пели над ними свои чистые песни. Но здесь, под Москвой, на могилы прилетают не певчие птицы, а одни воробьи. И песен у них нет, и жируют они на дармовом корму целыми тучами, вряд ли усопшие станут радоваться этим серым стаям, шумно взлетающим и шумно садящимся. Уж пусть бы безмолвие, пусть бы пустынность – в их забытости есть особое мужество, – но только не суета.
* * *
Расскажу, как я «выходила замуж».
В Воронеже было знойное лето. Каникулы. Я только что окончила 8-й класс. Выезжать из города на это время мы семьей никуда не выезжали. Как говорила мама: «Ресурсы не дозволяют». Поэтому я слоняюсь по городу или же сижу дома, на старом рассохшемся крыльце с книжкой в руках, лениво листаю страницы, поглядываю на стрижей, на цветник, на вишневые деревца в зелененьких бусинках ягод – и скучаю. Потом бреду «в город», в центр, на главную улицу – проспект Революции, авось кто-нибудь встретится из подруг или просто знакомых.
На стене одного дома читаю объявление о том, что для съемок кинофильма «Зеленая улица», проходящих у нас в Воронеже, требуются для массовок статисты. Плата такая-то. Адрес такой-то.
Ну, уж если и плата… Лечу.
Но и здесь, на киносъемках, скука, скука.
Толпа ходит по аллеям парка культуры и отдыха, бесконечно, взад-вперед. То облачко выглянет, и съемка прекращается, то кто-нибудь не так повернулся, то просто режиссер и сам умирает от скуки, и курит, не глядя на нас.
И вдруг ко мне подходит молодой высокий блондин, белолицый, подтянутый, сдержанный, в форме железнодорожника, и – улыбается:
– Ну, что? Скучно?
– Да. Очень…
Всю съемку мы рядом. Говорим обо всем, смеемся – и радуемся, что познакомились.
Каждый раз после съемок Михаил меня провожает на Красноармейскую через весь город. Часами мы стоим у калитки. А дней через десять он вдруг спрашивает у меня:
– А как зовут твою маму?
– Варвара Николаевна.
– Ты здесь подожди, а я схожу, поговорю с ней, познакомлюсь.
– Иди.
Приходит такой огорченный, расстроенный, что я не могу понять: что случилось?
– Ну, что?
– Отказала.
– Да в чем отказала?
– Я просил твоей руки…
Стою, обомлев. Но сдержалась, не выказала удивления.
– А что она сказала?
– Она сказала: пусть Ольга сперва ликвидирует двойки. А потом уже замуж… за паровозника!
Узнаю свою маму!
Вот и все.
И текли эти долгие, долгие годы моей странной, насыщенной всеми страстями, и горем, и радостью жизни.
И вдруг письмо. Мне, больной, одинокой, вдове. Из конверта выпархивает фотография. Михаил! Но не в форме, а в белой рубашке с отложным воротничком. Какое прекрасное молодое лицо! Какие глаза… И строчки письма. От сестры Михаила. «Погиб в сорок первом под Киевом…» И не железнодорожник он, а медик, врач… Это он одевался, чтобы вжиться в «образ».
Такой чудесный, с длинными ресницами…
А я не успела его полюбить. Я любила другого.
* * *
Самые больные люди это те, которые не ходят по врачам, не жалуются на свои многочисленные болезни, а молча перетерпевают, пока держат ноги, а лечить-то как раз нужно именно их. Лечить нежностью и заботой, лечить вниманием, лечить тонкостью обращения, самым точным диагнозом, – ибо неправильно поставленный диагноз вызывает недоверие к лечащему, а следовательно, низводит на нет весь терапевтический коэффициент полезного действия.
Лечить нужно именно тех больных, которые редко ходят в больницу. У них не только больное тело, но больная душа, и сперва нужно вылечить душу, а потом уже взяться за тело. Только так, не иначе. А у нас все как будто бы вверх ногами. Кто прибежал с насморком, тому и открыты все двери, того чуть ли не носят на руках.
* * *
Читаю как-то в уважаемой центральной газете сообщение, что «награда нашла героя…». Такой-то районный военкомат пригласил бывшего солдата Великой Отечественной войны, пенсионера, чтобы вручить ему сразу два ордена Красной Звезды.
И чему же мы радуемся? Неужели тому, что целых тридцать – сорок лет человек был лишен своей заслуженной почести? Такой вот солдат, а ныне пенсионер, к сожалению, не одинок!
Было дело, работала я в архиве, в Подольске. Среди разного рода бумаг нашла боевое донесение о том, что четыре человека из моей, 329-й дивизии, окруженной под Вязьмой в 1942 году, находящейся еще и в своем ото всех остальных отдельном окружении, пытались пробиться к главным войскам, находящимся тоже в двойном кольце, внешнем и внутреннем, – и все-таки пробились! Это были старший политрук Хохлов и три бойца-разведчика, которые несли командующему 33-й армии генерал-лейтенанту М. Е. Ефремову от командира 329-й стрелковой дивизии, полковника К. М. Андрусенко пакет с очень важными сведениями. На обрывке бумаги, хранящейся ныне в архиве, на которой написаны имена героев, сам Ефремов красным карандашом начертал: Хохлова – к ордену Красного Знамени, остальных – к Красной Звезде.
Я выписала имена и фамилии и при случае, как о чем-то уже историческом, сообщила в письме сыну нашего погибшего однополчанина – Алексею Антоновичу Кожарину. А тот, человек деловой, сразу же стал разыскивать упомянутых.
В результате выяснилось, что один из этих разведчиков – Кузнецов жив, что он после войны работал в колхозе, в Воронежской области, а сейчас полностью ослеп после трудовой травмы.
Запросили военкомат, Министерство Обороны – и в день двадцатилетия Победы Николаю Кузнецову вручили залежавшуюся награду. Да, именно залежавшуюся! Потому что Кузнецов и жил и работал там, откуда призывался. И что стоило работникам наградного отдела поискать героя не где-то на Марсе, а здесь же, в его родной деревне. И нашли бы.
Однако не поискали!
А еще два моих товарища по 33-й армии получили свои награды только в 1969 году. Это Владимир Иванович Аманов, который к своим двум орденам Славы прибавил третий орден – и стал полным кавалером, и Николай Федорович Волошин, который получил Золотую Звезду Героя Советского Союза. Как же долго они были лишены своего заслуженного счастья! И пока были молоды, пока жили трудно, как красиво светились бы у них на груди ордена!
А ведь ежели разобраться, их было очень просто, этих двоих, разыскать. Служили они в дивизии, которая, вся целиком, состояла из москвичей-ополченцев Куйбышевского района. И после войны Совет ветеранов этой дивизии тоже обосновался здесь же, в Москве. И связана эта дивизия в послевоенные годы была крепко-накрепко, тесными узами с коллективом, в котором полным-полно грамотных людей, – с МИИТом, Московским институтом инженеров транспорта. И ежегодные сборы ветеранов тоже проходили в МИИТе. А вот все же никто не додумался поискать двух отважных героев – ни друзья, ни военкомат, ни военная кафедра института, ни райком комсомола… Спохватился лишь чудом уцелевший на войне, тяжело раненный, ставший инвалидом, бывший начальник политотдела дивизии Л. Т. Макаров, в свое время и представлявший героев к наградам. Дело случая. И притом чрезвычайного. Вообразим себе, что Леонид Трофимович Макаров в свое время, на фронте, скончался бы от ран, как это со многими и бывало? Тогда что?.. Плюс, минус бесконечность. Сейчас не найдешь…
Частенько встречаю в газете «Известия» колонку с сообщением, что в связи с наследством разыскиваются такие-то и такие-то советские граждане.
Однако героизм советских людей, наверное, все же дороже чужого, иллюзорного наследства. Это наше, народное достояние. И разыскивать награжденных людей, «пропавших без вести» не на полях войны, а в мирное время, должны все, а не только одни лишь пионеры, именующие себя следопытами, и конечно же в первую очередь – работники ответственных за это учреждений, обязанные разыскивать, оповещать через органы печати, через телевидение и радио. Почему бы, например, газете «Красная звезда» не печатать такие же колонки: «В связи с награждением разыскиваются…»?
Да! Некоторые чрезвычайно осторожные люди говорят, что неизвестна судьба того или иного человека, у иных, мол, она очень и очень извилиста, поэтому не надо ничего объявлять, не надо искать.
Ну, что ж, было дело, я встретилась с человеком, так называемым «сыном полка», парнишкой-комсомольцем, увешанным наградами. Потом, после Победы этот несовершеннолетний человек, научившийся у взрослых убивать, видевший все ужасы жизни и смерти, какие только возможны на свете, вдруг сразу же, в одночасье, остался без всех своих друзей-фронтовиков – они разъехались по домам, – он остался без родных, – они погибли от немецкой пули, он остался без образования, без профессии, без жилья, без средств к существованию, один-одинешенек, голодный и бездомный. И сразу же нашлись – тоже взрослые – люди, которые и научили его еще одному неудобному делу: красть со взломами, устраивать побеги из мест заключения, при побегах отстреливаться.
Ордена и медали у него отобрали, и более того – не вернули, когда он, инвалид, по амнистии вышел на волю. Но разве отнимешь у него его фронтовую, военную биографию? Он же был и до конца своей жизни останется защитником Родины. Не его беда, четырнадцатилетнего мальчика, что взрослые не позаботились о дальнейшей судьбе своего славного сына!
Нет, нужно разыскивать, нужно объявлять, нужно разбираться в каждой конкретной судьбе. Хоть нас и 280 миллионов, но участников войны осталось не так-то и много.
* * *
…На военной комиссии Союза писателей обсуждали творчество писательницы М. из Волгограда.
Женщина, служившая санинструктором в танковом батальоне в годы Великой Отечественной. Женщина, прошедшая с боями путь по Орловщине, Брянщине, Львовщине, воевавшая в Германии, Чехословакии. Любого эпизода из ее жизни мужчине, военному писателю хватило бы на эпопею. Но… Вот в том-то и дело, что Надюша – женщина. А женщина на войне, девчонка-санинструктор – самое неинформированное, самое неподготовленное в военном смысле существо. У женщины нет военного опыта мужчины – тысячелетнего, накопленного в генах, помогающего в одно мгновение оценить обстановку, освоиться, примениться, использовать все свои силы для победы. Женщина мыслит всегда субъективно, всегда повышенно-эмоционально, а эмоции, как известно, немножечко сдвигают, сгущают краски. И когда женщина-писательница все же находит в себе силу увидеть и понять в целом боевую операцию, когда женщина находит в себе силу увидеть и понять, как люди в бою соответствуют своему назначению – или же не соответствуют, – когда женщина находит в себе силу изобразить ход боя, разобраться в нем, найти центр событий, развитие действий, их кульминацию, их упадок, это все-таки выдающаяся женщина. А когда батальные сцены у нее – на уровне самой прекрасной «мужской» литературы, пусть будет стыдно мужчинам, если они не оценят творчество такой женщины.








