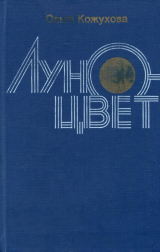
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Если именно ради этих людей мы сражались в болотах Смоленщины, мерзли под Витебском или под Люблином, отвоевывали у врага пядь за пядью родную землю, то, наверное, напрасно старались: благодарности мы никогда не получим. А если воевали не ради них, а ради собственного своего счастья, ради счастья и свободы Родины, то нельзя же всю жизнь в своем счастье прожить в одиночестве, да их и не бывает, ни свободы, ни счастья без близких людей, без народа, без новой, идущей на смену почтительной юности, без приветливых слов. Счастье жить без всего этого – иллюзорное счастье.
* * *
Шаманство на эстраде. Когда оно кончится? Певцы и певицы, особенно, конечно, последние, без конца трясут плечами, вертят бедрами, все время отбрасывают распущенные длинные волосы, то со лба, то на лоб. Такое впечатление, что это не человек, а обезьяна, и вот прыгает, крутится, вертится. Ужасно! Неэстетично, расхристанно и расхлябанно. Без уважения к публике – и к себе. А все – мода…
* * *
С детских лет ненавижу провинциальные наши нравы, прежде всего – нашу грубую брань, от которой у меня еще в юности ныли нервы, а теперь, к старости, возникает и все больше растет отчуждение, чувство замкнутости, одиночества. Ненавижу провинциальные сплетни и мелочные расчеты, провинциальную грязь и небрежность в одежде, и завистливость: «Это вы там, в Москве», и всегдашнее прибеднение: «Мы уж как-нибудь, мы попроще…»
* * *
По спортивной площадке, от школы, прошли пятеро парней, в джинсах, в черных нейлоновых куртках. Издали, с седьмого этажа, казалось, что по песку площадки идут живые олицетворенные двойки – слегка наклоненные вперед головы, согбенные спины, очень тонкие голени и – большие ступни. Ну просто живые черные двойки, скакнувшие из журнала классного руководителя и теперь деловито идущие куда-то на выход с площадки.
* * *
Сегодня дул северный ветер, деревья лохматились, пригибаясь, но сквозь мечущиеся их верхушки синело прекрасное, ясное небо, и все было ясным, сияющим, радостным, даже этот пронзительный холод. А к вечеру набрели непроглядные тучи, на улице потеплело, но, все стало тоскливым, томительным, серым, и сердце, наверное, превратилось в ледышку от такой неуютности.
Я люблю одиночество, хотя очень тоскую по людям. Это странное, противоречивое чувство, потому что, когда появляются люди, они мне мешают работать, и тогда я ругаю и их, и себя.
* * *
На улице метель. Дует со страшной силой то в одну сторону, то в другую, белым облаком раздувается снег – и летит, затушевывая собой деревья, дома, людей, троллейбусы, перспективу улиц.
Снег, как мысли.
Есть мысли, которые лежат тяжелым слоем, и двинутся только тогда, когда их обогреет солнце человеческих отношений. А есть легкие, бурные, злые, вспыльчивые, вот как эта метель. И несет и несет их по ветру куда-то, где им не будет ни зла, ни добра.
Есть мысли белые, чистые, а есть уже в самом полете как бы перемешанные с городским отравленным воздухом, – извержениями «Дорхимзавода», «Каучука», теплоэлектроцентралей. Но, наверное, эти мысли не виновны в своей черноте, как и снег тоже…
* * *
Человек, получивший социальное равенство (а может, вернее сказать, правовое) начинает полагать, что тем самым он обеспечил себе – и детям своим – уже равенство и моральное, и нравственное, духовное. А поэтому останавливается на пути к идеалу. Ибо нравственное, духовное равенство, даже понятое столь ложно, есть предел. Дальше двигаться некуда. Незачем…
* * *
Некоторые люди считают себя интеллигентными только потому, что они много читали, много знают, объездили в качестве туристов чуть ли не весь мир. Да, они созерцали прекрасные вещи – картинные галереи и церкви Флоренции, Рима, Парижа, видели закат над Фудзиямой, ели деликатесные блюда из лепестков роз. Но ведь это же все – для себя, для себя. И чем, в конечном итоге, все это возвышенней, интеллигентнее созерцания буддийским монахом собственного пупа, если добытые таким путем познания, пережитые чувства не отданы никому, если сознание собственного превосходства над другими, темными, невежественными, не улучшило душу, а сделало ее еще более черствой? Зачем такому человеку Лувр, цветущий миндаль Средней Азии, сияние вечных снегов над Эверестом, золотые пески Копакабаны?!
Никому не улыбнуться, а только смеривать сверху донизу презрительным взглядом, не поддержать старика, не поиграть с чужим ребенком, не подать денег нищему, не ответить доброжелательно на любой, даже самый наивный вопрос, не накормить и не умыть больного, – какая бесплодная, глупая жизнь! Как бесполезно она прожита. Да ведь это же потерянное время – холить себя и свой мозг, насыщая его без конца разнообразными впечатлениями, и не думать о ближнем! Не страдать за него, не пытаться помочь.
* * *
Неподалеку от Мичуринска есть станция с названием «Сестренка», вся в зарослях цветущего лоха.
На Смоленщине, во время войны, я проходила через деревни с такими названиями, что только диву давалась.
Станция Конец.
Деревни: Бабни, Бороденки.
Витязи. Соловьи. Белый мох. Новые Чемоданы. Илья Пустой. Пересуды. Горезлы. Вордевье. Коты. Глупики. Волоедово. Княжье село. Бедня. Чертовщина. Свирель. Немыкари. Кисели. Кочерга. Вошкино. Деревня Танцы.
Наверное, вся Смоленщина словно старая сказка. За каждой изгородью, в каждой роще и в каждом овраге здесь еще живут свои собственные легенды, бывальщины, «побрехеньки». За каждой околицей, на дорогах, на росстанях, на истоптанных свертках с травянистых проселков к объезженным большакам можно ходить и подбирать чьи-то шутки, загадки, что-то сладкое, пережитое, но и горькое или горько-соленое, было бы только желание глядеть не внутрь своей жизни, а вовне, в жизнь народа.
* * *
Не понимаю людей, которые всерьез могут вести споры о том, что лучше или же что важней, город или деревня?
Мое отношение к городу такое же, как к танкам и самолетам во время последней войны – уважительное, восхищенное, любовное, наконец. Ведь как мы любили, например, наши «Илы» и «тридцатьчетверки», когда они вступали в бой! Ход сражения сразу же менялся в нашу пользу. Но при всем этом поэт Александр Твардовский справедливо сказал: «Поклонитесь, девушки, пехоте!»
Так вот, деревня – это наша пехота, без которой ни танк, ни самолет не может победить врага. Никто на войне не терпел таких тягот, как пехотинец. Никто не видел так часто и так близко в глаза смерть. Именно на пехоте лежали самые трудные обязанности.
Так что, если хочешь быть объективным, поклонись вековечной пехоте – деревне, кормилице. Нужно будет, она и деревянной сохой вспашет землю и посеет хлеб, а вот город без хлеба не сделает ничего: ни танка, ни самолета, ни ножа, чтобы резать хлеб.
* * *
Однажды в гостях я увидела обычный старинный семейный альбом, начала его рассматривать, но многого не поняла. Тогда хозяин альбома начал мне объяснять:
– Тут целые серии. Вот первая серия: ноги моей жены.
Откадрированный кусочек пожелтевшей фотографии запечатлел две детские ножки в лаптях и в онучах. Ниже подпись: «Лаптем щи хлебаем». Затем эти же ножки были чуть пополнее, в брезентовых белых тапочках с темной каемкой и в белых носочках. Вкось написано: «Демонстрируем мощи».
Еще ниже, другим почерком:
«Не подумайте плохого! Это я – школьница, на демонстрации».
Но муж перелистнул страницу. Дальше были ножки в замшевых лодочках и чулках со стрелкой, юбка длинная, до лодыжек. И подпись: «Не выходим из моды».
Затем эти же ножки в белых туфельках. Подпись: «Это наша медвежья свадьба».
Затем было изображение грубых кирзовых сапог и рядом приклад винтовки. «Всю-то я вселенную проехал…»
Ниже этой фотографии – молодое девичье лицо и погоны старшего лейтенанта. Видимо, все это входило в один общий замысел композиции.
Заканчивалась серия стройными женскими ножками в парчовых домашних туфлях, одна нога на диване, другая спущена. Подпись: «Скорей кормить мужа!»
Меня поразили и другие композиции: «Брови и глаза моей жены», «Волосы моей жены». «Мои соперники» – здесь было несколько сюжетов. Корыто с бельем. Кухонная плита. Женщина на тахте с книгой в руках. Она же – за роялем. Она же у телефона. Она же сидит, смотрит телевизор.
Боже, но я же знаю, что она умерла…
* * *
Одинокая женщина, старая дева, в «родительскую субботу» ходит по сельскому кладбищу, на котором и могилы-то нет родной, и на те позабытые, что травой заросли, крошит яйца и хлеб, поминает всех тех, кого не было в ее жизни и нет, и не будет уже никогда. Ни друзей. Ни родных. Ни знакомых…
* * *
Обычно еще днем эта женщина звонила мужу на работу и спрашивала, чего приготовить на ужин. А он отвечал:
– Что полегче.
– Это как понимать?
– Ну, как? Понимай в прямом смысле слова. Легкая пища – это та, которую легко достать, тяжелая – та, которую достать трудно. Так вот, готовь то, что полегче.
Жена обижалась и делала наоборот. Она ездила через всю Москву в какие-то магазины, к каким-то знакомым, доставала «заморскую» икру, севрюгу горячего копчения, языки, белые маринованные грибы, жирнейшего палтуса, шпиговала утку, отваривала с укропом раковые шейки, – вообще уже чудо из чудес – и все к приходу мужа складывала в холодильник. Но так там оно и оставалось. И лежало подолгу-подолгу. А муж ел степняцкий пшенный кулеш, отварную картошку, пил холодное молоко. Вот и все, что его привлекало. Еще чай с черным хлебом. Еще щи из кислой капусты. Ну, как праздник – лимонный квасок.
Вот вам и «полегче». Степной кулеш… Вы сумеете его приготовить?
* * *
Никогда не говорите бездарному литератору, что он бездарен. Говорите, что на нем плохо сшитое платье, что он сегодня «не в лице», что у него очень неровный, вспыльчивый характер и т. д. Но не говорите, пожалуйста, что ему просто надо заниматься не литературой, а каким-нибудь другим делом. Тут же, в этот же миг, как только вы скажете это, вы нажили себе врага на всю жизнь, – и двадцать, и тридцать лет дружбы окажутся перечеркнутыми за одну только стародавнюю, выстраданную свою мысль, высказанную вслух!
* * *
По-моему, нет ничего красивее хлебного поля, тропинки во ржи и застывших, чуть дремлющих в солнечном мареве сосен и елей, окаймляющих горизонт. Где я только ни ездила, чего ни видала, какой красоты – от Фудзиямы до серой, пенистой Эльбы в мае месяце, – а увижу тропинку во ржи, и все во мне вздрагивает от щемящего душу счастья, до слез, – словно пыльная эта тропинка и есть моя главная, основная и единственная родина.
Об этом же рассказал Иван Бунин, мой земляк, мой любимый писатель.
Вот они, его строчки:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
* * *
Нестерпимы в Москве июльские знойные дни.
Тянет за город, в прохладу лесов, к речке, в заливные луга. Душным вечером, в городе, после работы, с каким-то особенным чувством вспоминаешь притихшие от безветрия темные и сырые подмосковные боры с малахитовыми болотцами, с облаками цветущей медвяной таволги, а то с розоватыми, в рост человека, куртинами иван-чая. Птицы, может быть, в это знойное время уже не поют, да и нет в них нужды, – стукнет дятел по дереву своим зароговевшим горбатым клювом, ну и ладно. Или лесная горлинка заворкует; заверещит осторожная сойка. И – живет лес, настоянный до краев ароматом смолы, увядающих трав, пряных желтых цветочков аптечной ромашки, зверобоя, переспелой малины.
А в субботу все нити, которые держат тебя в каменных, раскаленных громадах огромного города, рвутся напрочь. Машина летит по натянутой ленте шоссе так, что ветер засвистывает в окне. Мелькают веселые разноцветные двухэтажные дачки в садах, с цветниками возле крылечек, красивые справные деревеньки, поля, перелески, лужки со стадами коров, огромные корпуса вынесенных далеко за черту Москвы заводов и фабрик, «стекляшки» – кафетерии и магазины. И всюду, куда ни взгляни, антенны, столбы, провода, ажурные фермы шагающих к горизонту линий высоковольтных электропередач.
За Загорском мы сворачиваем налево и едем по непривычно пустынному шоссе, вдоль которого то тянутся красивые смешанные леса, то поля яровых и озимых хлебов, то мелькают лужайки с цветами, с извилистыми тропинками, уводящими куда-то в глубь зеленой непуганой тишины.
Вдруг машина взлетает на небольшую высотку – и мы останавливаемся. Впереди, а также справа и слева от дороги тянутся извилистые холмы. Их делит пополам, как ножом, речная долина, поросшая лесом. На холмах вдалеке черно-синими гребнями, зубчатыми линиями уходят на многие километры вековые леса. Прямо вниз, от колес нашей «Волги», начинается обрыв. Он потом становится все положе и положе и идет до самой реки, которая узорчатой вязью петляет по зеленой долине. В жарком солнце все млеет, дымится. Над дальними, еле видимыми на горизонте борами, несмотря на ранний утренний час, уже скапливается непроглядная белая мгла.
За жизнь я много поездила по стране. Но такую красоту видела впервые. Это было зеленое, доброе, тихое чудо, драгоценное чудо российской природы. На лежащую меж холмов долину, на холмы и лес, протянувшийся крепостными стенами к горизонту, невозможно было насмотреться, – в них таилась какая-то неосознанная нами беззвучная музыка, завораживающая гармония, порожденная сочетанием мягкой зелени трав и немного угрюмой черноватой хвои, голубого просторного неба и текучих, волнистых, но плавных задумчивых линий холмов, почему-то напомнивших вдруг об Ослябе и Пересвете, о всадниках, одетых в кольчуги и шлемы, на могучих конях, с мечами и копьями в руках. Наверное, сама древность гнездилась здесь, дышала в лицо, сохраненная этой долиной и этой рекой, этим лесом, полями. И так сладко, так радостно было чувствовать себя не чужой на этой земле, а родственно-близкой и причастной ко всем дням ее великой истории, – и красивым, и горьким.
С мучительно-сдавленным сердцем, – от нахлынувших чувств, а еще – от болезненной немоты, не дающей нам выразить эти чувства, мы садимся опять в пропыленную, раскаленную солнцем машину. Надо ехать. Но едем мы, к счастью, все еще не назад, а вперед, в те самые, захмелевшие от июльской жары перелески, в долину, что манит с обрыва. День велик, все еще впереди.
Деревеньки на взгорках совсем как из сказки: с тонким кружевом наличников, с замшелыми крышами, с безлюдными затравеневшими улицами сплошь в розовой кашке и в бледных лиловеньких колокольчиках. Ребятишки, играющие на траве, все до единого белоголовые, волосенки повыцвели за весну и за лето на солнце. Проезжаем одну такую деревеньку, другую и третью. Асфальт уже кончился. Мы едем колхозной дорогой, посыпанной гравием и песком. Но песок смешан с глиной. Поэтому клубы коричневой пыли вьются справа и слева от нашей машины, как какие-то легкие, невесомые, неотступно дразнящие нас летучие змеи, то хватаются за колеса, то заглядывают в полуоткрытые окна или, свиваясь в кольцо, с испугом отпрядывают от дороги. Наконец, подъезжаем к какому-то дому. Дверцы сразу распахиваем и вываливаемся на траву, как некие инопланетные существа, – в сладкий клеверный дух, в спокойное, бездорожное царство, в бездумную знойную тишину, нарушаемую лишь клохтанием курицы над цыплятами да гагаканьем стада гусей, лениво бредущих по улице.
Нам выносят холодной воды, а потом – позабавить – хорошенького, в мягких складках щеночка. Он доверчиво кажет пузо, валясь на исклеванный курами серый песок, машет черненьким хвостиком, прижимается теплой мордочкой к нашим коленям, к ладоням. Вот загадка природы: отчего все нежившее, юное, несмышленое так прелестно? Может, с опытом, с возрастом к нам приходит и горечь, а с горечью, с болью, с обидами – изживание этой радостной прелести и простоты?
Под старой сиренью, на грубой скамейке, ведутся длиннейшие сложные переговоры. В результате их мы сворачиваем на прогон и едем уже без дороги по лугу, мимо мягких, атласных зеленых овсов. А вот и река. Когда-то, наверное, полноводная, очень красивая, сейчас обмелевшая: где по щиколотку, где по колено. Вся в дремучей уреме, в малинниках, в ольшанике, она, извиваясь, течет мимо заливных лугов. Трава уже в белых шариках одуванчиков и горицветов, в грязной вате каких-то неведомых мне перезревших растений, то буреет, а то желтеет метелками, полными семян.
Луг с одной стороны окаймлен грядой леса. Отдельные купы берез и кустарников выбегают из леса под открытое небо, совсем как дети, – попрыгать, понежиться. Но, наверное, завороженные, как и мы, замирают да так и остаются стоять над рекой, по пояс в траве. Там, где лес отступил от реки, – ощущение широты и простора наполняет всю душу. Даже странно, что все это в ней умещается. Все вбираешь в себя и бережно, как драгоценность, укладываешь на дне памяти. Потом увидишь через долгие годы какой-нибудь стебелек – и повеет в лицо вот таким переспелым, желтеющим лугом – и сразу припомнишь золотое от солнца июльское небо, реку, лес, необъятные голубые просторы…
Мы бегаем по лугу, дышим лесными и полевыми ароматами, бродим в тихой задумчивости по реке, пробираясь далеко вверх по течению, – где песчаными отмелями, где обрывистым берегом, где по самому стрежню. Кажется, что все сброшено и с души и с плеч. Человек уже легче воздуха, легче птицы, он промыт и провеян прохладным ветром и забыл обо всем: о заботах, о пережитом. Один на один с жарким солнцем, с травой, он и сам сейчас как трава, наслаждается этим полднем и этой свежестью совершенно бездумно.
Вместе с нами и наш проводник из деревни, пастух Петя, невысокого роста, в защитного цвета рубашке, загорелый, с белесыми волосами, распадающимися волнистыми прядями. Он показывает нам места, где тенистей березы, где желтее песок, где красивей, безбрежнее луга. Очень скромный и молчаливый, Петя движется как-то мягко, спокойно, смотрит он с застенчивой деликатностью и молчит не сурово, не с тайной угрюмостью, а в каком-то спокойном и добром согласии с окружающей нас молчаливой природой…
Уже где-то на склоне бездонного, бесконечного летнего дня мы садимся на лужайке в кружок и раскладываем припасы, – хлеб, черный и белый, сыр, колбасу, малосольные огурцы, помидоры, металлические стопочки, убирающиеся друг в друга, – а Петя встает и тихонько, бочком растворяется в чаще кустарников. Так, что в первые две-три минуты никто и не замечает, что его уже нет. Словно кончив играть в нашей жизни какую-то важную, нужную роль, он ушел за кулисы и там отдыхает.
Мы зовем его: «Петя! Петя! Где ты?.. Вернись!»
Тогда он, смущенный, неловкий, неспешно, как будто бы и не уходил, возвращается к нашей лужайке, в руке у него на клочке газетки горстка спелой малины, набрал по кустам. Я так понимаю, набрал для того, чтобы чем-нибудь сгладить и свой незаметный уход и вынужденное возвращение. В этой горстке малины для меня весь его непростой, очень русский характер.
Мы раскладываем перед Петей еду, наливаем в стаканчик. Он почтительно выпивает, но закуску берет осторожно, помалу, жует черную корочку. Приходится подавать ему приготовленный бутерброд, угощать. Наливаем еще стопку водки. Он пьет, не хмелея.
– Петя – бог! – говорит человек, который давно уже знает и эти места и Петю. – Он такой человек! Как скала! Еще никогда никого не подвел. Что скажет, то сделает! А рыбак… Братцы вы мои дорогие… Это что-то особенное! Он, конечно, не знал, что мы сегодня приедем, а то наловил бы уже окушков или щучек, ушицы сварить.
Петя прячет не то чтобы улыбку, не то чтобы усмешку, а какие-то тихие, теплые отблески на лице. Это, по-моему, не тщеславие и не гордость собой, а просто какой-то невидимый знак, что он понял всю высказанную в его адрес похвалу, что она не прошла мимо сердца. Но – и только. Не больше.
В ответ на вопрос: давно ли он здесь пастухом, Петя тихо, спокойно, с достоинством отвечает:
– Лет двенадцать уже…
– А сам родом откуда?
Он кивает:
– Отсюда.
– А что делал до этого?
– Служил в армии. Был ракетчиком.
– И в каком же был звании?
– Капитан…
Я на миг замираю.
Я смотрю с удивлением на человека, подчинявшего себе мощную электронную технику, готового по биению электрических импульсов, по мерцанию голубоватых экранов поднять с ложа и выпустить в небо серебряную громовую стрелу, несущую смерть врагу, адский грохот и адское пламя.
Капитан ракетных войск, в этой выцветшей, побелевшей армейской рубашке, пастух деревенского стада…
Я гляжу на него с неожиданным интересом.
Кто-то спрашивает:
– И не тянет тебя назад, в город, Петя?
– Нет, не тянет. – Он молчит, обводя наши лица каким-то особенным сдержанным взглядом. – Не тянет, – повторяет он. – После армии предлагали хорошие должности и работу в Норильске, в Сибири. На строительстве ГЭС. А меня потянуло домой… Вот я и приехал.
– Петя – парень во! – показал большой палец наш товарищ, привезший нас сюда, на луга. – Правда, вот жена у него старая. Старше его на девять лет… Он уже с ребенком взял ее к себе в дом… Ну, теперь ничего. Свой родился…
В лице Пети не дрогнул ни единый мускул. Он все так же, спокойно, как и прежде, молчал, глядя в землю. Потом без нажима, как будто и не заметил неловкости от сказанных нашим другом слов, негромко заметил:
– Мы с женой живем хорошо…
И в этом спокойствии, в каком Петя так скромно, так сдержанно заступился за собственную семью, мне увиделось: а ведь Петя – счастливец. Будоражатся и размахивают руками, на мой взгляд, только те, кто и сам не верит в свое счастье, в любовь. Тогда им непременно, во что бы то ни стало нужно в чем-то убеждать своих собеседников и доказывать им не очень-то доказуемое. А Петя в самом деле, видимо, жил с женой хорошо; я их много встречала, как будто бы внешне неравных и даже смешных для постороннего взгляда браков, а по сути, исполненных самого чистого, самого доброго, верного чувства.
Мне стало неловко за себя, за товарища.
Я подумала, как бестактно мы иной раз влезаем в человеческую душу со своими оценками, с привычными мерками. Как хотим везде насадить одинаковость в мыслях и в чувствах, в понятии счастья…
После долгого, тихого, деревенского отдыха, после ужина под деревьями, мы медленно, как бы нехотя, возвращаемся тем же лугом, тем же полем с атласными светло-зелеными, еще не желтеющими овсами, той же самой деревней с сиренями и со щенком.
Петя, выйдя раньше других из машины, пошел к себе в дом и быстро вернулся, ведя с собой женщину. Он подвел ее к нам. То была миловидная, крепкая русская баба с моложавым, улыбчивым, тихим лицом. Повязанная под подбородком платочком, она встала застенчиво, как бы боком и как-то сияя счастливой улыбкой, с какой-то особенной нежностью, бережно подняла в руках чуть повыше, чтобы мы все увидели грудного ребенка в кружевной белой шапочке и в расшитых пеленках. Сверху эти пеленки были затейливо перевязаны голубой шелковой лентой.
Было что-то старинное, домотканое в этой женщине, в этом ребенке. Наверное, во всем свете уже не увидишь такого простого, умиленного своим чувством материнства, освященного т и х и м счастьем лица, как вот в этих глухих захолустных деревушках в стороне от дорог, в самом сердце России, куда человек возвращается, все изведав и умея все сравнивать.
Уезжала я оттуда со странным чувством утраты. И еще – недовольства собой. Утраты такого вот, как у Пети, спокойствия, силы, сознания, что живешь ты единственно правильной жизнью и что любишь единственно настоящее, цельное. Недовольства собой потому, что во мне уже, видимо, нет и не будет больше связей с деревней, с землей, как у Пети, с этим пахнущим клевером и овсами, волнующим воздухом, с речкой, а главное – с извечно живущими здесь, чем-то близкими мне людьми. Потому, что ко мне они – рано иль поздно, а обязательно – применят суровую, трудовую, а значит, высокую мерку. И я никогда уже, видимо, не подойду, не вживусь в эту жизнь, ибо вечно растрачиваю свое время, свой труд на текущее, неуловимое, не дающее хлеба.
К сожалению, во мне нет спокойного мужества капитана-ракетчика, отказавшегося от городов с их соблазнами и ликующе-бешеным ритмом жизни, предпочитающего перед всем остальным луг и медлительных, сытых коров с их парным молоком, с их запахом стойла, с их задумчивыми глазами, отразившими и движение солнца по кругу и такое же круговое, извечное движение времен года.
* * *
Писатель должен быть доверчивым, простодушным, когда он встречается с простодушным, доверчивым существом, и быть самим дьяволом по прозорливости и изворотливости, когда он встречается в жизни с каким-либо дьяволом во плоти. Ни одно явление жизни при этом нельзя изображать однозначно. Там, где увидена одна плоскость из множества пересекающихся плоскостей, там, где открыто и определено только одно чувство изо всей многослойности их, там, где не найдены векторы направления во взаимоисключающих силах, притягивающих героя, мы теряем и правду жизни вообще, и правду уловленного факта. Факт обычно в произведениях предстает перед нами электрическим прибором с оторванными проводами. Чтобы прибор этот задействовал, его нужно подключить в сеть, да еще заземлить, да еще выбрать нужное напряжение. Один и тот же факт может вырабатывать разного рода энергию, двигать поезд и сушить волосы на бигуди.
* * *
Как мудрый садовник, писатель, выращивал своего собственного критика: нежно холил его и лелеял, поздравлял с днем рождения и с днем ангела, рассыпал перед критиком хвалы, а когда тот сказал правду, перестал с ним здороваться.
* * *
Стиль – это точно выраженная мысль со всеми оттенками настроения. Хороший стиль узнаешь по простой и точной мысли. Когда я во второй раз читала «Владимирские проселки» В. Солоухина, я разглядела довольно значительные погрешности в языке и просто неловкости во фразах. Но они не видны невооруженному глазу потому, что на первом плане мысль, следишь за развитием логического построения, а уж потом видишь, как это построение выражено.
Однако пусть это не утешает тех, кто пишет неряшливо. Всякая неряшливость от небрежности тотчас же выдает себя с головой. Видимо, в этом и есть тайна мастерства, тайна настоящей литературы. Казаться неряшливым – и не быть им! А как только действительно станешь неряшливым – тут тебе и конец.
* * *
Есть предметы, которые у поэтов и художников на протяжении многих лет вызывают одни и те же эмоции, одни и те же образы. Со временем эти образы вырабатываются в окаменелые штампы, которые как бы срастаются или, лучше сказать, спекаются с определяемым в данный момент предметом.
Так дело обстоит и со мной. Достаточно услышать, что кто-то из критиков написал статью о моих книгах, как можно заранее, не читая, сказать, что есть в этой статье «Сестрички», доброта, тяжелая судьба, героический порыв. Я даже заранее знаю, какие именно цитаты будут приведены в той статье. Чем начнет и чем закончит свою мысль благожелательный критик. Не сговариваясь, но внутренне подчиняясь уже выработанному шаблону, эти авторы и цитаты-то все приведут только из первой главы. Так, что даже невольно подумаешь: а листал ли кто-либо из них книгу дальше, до конца? И если листал, то почему его внимание не привлекло что-либо другое, не жизнь девочки в батальоне или в полку, а жизнь батальона, полка, жизнь страны в это время – разве я умалчиваю о них?
* * *
Жажда власти над близкими, подобными себе, у человека похожа на жажду ростка, идущего вверх, к солнцу, с одной только разницей, что цветок ради роста никого не убивает, он движется вверх медленно, постепенно, его рост слагается из объективных причин: состав почвы, дожди, солнце, суточная цикличность, вращение земли и т. д. Человек же иной раз выскакивает из небытия, как болванчик, усаженный на пружине под крышкой размалеванного ящика. Что именно возвышает его над остальными, какая сила? Почему именно его слова должны иметь силу приговора, решать раз и навсегда, «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим»?
* * *
Жизнь писателя чрезвычайно сложна. Но один пишет быстро и бойко – и тем компенсирует тяжесть своего бытия. У него есть возможность насладиться «плодами своего труда». Другой пишет медленно, неповоротливо, и все ему в жизни – и в литературе – загадочно-трудно: как вложить свои замыслы в этот медлительный и, теперь скажем прямо, мучительный труд? Например, я хотела бы написать и о первой, еще почти ребяческой любви – и о любви, уже отягощенной трудностями, выстраданной, дающей последние радости жизни. И опять о войне. И еще раз о войне. Ибо это самое главное в моей маленькой незначительной жизни. Например, я хотела бы написать о госпитале, расположенном на лесистом холме, и как мы ежедневно ходили из него на ночлег в соседнюю деревню – через заснеженный луг, потом по льду реки, потом поднимались на бугор, обдутый ледяными декабрьскими и январскими вьюгами, потом расходились по деревенским избам, холодным, без света в подслеповатых окнах. Мы были молоды, голодны и вечно усталы, не хватало сна – рано утром, еще во тьме, нужно было встать, умыться ледяной водой из колодца и снова спуститься с обдутого ветром бугра на лед реки, перейти его, оскальзываясь, выйти на луг и долго шагать по натоптанной, кочковатой от снега тропинке…
Хотела бы, хотела бы – да где силы взять?..
* * *
Жил на свете такой скромнейший честнейший писатель – Иван Федорович Трусов. Человек невысокого роста, но широкий в плечах, крепкий, плотный, с широким же, белым лицом, чуть мучнистым, с бородавкой на щеке. Лоб у Трусова был высокий, с залысинами, а волосы чуть курчавились. Говорил он всегда очень тихо и при этом по-девичьи как-то покачивая плечами, не то от застенчивости, не то от кокетства. И красивые его почти девичьи губы выразительно двигались.
Всегда тихий, внимательный, вежливый, он ни разу не повысил голоса, никогда не ругнулся, как ругаются многие на войне, никогда не пожаловался на неудобства, а таких неудобств в нашей армейской редакции было много: жили тесно, мешая работать друг другу, ели впроголодь, вечно махорочный дым коромыслом. А он тихо сидит за столом и всегда что-то пишет очень мелким, почти неразборчивым почерком.
Помню первый рассказ, прочитанный мною в газете за подписью Трусова. Это был небольшой рассказик, на «подвал» в армейском нашем листке, да к тому же и набранный достаточно крупно. Но вот то, что было написано в этом рассказике, поразило меня.
Суть его такова. Убили фашисты хорошего парня, разведчика, которым все гордились в воинской части. И вот молодой, необстрелянный солдатик, прибывший с пополнением, однажды видит, как друг убитого разведчика выкладывает у товарища на могиле из стреляных гильз пятиконечную звезду. «Как красиво ты делаешь! – говорит новобранец. – Дай, я тоже тебе помогу». И он начинает собирать неподалеку, в траве, валяющиеся стреляные гильзы. «Они не нужны. Вот когда убьешь своего первого фашиста, вот ту гильзу принеси, чтобы было чем продолжить рисунок. Мои гильзы, они не простые, я по ним веду счет убитых врагов».








