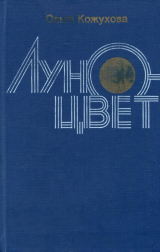
Текст книги "Луноцвет"
Автор книги: Ольга Кожухова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Когда Ушаков вошел к себе в комнату, он увидел посапывающего на кровати Антонова и разбросанные на полу и по креслам переводы речей и отчеты о конференции, хиросимские газеты, освещавшие ход работы; тут же рядом валялись его вытащенные из шкафа и тумбочек платки, носки и измятые, скомканные рубашки. У окна в распахнутом чемодане сиротливо лежали бритва, мыло и пара ботинок.
– Васюта! Проснись! – затряс Ушаков Антонова за плечо. – Ты чего это дрыхнешь? Через десять минут уходит автобус!
– А? Что?! – Тот проснулся, вскочил, но сразу же, видимо, оценив обстановку, зевнул, потянулся лениво и опять завалился на смятые простыни. – Ничего, – сказал он, чуть прищуриваясь от яркого света. – Без меня не уедут!
– Говорю, вставай быстро! Сейчас уезжаем, опоздаешь на поезд!
– А, на поезд! – сказал тот, позевывая на подушках. – Тогда ладно, действительно надо вставать.
И он сел на кровати, потягиваясь и зевая.
Николай Николаевич принял душ и стал быстро укладывать чемодан: аккуратно, без складок, белой стопкой рубашки, темной стопкой носки, всему свое место. Там, в гостинице, по приезде только вынуть и разложить.
В двери номера кто-то коротко постучал.
– Да, войдите! – крикнул Антонов.
Вошел чисто вымытый, свежевыбритый, бодрый Романов.
– А я сижу, жду! – сказал. – Вы еще не готовы? Вы случайно не позабыли, что едете в Нагасаки?
– Помним, помним, Георгий Иванович, сейчас соберемся! – ответил Антонов. – Это вот Николай виноват, где-то долго ходил…
Ушаков покосился на шефа.
Романов прошелся по комнате, понимающе усмехнулся.
– Пеняй на соседа, что спится с обеда, – кивнул он иронически, уселся в спокойное, низкое кресло и вытянул ноги. Сам он вообще никогда никуда не спешил и всегда появлялся в назначенный час, словно был заведен и отлажен, как особенный механизм. Впрочем, это касалось всегда только работы. О себе самом он не думал, забывая поесть и ложась спать всякий раз слишком поздно для того, чтобы выспаться.
– Вы обедали, дамы и господа? – спросил он, включив телевизор.
– Да. А вы?
– Нет. Я только что с пресс-конференции…
– Ну, и как же? – спросил Ушаков. – В вагоне-то вряд ли найдется.
– Как-нибудь проживу…
– Может, взять бутерброды?
– Ну, еще чего! Нет, не надо… – Романов смутился. – Нет, пожалуйста, не беспокойтесь… Я надеюсь, в дороге мы чего-нибудь да придумаем? А?
– Да, конечно!
Ушаков, уложивший уже чемодан и готовый к отъезду, сел с Романовым рядом и закурил, глядя не на белый экран, не на быстро мелькающую рекламу, а куда-то в обитую плотной материей стену.
Есть люди, поставленные своей должностью над другими и так этой должностью удрученные, что у них уже не остается свободной энергии на улыбку, на шутку, на простые, хорошие, добрые отношения. Их досуг, их внимание поглощаются обыкновенно лишь единственным опасением: а как бы не оступиться, а как бы прочней удержаться на своем высоком месте, не сказать чего лишнего, не унизить себя несолидным знакомством. Для них шутка не сила, а слабость или, что еще хуже, безделье ума.
Ушаков еще задолго до отъезда, в Москве, оценил деловые достоинства шефа, сохранившего в себе юмор и спокойный характер, в том числе и привычку не требовать, не просить, а безропотно, уважительно ждать, если дело касалось лишь его самого; в этом было и что-то крестьянское и что-то типично, интеллигентское.
Николай Николаевич покосился на сидящего в кресле Романова: тот дремал, свесив руки с колен, утомленный работой. Как солдат после боя. Лицо его, еще гладкое, без морщин, сразу стало простым и домашним, а веки набухли, налитые тяжестью.
Почему-то припомнилась зима сорок второго и – один человек, очень схожий с Георгием Ивановичем, ну, не внешностью, не разговором, конечно, быть может, и не характером, а таким вот спокойным и трезвым отношением к себе.
11Это было почти на рассвете, после боя в Ненашеве, когда раненый и обмерзший Ушаков шел в санчасть по разъезженной и изрытой дороге. Снег лежал на колдобинах серый, крахмалистый, от мороза сухой, нога в нем тонула, увязая по щиколотку, оскальзываясь на наледях, облизанных ветром.
На околице возле Осинина, у железной дороги, лежали разбитые грузовики, перевернутые взрывами бомб полковые повозки. Убитых и раненых уже не было, их, наверно, убрали. Только рыжие пятна крови и конской мочи стеклянисто поблескивали в свете изредка выползающей из-за тучи луны.
Пожары здесь тоже были погашены, дыма, пламени не было, но пахло горелыми железом и рожью – застревающий в легких и в памяти запах беды. Ушаков никогда уже больше этот запах не забывал, он, пожалуй, доныне точил ему горло.
Двор в санчасти полка был забит пароконными розвальнями, полуторками и трехтонками, санитары укладывали на охапки соломы, настеленные в кузовах, нетранспортабельных раненых – вероятно, в предвидении отступления, – изможденных и обескровленных, погасших людей в разорванных и прожженных шинелях, с распоротыми рукавами, в кое-как прибинтованных валенках. Иные из них были белыми, плоскими, словно мумии, запеленатые бинтами с головы и до пят, без носа, без глаз, одна щель вместо рта.
Николай видел это уже не впервые: как укладывают на повозки людей, как белеет и морщится от страданий лицо и становится известковой маской, как просачивается сквозь бинты и лубок уже несколько коричневатая кровь, сотни раз видел это, а привыкнуть не мог и всегда наблюдал эту сцену с единственным, одинаковым чувством натянутой через сердце струны, и всегда внутри него в эту минуту что-то грузно ворочалось, напрягалось, налегая на эту струну тяжело, неупруго, так, что, может, нажми еще чуть поплотнее – и разрежется сердце легко и без боли.
Ушаков по дороге к Осинину с наслаждением представлял себе душное избяное тепло – печь, в которой смолисто потрескивают дрова, деревенскую лавку, на которую он усядется и попросит чайку и махорки. И он явственно уже видел и кружку, в которой ему этот чай подадут, и кисет, и бумагу – свернуть козью ножку, и как он, Ушаков, будет пить этот чай, потемневший от крепкой, распаренной на печурке заварки, пока не замлеет от жара совсем нерабочая, непривычная к делу рука, та, левая, не попавшая под разрывную, потемневшая на войне, как на поле у мужика, от трудов и от зимнего, льдистого солнца.
Но, войдя в темный двор и увидев полуторки и трехтонки с носилками на соломе, а потом разглядев вдоль забора молчаливую очередь жмущихся от мороза людей с неумело наложенными, самодельными, расползающимися повязками, иногда и совсем без бинтов, замотанные в полотенца, застиранные и затертые, а сейчас намокшие от крови, Ушаков только скорбно вздохнул: ему, видимо, не достояться, а об отдыхе, о чаях и махорке и вовсе нечего думать.
Он прошелся вдоль очереди поглядеть, нет ли, часом, своих, скоротать за беседой время, никого не нашел. В сенцах было темно, здесь солдаты сидели теснее, прижавшись друг к другу: кто дремал, кто постанывал, кто-то дергал простуженно носом, надрывисто кашлял. Какой-то боец в черном танковом шлеме сидел на пороге, склонив низко голову.
– Что, браток? – спросил у него Ушаков. – Очень плохо? Иль спишь? – И добавил, тряся его за плечо: – Спать нельзя на морозе, смотри, не проснешься!
– Да нет, ничего, – ответил танкист. – Голова болит…
Он был маленький, ладный, в черной кожаной куртке, в ботинках с обмотками.
– Ты ранен? Иль болен?
– Ранен, – как-то совсем неохотно ответил танкист. – Под Ненашевом, нынче в атаке…
– Знаю. Сам сейчас только оттуда! Ну и как ты? Куда тебя ранило?
– Сперва в голову, – танкист тронул затылок рукой и поморщился. – Потом в ногу! – И он указал вниз, на землю, нога его была вытянута, не сгибалась в колене. – А тут танк загорелся, надо прыгать, взорвется, я прыгнул, так руку сломал…
– Повезло тебе, друг! Это же полный ассортимент!
– Да. Выходит… – Он поднял курносое, в крупных серых веснушках лицо. – Я вообще думал – все, замерзну, до наших не доберусь… Сперва фрицы по мне одиночными били так прилежненько, щелк да щелк, а я от воронки к воронке. Потом наши. Наверное, приняли за фашиста. Километра три прополз, пока вышел из зоны… Дополз до дороги, чуть-чуть отдышался, гляжу, машина какая-то прет, а крикнуть нет сил. Шепчу: «Помогите!» А они мимо… Конечно, мотор-то гудит и гудит… Так почти до Осинина по-пластунски на брюхе…
– Мда-а, история! – удивился рассказанному Ушаков. – А чего же ты здесь-то, с такими ранениями! Иди прямо, без очереди. Тебе ж срочно на стол…
– Ничего… Обожду. Видишь ты, сколько к ним набежало народу… Говорят, третью ночь так, – помедлив, ответил танкист, поправляя ребристый матерчатый шлем. – Врачи не справляются.
– Ну нет, так нельзя, – сказал Ушаков и пошел через сени, раздвигая плечом застывшую очередь. Его даже никто не окликнул, никто не заспорил, он дернул набухшую дверь.
Спустя полчаса, оставив танкиста в избе у хирургов, он вышел во двор, к темной очереди, не кончающейся, а, как показалось, еще более растянувшейся за это время, поглядел на нее с неохотой, угрюмо – сам-то он не воспользовался предложением сделать ему перевязку, хотя бы и на ходу, – и выбрался по растертому снегу на улицу, где шоферы возились с разбитой машиной. Там отчетливо слышался грохот боя, долетающий от Ненашева. За каймою далеких еловых лесов, бегущих зубцами по самому горизонту, разгорались пожары. То и дело с коротким, надтреснутым звуком оттуда неслись и рвались на окраине у Осинина, возле самого переезда, тяжелые мины. В стороне, может быть чуть правее Ненашева, два-три раза сверкнули медлительные и отсюда как будто бы даже не страшные трассы «катюш».
Он глядел на клубящиеся облака над лесами и думал о маленьком ладном танкисте, оставшемся там, в санчасти, в избе.
«Человек, он себя измеряет не мерою совершенного подвига, – размышлял Ушаков, – а мерою пережитого страха. Вот я столько раз за сегодня падал в снег, и оглядывался, и перебегал, и так страстно, мучительно жаждал выжить, что теперь весь избит и измучен, изжеван войною и, кажется, бог знает что совершил! А этот парняга, израненный, переломанный, чуть не сгоревший, обмерзший и ползший полночи по снегу, все, что за день случилось с ним, считает нормальным. Ему некогда было бояться: он тяжко работал… Награди его орденом – он сам первый удивится и станет доказывать, что дали ему ни за что…»
Ушаков представил себе свой полк и бойцов, залегших на поле, а возможно, уже окопавшихся в мерзлой земле. Он увидел обрезанные как бы острым ножом по краю воронки, дотлевающие останки грузовиков и бронетранспортеров и свой вынесенный на высотку КП, прикрытый еловыми лапами, – просто яма, еще без бревенчатого защищающего наката, без печки, без нар, но уже с телефоном, – и медленное, монотонное повторение сухим, сиплым голосом: «Я – «Сосна», я – «Сосна»… Отвечайте!» И разрывы снарядов.
Тем же самым размеренным, точным жестом, каким только что танкист надвигал на глаза свой ребристый матерчатый шлем, Ушаков поплотнее надвинул ушанку на лоб, закрывая его от ломящего встречного ветра, и пошел, перемешивая сапогами растертый полозьями и машинами серый снег, той же самой дорогой, по которой пришел, но в обратную сторону, то есть к фронту, к освещенному заревом дальнему лесу, на короткие взблески и скрежет эрэсов.
12Как вполне насладиться тобою, земля?
Поезд мчится через леса и болота, мимо пашен под зябь, мимо темных, желтеющих пожнивей. Вот деревни – изрытые, грязные колен, избы, крытые толем, плетни, огороды. Тут и там под окошком рябина иль бузина в красных гроздьях, рябые подсолнухи. За деревней – луга в пышной поздней отаве. На лугах у реки стадо пестрых коров. Под деревом спит пастушок.
Мимо, мимо…
Воздух пахнет не этой прохладной, речной ли, колодезной свежестью, а вонючим, каменноугольным дымом, машиной и смазкой, людским потом и пылью…
С самолета земли вообще не видать.
Там, внизу, какие-то грязно-серые кочки в длинных белых потеках. Говорят, что это Саяны, хребты, вечный снег. На плешинах откосов пятнистая прозелень хвойных лесов. В глубоких долинах – извивы могучей, набухшей в разливе реки – сверху маленькой, тоненькой, как бельевая веревка.
Что сейчас там, внизу? Дождь или солнце? В разрывы клубящихся облаков ничего не увидишь… Как живут там, в разбросанных поселениях, люди? Что их радует, что их печалит?
Где кустится черемуха, где алеют брусничники, кто следит за веселой, пушистой белкой, когда она прыгает с ветки на ветку? Кто слушает гомон птиц, потревоженных гулом мотора от невидимого самолета?
Никогда не узнать, не увидеть, не успеть полюбить этих темных, таежных, извилистых троп, этих тихих проселков в хлебах, этих маленьких деревень на равнинах с их запахами молока и кизячного дыма, с ребятишками на гумне, играющими с собачонкой…
Кто придет к ним за счастьем, кто его принесет сюда, в глухомань, в своем сердце, переполненном неизбывной любовью? Неужели не я?..
13В вагоне, заполненном участниками конференции, отправляющимися в Нагасаки, шумно, тесно, темно. Как бывает всегда после трудной, ответственной, сложной работы, люди быстро сдружились, и в тесных клетушках купе с тройными рядами полок, обычно задернутых занавесками, а сейчас гостеприимно распахнутыми, уже образовались свои маленькие компании и содружества, шел веселый и громкий, куда громче обычного, разговор. Оживление передавалось от соседа к соседу вместе с фляжкой, наполненной «Особой московской» или «Сантори», темного маслянистого виски, или джина, приобретенного уже здесь, на вокзале. Все стремились перекричать друг друга, на шутку ответить не менее остроумной и радостной шуткой, заманить к себе в купе побольше народу и всех одарить коньячком или редкостной сигаретой.
Высокая полная женщина с круглым лицом сидела на койке Романова, держа двумя пальцами металлический легкий стаканчик, и, весело улыбаясь, пыталась по-русски сказать, что коньяк нисколько не хуже, чем виски, но слова ее перебивались громким смехом и шумом стоящих в проходе французов, беседующих с цейлонцами.
Под ногами у взрослых с хитрой мордочкой шнырял Эрик, которому по закону давно уже полагалось бы спать и видеть цветные японские сны: убегающая за вагонным окном Хиросима в сплетениях синих, зеленых и красных огней и для взрослых была как чудесная, а теперь и как грустная сказка.
– Человек стремится не к лучшему, а к тому, чего не имеет, – вдруг изрек Васюта Антонов и пошел по вагону отведать всего, что предложат, от виски до пива. Впрочем, он в своих пробах довольствовался глотком.
Ушаков, огорченный столь быстрым отъездом из города, которого он, в сущности, так и не видел, стоял у окна и глядел на рисовые поля, удивляясь их вынужденной ювелирности – меж смыкающихся окраинами больших городов, у подножий обрывистых гор, расширяющихся книзу крутыми уступами, с террасами чайных плантаций и зарослями бамбука.
Сумерки уже скрадывали очертания шахт, заводов и фабрик, в этот час их можно было угадывать лишь по зареву электричества, повисающего на большой высоте над землею, там, где раньше, наверное, теплились звезды. Но потом все размазалось скоростью: фонари и рекламы, движение огней, мелькание фар на шоссе вдоль железной дороги, – и было приятно стоять и не думать, лишь впитывать в себя этот гул, эти длинные светлые разноцветные пятна и летящие вдаль над тобою гудки. Только так познаешь скрытый смысл расставаний и встреч после долгой разлуки: он в возможности сравнивать.
Подошел раскрасневшийся, улыбающийся до ушей Васюта Антонов.
– Человек человеку…
– Кто?
– Не знаю, но только… не волк!
– Да, ты прав, друг Васюта. Но бывает и так: человек человеку – верблюд. Лишь верблюды с таким равнодушием и презрением встречают в пустыне другого верблюда и глядят на него сверху вниз, хотя тащат на грязном горбу тот же груз и питаются той же верблюжьей колючкой…
– О, да ты пессимист? – удивился Васюта, обнимая за плечи Николая Николаевича, прижимаясь щекою к нему.
– А что, это плохо?
– По-моему, да.
– А по-моему, нет. И я пессимист, если хочешь меня так назвать. Пессимист только лишь потому, что гляжу на мир трезво, без пустых обольщений, понимая все трудности и все недостатки нашей борьбы. Я не крашу своих надежд в нежно-розовый цвет… Я вообще ненавижу слова-ярлычки: пессимизм, оптимизм. По-моему, их выдумали узколобые люди, не желающие задумываться над проблемами жизни и плывущие по течению.
– Я чего хочу спросить у тебя… – Васюта вдруг обернулся назад, в глубь вагона, и кому-то кивнул: – Ты не помнишь случайно, сколько именно мирных лет было в истории человечества?
– Ты имеешь в виду данные шведского статистического управления?
– Да. Их.
– Чего это вдруг потянуло на арифметику?
– Да так… Мы тут поспорили с одним господином…
– Всего-навсего двести девяносто два года – из пяти тысяч лет…
– Мда-а… Не очень-то густо!
– Тогда, Вася, не было сторонников мира! – пошутил Ушаков. – Видишь, вся беда в том, что история многому учит. А мы, к сожалению, не любим историю, плохо учим ее…
– Пойдем, скажешь ему! – предложил, оживляясь, Васюта Антонов. – А то он все спорит, говорит, надо прошлое позабыть, зачеркнуть и начать жизнь сначала…
– Ну, зачем я еще? Совсем ни к чему. Неудобно… И просто… Нет, я не пойду!
– Вот чудило! Пойдем! Познакомлю! Мы с ним не доспорили, вместе доспорим… Интересный мужик! Журналист. Был в Америке и у нас, в Советском Союзе, поездил по свету…
– Ну уж ладно… а то не отвяжешься! Пойдем, посмотрю…
Через две-три минуты Антонов откупоривал в купе бутылку армянского коньяка, разливал по стаканчикам и, поблескивая большими, навыкате, изучающими глазами, прислушивался к завязавшемуся разговору.
Японец Иомури-сан – седоватый, подтянутый, худощавый, в ослепительно белой рубашке, с изящно повязанным галстуком ручного тканья – показался Николаю Николаевичу куда моложе своих полных шестидесяти лет. Глаза его за очками были ясными и холодными. Две глубокие складки у рта прорезали лицо, словно темные шрамы.
– Объясните, пожалуйста, Иомури-сан, – спросил Ушаков, – почему вы простили Америке эти две бомбы?
Тот, задумавшись, долго молчал, потом поднял изящную седоватую голову.
– Видите ли, мы, конечно, ей не простили… Мы помним… Но кое-кто в нашей стране, в том числе большие, известные люди, считают, что нельзя безнаказанно копить ненависть, злобу. Это может опять привести к катастрофе. Кто-то должен подняться над прошлым!
– Но это ж пошлейшие христианские догмы! – вмешался Антонов. – Если тебя ударят…
– Так что же, по-вашему? Снова мстить? – спросил, оживляясь, японец. – Мы им снова Перл-Харбор. А они нам опять Хиросиму? И опять воспитывать молодежь в готовности стать человеком-торпедой, человеком-снарядом? Но это же снова война! К тому же термоядерная… Мировая. И еще неизвестно, кто будет сильнее: тот, кто снова захочет обязательно отомстить, пролить кровь врага, или тот, кто, почувствовав себя жертвой, начнет защищаться и будет отстаивать свою честь и свободу, свою независимость.
– Значит, тот, кто бомбил Нагасаки и Хиросиму, уже может не беспокоиться? – спросил Ушаков. Он в душе был задет за живое.
– Видите ли, это сложный вопрос, – пустил кольцо дыма в потолок Иомури-сан. – Америка нас потрясла до самых основ этим взрывом. Люди словно бы пробудились от летаргии. Они многое поняли. И главное в этом одно: нельзя больше жить так раздробленно, в изоляции от огромного внешнего мира. Нельзя быть разобщенными внутри общества. Нас пленил динамизм. Вы, наверное, видели наши контрасты? Обтекаемые машины на фоне японских вулканов, ветка вишни над мчащимся суперэкспрессом; щучья морда, двести двадцать километров в час, гудки и туннели… Восток есть Восток, и Запад есть Запад, и им не сойтись никогда… Так мы с детства запомнили. А в нашей стране все это соединилось… Марсианская инженерия, электроника, точность – и цветение хризантем. Мы многое приняли от Америки…
– В том числе и военные базы на Окинаве, откуда стратегические бомбардировщики летают во Вьетнам? Это вас не смущает? И кто же наживается на поставках напалма для янки? Кому приятно и очень полезно, что атомные подводные лодки приходят в Сасэбо и в Йокосука?!
– Вы тоже затягиваете войну во Вьетнаме, – сказал Иомури. – Поставляете самолеты Хо Ши Мину… Без участия СССР все давно бы уж кончилось…
Ушаков усмехнулся.
Он сидел на диване с сигаретой в руке и поглядывал на Васюту, нахохлившегося в углу. Разговор выходил за обычные рамки вагонной беседы. Да, знакомая песня! Он помнит ее со времен войны с Гитлером.
– Вы знаете, Иомури-сан, – обратился он снова к японцу. – Вот это же самое говорили и некоторые деятели в Англии и Америке, когда выступали против открытия второго фронта в войне с фашистской Германией. Зачем, мол, затягивать бойню? Вот Гитлер уничтожит Советский Союз – и война кончится, будет мир, благоденствие. А они не подумали, что Гитлер после победы над Советским Союзом уничтожил бы в первую очередь их самих: сперва Англию, потом Соединенные Штаты. Стремление к мировому господству – это очень едкая штука! Она кружит голову… В желании побеждать меры нет. И война никогда не закончится, если мы пойдем на уступки, ибо в каждой уступке поощрение агрессору, прецедент безнаказанности… А техника им сейчас позволяет быть дерзкими…
– Да, бомбы…
– Что бомбы… Когда бы только они одни! – Ушаков загасил сигарету, откинулся на сиденье. – Вы, наверное, знаете, через несколько лет американцами на войне уже будет использовано само время… Каким методом будет это сделано, для чего, я не знаю. А вот слыхал… Фантастика, да? Но мы и об атомной бомбе тоже когда-то слыхали, а, в общем, не верили, что возможно такое… И всегда только право сильнейшего плюс эффект неожиданности нападения… И уж будьте готовы, Иомури-сан, цепь насилия и реванша никогда не прервется, если вы захотите сыграть в благородство…
Ушаков налил в стопки всем троим коньяку.
Японец отпил, чуть коснувшись губами. Глаза его были серьезны за широкими линзами модных очков.
– Но мы делаем все, чтобы это не повторилось! – воскликнул он неожиданно горячо. Такой сдержанный, суховатый, он был очень взволнован. – Наши митинги, демонстрации, наши массовые забастовки… Мы привозим в Хиросиму массу людей, мы показываем всему миру наши слезы и кровь, наши раны… Разве этого не достаточно? На сегодняшней конференции… И есть голос общественности, наконец, наша левая пресса…
– И есть страны Варшавского договора… – сказал Ушаков. – Это более верное средство! Вы его забываете…
Николай Николаевич помолчал.
– Я работаю в клинике… для детей, – сказал он спустя время с неожиданной горечью, обращаясь к японцу. – А эта работа приучает к серьезности. Дети шуток не понимают. Когда им говоришь, что придет серый волк и всех заберет, если будут шалить, они тут же в тревоге оглядываются на дверь. Но скажи какому-нибудь взрослому дяде или тете, что сейчас водородных и атомных бомб изготовлено столько, что уже не хватает соответствующего им количества жертв, так ведь, черт дери, не поверят! Тоже, мол, нашел чем пугать, какой серый волк к нам пришел! А на каждого жителя нашей планеты уже нынче приходится не одна, а две атомные смерти… А еще говорят: двум смертям не бывать!
Помолчав, они чокнулись стопками:
– Ну… за мир во всем мире!








