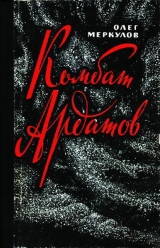
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Надя дергалась под ним и жалко просила: «Пустите! Пустите! Пустите! Не имеете права!» Но он всем своим весом прижал ее к земле, повторяя:
– Сейчас они минами! Понимаешь? Минами! Голову снесут! Понимаешь? Убьют к черту! Убьют! Понимаешь, дурочка! Я приказываю!..
Надя билась под ним, стараясь сбросить его, но он держал ее, все сильнее прижимая к земле, чувствуя, как ее рывки слабеют.
– Мне больно, – вдруг сказала она совсем уже жалобно, но тут целая серия мин ударила вокруг них, одна мина взорвалась на бруствере, так что их обдало горячим воздухом и вонью сгоревшего тола. Ардатов уткнулся в лицо Нади, закрывая его. И через всю эту вонь тола и запахи траншеи почувствовал, как нежно пахнет Надина щека – каким-то кремом, кожей и даже леденцами.
Он отпустил ее, сказав:
– Нельзя так. Всем страшно. Но не распускаться же до… до…
Ему не подвернулось подходящее слово, а тут как раз к ним, согнувшись, почти на четвереньках, потому что левой рукой он отталкивался от дна, перебежал Тягилев. Ошалело оглядывая их и не зная, бежать ли дальше или дальше бежать не велено, Тягилев приткнулся к стенке возле Ардатова и забормотал:
– Заступник мой еси… Возьми под крыла твоя… От стрелы летящей, от меча, от ножа, от любого лиходея!..
Ардатов, поймав его за руку, сжал так, что почувствовал, как у Тягилева хрустнули кости.
– Тихо! Тихо, отец! Тихо! Тихо… Сейчас он кончит, сейчас, сейчас, сейчас! Еще минутка…
– Господи, господи, – бормотал не успокаиваясь Тягилев. – Я, значится, только туда, глянуть, как там слепыри, они за своротом, саженей за десять, но за своротом, только я туда, а он, аспид, как метил, так и угодил, и были слепыри, и нету их – одна земля, а их как вынесло! Ах, ирод! И ведь не достать его из винтовки! Кабы достать! Ах, ирод! Как вша перед ним бессловесная – давит и все тебе!..
– Тихо! Тихо, отец! – Ардатов опять сжал руку Тягилева. – Не они нам важны, не они! Те, кто на земле важны, те, отец! Те сейчас, те! Понял? Понял? С ними счеты своди, с ними, понял?
– Чу! Чу! Кто-то стреляет! – дернулся Тягилев у него из руки. – Да пустите же! Пусти, тебе говорят! – крикнул он на Ардатова и с неожиданной силой так дернул руку, что вывернулся и побежал, почти не прячась, к углу, где траншея ломалась.
Ардатов, отстав, кричал ему:
– Назад, назад, назад!
Они оба выбежали в следующий фас. У дальнего конца его, там, где фас снова ломался, припав к фрицевскому танковому пулемету, который он выкинул прямо на бруствер, лихорадочно водя стволом туда и сюда, какой-то красноармеец ловил в прицел «юнкерсы». Выходя из пике, «юнкерсы» секунды летели вдоль их обороны и из самой нижней точки пикировали, выравнивались как раз на линии этого фаса траншеи, а значит, и пулемета, и красноармеец ловчил поймать выходящий «юнкерс» на очередь.
«Зря! – мелькнуло у Ардатова в голове. – Даже если и собьет одного, если кто-то с другого самолета заметит откуда били, они же нас перепашут! У них же радио! Вывалят все, что у них осталось. Прямо на головы! На кой же черт тогда было маневрировать? Нужно держать землю! – это важнее какого-то вшивого „юнкерса“»…
– Отставить! – крикнул он. – Отставить!
То ли красноармеец не слышал, так как до него было далеко, то ли не захотел подчиниться, он даже не обернулся.
– От… – было крикнул Ардатов и подавился концом слова, потому что в полосе неба, видной из траншеи, вдруг возник пикирующий «Юнкерс», и Тягилев и Ардатов хорошо различали его задранный хвост, верхние плоскости крыльев, обычно непросматриваемые с земли, круглое туловище, в конце которого, устремленной к земле, была пилотская рамчатая кабина.
Секунды «Юнкерс» падал, ревя моторами и сиреной, потом от него отделилась четко видимая бомба, «юнкерс» резко начал отваливать хвост вниз, под себя, задирая тем самым кабину, в которой сидели летчики, защищенные от пулемета лишь плексигласовым стеклом, и вот в эти-то две три секунды красноармеец, не отрывая пальцы от спускового крючка, удерживая прыгающий пулемет, изловчился и всадил в плексиглас очередь.
«Лихо», – подумал Ардатов. Ему показалось, что он увидел, как от кабины что-то полетело – какие-то осколки, щепки, железки, или это были просто брызги плексигласа, а может, и вспышки зажигательных пуль, но «юнкерс» в ту же секунду дернулся, продолжая все выходить из пике по инерции, проревел над ними и, мелькнув за спинами так быстро, что Ардатов не успел и оглянуться, упал где-то сзади, бухнув одновременно с ударом об землю бензиновыми баками.
– Назад! – крикнул Ардатов. – Назад! Ко мне! За мной!
Стукаясь об углы траншей, задыхаясь, они пробежали все эти незанятые отрезки ее и свалились без сил возле Щеголева, который, развернув узел плащ палатки, набивал магазины к шмайссерам.
– Выбирай, – показал он Ардатову на оба шмайссера. – Становимся на довольствие к фрицам. Белоконь принес.
Красноармеец, который сбил «Юнкерса», еще не отдышавшись, вдруг засмеялся, нервно вздрагивая и судорожно хватая ртом воздух.
– Эк я его! Отлетался, собака! Поди, скольких он! Но есть и ему конец! Из их же машинки…
– Как фамилия? Какой части? – спросил Ардатов. – Какой части?
«Я представлю его к ордену! – решил Ардатов. – Если останемся живы… За „юнкерс“ дадут. Лишь бы выбраться к своим. Но сначала надо дожить до ночи, – опять подумал он. – И удержать этих фрицев здесь… Разведбат и батальон танков!..»
– Кожинов я. Кожинов Семен Лукич, – вдруг тихо, задумчиво, как если бы Кожинов вглядывался в себя или разглядывал себя со стороны, зная, что он – это он, но в то же время как же это может быть, чтобы человек сам себя видел со стороны, – вдруг тихо, задумчиво назвался красноармеец. – Кожинов Семен Лукич, 1903 года рождения. Из города Горького. Завод «Красное Сормово», слышали про такой, а?
Некоторое время Кожинов гладил фрицевский пулемет, поворачивая его, разглядывая, бормоча:
– Ладная машинка. Исхитрится же человечья голова задумать такую.
Пальцы у Кожинова были короткие, толстые, поросшие желтой шерстью, с желтыми же от махорки ногтями, по чуткие, осторожные, и казалось, что Кожинов ощущает ими не только поверхность металла, но и узнает и то, что там, в его глубине.
– Если запастись патронами, я их, фрицев, накосю из нее вагон! – пообещал Кожинов Ардатову, когда Ардатов встал, потому что «юнкерсы», сделав круг, перестраиваясь на ходу, полетели домой. Улетало, Ардатов посчитал, семнадцать.
– То то! – сказал им вслед Ардатов. – То-то, сволочи. Дайте срок, дайте нам срок!
– Вагон и маленькую тележку, – развил обещание Кожинова Щеголев. – Ты смотри мне, не жги даром патроны!
В бинокль все виделось четко и близко – в километре от них, за увалом, степь, не очень круто поднимаясь, переходила в новую гряду пологих холмов, таких же высоток, какую должны были удержать они. Высоток, обозначенных на военных картах малыми цифрами. Так вот, из-за противоположной им высотки, развернувшись в цепи, быстро шли, сбиваясь на бег, немцы-пехотинцы. До немцев было с километр.
– Пока пулеметчики живы, пока пулеметы исправны и есть патроны, спасенья пехоте от этого огня нет, – объяснил Ардатов Щеголеву, Тырнову, Белоконю и Кожинову. «Вот насколько нас хватит, это другой вопрос», – прокрутилось у него в голове.
Ардатов подумал было, что ему следует самому лечь за один из пулеметов, но ключицу от ударов ПТР еще так ломило, что он, с ужасом представив, как будет колотить в нее приклад, отказался от этой мысли, из пулемета он обязательно бы мазал, а мазать никак было нельзя. Он решил, что ему сейчас надо стрелять из винтовки, что с винтовкой он справится, а когда немцы подойдут ближе, он возьмет «шмайссер».
Он высунулся над бруствером и еще раз взглянул на позицию, которую они должны были удерживать сейчас от пехоты.
Их высота, имея форму почти правильной трапеции, лежала основанием – своей длинной стороной к фронту. Траншея проходила по западному скату высоты, загибаясь концами вперед – к немцам. Расстояние от концов траншеи до тех точек, где она изламывалась, чтобы идти вдоль высоты, было метров двести, и если бы немцы прорвались на это расстояние к длинному куску траншеи и если бы на ее коротких концах были бы пулеметы, немцы попадали бы под кинжальный огонь во фланг.
Когда Ардатов лежал под бомбежкой, он, прикидывая, как лучше использовать танковые пулеметы, и нашел это решение, и как только «Юнкерсы» полетели от них, он быстро набросал в командирском блокноте схему обороны и, показав ее сейчас Щеголеву, Белоконю, Тырнову и Кожинову, торопил их.
– Вторым номером бери кого хочешь! – приказал он Белоконю. – Но чтоб позиция была у самого конца! – Он ткнул карандашом в ту часть схемы, где была оконечность траншеи. – Чем дальше от нас ты их встретишь, тем легче будет всем. Ясно? Давай, друг! Метров с трехсот. Чтоб каждая очередь – в цель.
Белоконь, досасывая окурок, щурился, словно ему резал глаза свет.
– Ага. Шухры-мухры!
– Чем позже начнешь, тем позже обнаружат, – подсказал Щеголев.
– Ага.
– Бегом! – приказал ему Ардатов.
– За второй ляжешь сам, – сказал он Щеголеву и показал на схеме, что Щеголев должен лечь за пулемет метрах в тридцати от Белоконя, ближе к общей траншее. – Прикроешь его. Проследи, чтобы Белоконь делал все как надо. Он парень надежный, но все равно – проследи. И смотри, чтобы они не зашли тебе слева, за спину. Ясно?
– Ясно.
Щеголев было дернулся бежать, но Ардатов досказал:
– Присмотри запасные позиции. Когда мы их остановим, они ударят из минометов, в первую очередь по вас и по Кожинову. Тогда быстро на запасную или к нам, к центру. Ясно?
Ардатов сказал все это Щеголеву, как сказал бы своему командиру роты, если бы он с ним уже давно воевал, и поэтому у них уже давно установились отношения фронтового командирского братства, которое делит и риск, и власть над людьми, и водку, и сон и все остальное честно, по-товарищески.
– Этот фланг на тебе. Отвечаешь за него. Ясно?
Их лица были рядом, и Ардатов видел, как побледнел Щеголев. Но Щеголев ответил хорошо:
– Ясно.
– Бегом, – приказал Ардатов. – Патроны – беречь! Только наверняка!
Ардатов слегка подтолкнул Щеголева в спину, и Щеголев побежал по траншее. Он и не глянул на Надю, пробегая мимо нее, и Ардатов видел, что Надя как-то удивленно посмотрела ему вслед.
Ардатов подхватил у Кожинова магазины с лентами, прикидывая, насколько хватит Кожинову патронов и бросив ему: «За мной!» – побежал сам. Кожинов тяжело трусил за ним, неся, как косу, на плече пулемет, не поспевая, и Ардатов, оборачиваясь, два раза крикнул ему:
– Быстрей! Быстрей!
Когда они пробегали мимо Васильева, Васильев хотел остановить его, сказав: «Товарищ капитан! Можно мне?..» Но Ардатов отмахнулся: «Некогда. Потом!»
Недалеко от поворота была позиция разведчиков, тех двух, которые остались от четверки Белоконя, и Ардатов приказал им:
– За мной! Живо!
Они было замешкались со своими вещмешками и шинелями, которые у них лежали в нишах окопов, но Ардатов как хлестнул их: «Бегом!»
Не переводя дыхания, они добежали до противоположного теперь для Щеголева и Белоконя участка траншеи.
«Хорошо!» – подумал Ардатов о комбате, который до него тут готовился к обороне – в этом куске траншеи были основные и запасные позиции для станкового пулемета. Он их сразу увидел и сразу определил по форме окопа, часть которого выдавалась вперед, чтобы второму номеру было легко направлять ленту в приемник «Максима», по большой площадке для него, по следам от колес.
– В упор! Только в упор! – внушил он Кожинову, выкинув «МГ»[7]7
МГ – тип немецкого пулемета.
[Закрыть] на площадку и втискивая его ножки покрепче в грунт. – Только когда они выйдут на эту линию! Видишь, Кожинов? Видишь? В упор и наверняка. Патронов мало! Очень мало, а впереди день!
– Чего ж тут не видеть-то! – неожиданно очень спокойно, даже с ноткой неодобрения, что ему все это втолковывают, как будто он несмышленыш какой, ответил Кожинов. Он снял пилотку, положил ее в сторону, погладил сразу обеими ладонями свою большую голову с оттопыренными ушами и потоптался по дну окопа, выравнивая под ногами землю, чтобы стоять на ней плотнее. – Чего же тут не видеть?..
– Когда остановишь их, когда положишь – а они лягут, они обязательно лягут, – и когда они начнут бить из минометов, быстро ко мне.
– Коль лягут, зачем же, – возразил было Кожинов. – Коль лягут, так…
– Они тебя накроют! – оборвал его Ардатов. – Мгновенно ко мне! Понял? Чтоб сам цел и чтоб пулемет цел! Понял? Выполнять.
– Ну! – скомандовал сам себе Ардатов и, прикинув, что у него есть еще минута, побежал по траншее, приказывая на ходу всем, мимо кого он пробегал:
– Стрелять с четырехсот! Зря патроны не жечь! Беречь патроны! Взять боеприпасы у тех, кто вышел из строя! Быстро! Быстро!..
Он видел убитых, уже оттащенных в ходы сообщения, он насчитал их семь, чуть больше попалось ему раненых, и он, прикинув, что потерял уже процентов двадцать, весь внутренне сжался, подсчитывая, что, если дело пойдет и дальше так, ему не хватит людей продержаться до вечера. У него мелькнула мысль, что надо будет похоронить убитых, чтобы убитые не деморализовали живых, и что, если они отобьют эту атаку и немцы отойдут, чтобы их артиллерия и авиация снова обработали его высоту, то, первое, надо будет сразу же бросить всех оставшихся ползком вперед к убитым немцам, чтобы за счет их снова пополнить боеприпасы, взять все, сколько сумеют, немецкое оружие, то есть, как сказал Щеголев, снова стать на довольствие к фрицам, и, второе, переждать артобстрел и новую бомбежку на этой линии, так как там, в открытой степи, будет безопасней, чем в траншее, к которой фрицы уже пристрелялись.
Когда он вернулся на свое место, таща с собой винтовку и патроны к ней, которые он забрал у убитых, Надя уже пришла в себя. Он стал рядом с ней, всего в метре от нее, но она, как будто не замечала его. Она была бледной, сосредоточенной, задумчивой, как будто что-то решала про себя.
– Главное – не торопись! – быстро сказал он ей, присматриваясь, сколько же против них немцев. Получалось меньше батальона, значительно меньше, по две-то полных роты было. – Бей спокойно. Старайся в тех, кто машет руками, подгоняет других. Это офицеры. Без них фриц быстро ложится. А нам главное – положить их. («Там будет видно, что дальше, – подумал он, но не сказал это Наде. – Там будет черт еще знает что!»). – Видишь – подравниваются.
Немцы и правда подравнивались – цепи замедлили бег, ожидая отставших и набирая дыхание, чтобы потом дружно, в один рывок пробежать последний кусок степи до траншеи.
«Одну роту держишь в резерве? – спросил Ардатов мысленно командира немецкого батальона. – Как будто правильно, но все равно это тебе не поможет. Я выбью твой личный состав, – злорадно развил он свою мысль. Он был уверен, что эту атаку они отобьют – уж очень удачно вписались в позицию пулеметы Щеголева, Белоконя и Кожинова, на которых он мог надеяться. – Я тебе выбью личный состав из этих рот, – повторил он мысленно. – И твое начальство тебе, сволочь, всыплет по первое число. Может, и с должности снимет. Может, даже твоя контрразведка займется тобой. Оправдывайся тогда перед презрительным и бездушным следователем, объясняй, как ты потерял полбатальона в бою за эту высотку, где, как ты считаешь, засели какие-то жалкие остатки какой-то разбитой части. Конечно, мы вообще-то остатки, – уточнил он. – Так, публика с бору по сосенке… но не жалкие, будь покоен, не жалкие! Сейчас мы это тебе покажем. Еще метров двести пробежите… Ну, а если он не дурак? – спросил Ардатов теперь себя. И признался, не мог не признаться: – Но если он не дурак, если он сразу же введет третью роту, если он введет ее тогда, когда мы пожгем патроны, да ведь потеряем тоже и людей, если он введет эту роту именно тогда, тогда… Тогда нам будет кисло!»
Он быстро посмотрел назад, в сторону Малой Россошки, но там ничего не переменилось – там было все так же безмолвно, пусто, безнадежно для него и его людей.
«Лихо!» – подумал он, чувствуя, что наполняется той обычной холодной дрожью, которая всегда приходила перед боем, которая мгновенно исчезала, когда бой начинался, потому что в бою, в ближнем пехотном бою, надо было все время, все секунды действовать – командовать людьми, перебегать, стрелять, кидать гранаты, принимать секундные решения, и не оставалось времени ни на длинные мысли, ни на глубокие переживания. Но стоило выдаться спокойной минутке, и эта дрожь наполняла его опять.
Он отнял бинокль от глаз и высунулся, чтобы посмотреть на своих людей. Все было обычно. Припав к брустверам, его люди напряженно ждали приближавшихся немцев, над линией траншеи он видел головы Тягилева, Васильева, Талича, Чеснокова, остальных, чьи фамилии он не знал, но лица запомнил. «Ну! Ну, святое воинство!» – шепотом подбодрил он всех, замечая, что Старобельский, переступая мелкими шажками, боком, боком передвигается поближе к Наде, отчего голова Старобельского в нелепой, совершенно неподходящей для армейской траншеи штатской кепке, как бы плыла к тонкой, нежной, беззащитной Надиной косыночке.
«Ну, может, пронесет! – подумал он. – И пусть она, – подумал он о Наде, – останется жить…»
Мысль о своей смерти он гнал.
Год назад, после первых боев, после многих смертей других, он неожиданно решил, что он не очень-то много значит на земле, коль на ней жизнь человека вообще стоит так мало, ежедневно ее лишали десятков тысяч людей. Каждый бой напоминал ему, что бессмертия нет, он тоже уйдет, растворится на атомы в этом мире, все лишь вопрос времени – чуть позже, чуть раньше, годом позднее, годом раньше, и к нему доберется костлявая. Поэтому, считал он, если его найдет пуля или осколок, особой трагедии не будет. «Миг – и тебя нет! – думал он. – Как всех тех… Но лишь бы это было сразу! Чтобы не корчиться от боли. Лишь бы в миг!» – просил он неизвестно кого, но, может быть, судьбу.
Он думал так не потому, что устал жить, нет, он совсем не устал, наоборот, он становился к жизни жадней, он глубже понимал и тоньше ее чувствовал – удовольствие от чего-то, что он хорошо сделал, радость от мысли, что день прожит не впустую, усталость и отдых, улыбку женщины, улыбку, которая всегда и проста и загадочна, вкус вина и еды, запах листьев и хвои, ветер, обдувающий лицо, книги, из которых он много узнал, глаза и голоса дочери, отца, жены. Да мало ли в жизни было прекрасного! Да мало ли в жизни оставалось прекрасного и в это проклятое время!
Войну он проклинал тысячу, миллионы раз, как проклинали все, с кем он встречался, потому что, при всей необходимости воевать, при всей нужде быть на этой войне и вести эту войну, она все-таки была трижды проклятой, как, например, чума, которая всегда трижды проклятая была, есть и будет.
Но даже во время войны жизнь, считал Ардатов, все-таки была прекрасна. Особенно прекрасна, потому что ее все время оттеняла смерть.
Одно лишь сжимало ему сердце – если его убьют, это будет страшно, немыслимо тяжело отцу, дочери, жене, больше всех, видимо, отцу. И Валентине. «Надо остаться, – говорил он себе. Я нужен. Ах, Валентина! – вздохнул он. – Валентина… Что ты для меня? Радость или беда? Беда или радость? Как все понять?»
А Надя в это время привычным движением заправила в брюки выбившуюся кофточку, спрятала поглубже под косынку волосы, затянула косынку потуже, отряхнула с рукавов глину и ровней положила обоймы. Но Ардатов видел, что она, прищурившись, как бы прицелившись, не спускает глаз с немцев.
– С шестисот! С шестисот? – спросила Надя никого. – Нет, с пятисот, – ответила она сама себе. – Цель? Ростовая. Двигающаяся. Упреждение? Упреждения нет, цель движется на стрелка…
Надя аккуратно вставила обойму в пазы, надавила большим пальцем на верхний патрон, патроны скользнули в магазинную коробку, тогда она вынула обойму, нашла ей место рядом с набитыми, и резко послала рукоятку затвора вперед и вправо.
– На! – дал ей Ардатов бинокль. – Там, где они бегут кучками – это пулеметчики. Приглядись! Их надо обязательно! Они вот-вот лягут, чтобы поддерживать огнем стрелков. Они нам головы не дадут поднять! Они… Они сразу же начнут бить по нашим пулеметам! Их надо раньше всех! – повторил он. – Раньше, чем даже офицеров – офицеры не уйдут, а пулеметчики лягут, в них тогда не попадешь, поэтому… Ясно, Надя? Ясно, девочка?
– Ясно! – резко перебила его Надя, ткнула ему назад бинокль, торопливо поставила локти на бруствер и припала щекой к прикладу. – Не мешайте. Не мешайте, Константин Константинович.
«Ишь ты, – успел на ходу к своей винтовке подумать Ардатов. – Видите ли, ей мешают. Ах, елкин корень! Но ведь если она сбила снайпера, как говорит Чесноков, если она так стреляет, это тебе, брат…»
Ардатов не додумал, что же будет означать «это тебе, брат…», потому что Васильев, подняв гобой торчком в небо, дал стрельбищный сигнал «По-па-ди! По-па-ди! По-па-ди!»
В той последней минуте тишины, которая оставалась им всем на ближайшие час-два, а для тех, кто должен был быть убитым в эти часы, в той вообще последней для них минуте тишины, гобой пропел громко, призывно и грустно: Васильев дул в него, что есть силы, было слышно, как, всхлипывая, напряженно дрожит тростинка в мундштуке, и от этого скребло по душе.
«Ну, братцы! Ну, держись, – чуть было не крикнул Ардатов. – Эх-ма, подумал он. – Мне бы приличный батальончик, я бы этим вшивым фрицам»… Он не додумал. «По-па-ди! По-па-ди! По-па-ди!» – еще раз просигналил гобой, и тут рядом с Ардатовым выстрелила Надина винтовка. Ее выстрелы пошли один за другим, чередуясь через почти равные интервалы.
Эти выстрелы сбивали его с прицеливания, он только подводил мушку под фигуру пулеметчика, как ему в правое ухо бил громкий хлопок, он смигивал, отчего мушка уходила с немца, а когда он должен был искать цель опять, этой цели уже не было.
При всей спешке боя, несмотря на то, что у Ардатова похолодело в сердце и пересохло во рту, несмотря на то, что он был лихорадочно возбужден, как если бы выпил возбуждающее лекарство, отчего все теперь он делал слишком быстро и как-то резко, Ардатов все-таки видел, как рядом с теми немцами, в которых он стрелял, падали другие немцы, а иногда падали и те немцы, в которых он целился, но не успевал выстрелить.
– Она! – говорил он себе. – Это она! Ах, умница! Умница! Умница! Умница! Смотри-ка, как лихо!
Он готов был броситься к Наде, чтобы обнять ее и похвалить, погладить по голове, как любимую свою сестру, которая сделала что-то особенно хорошее, но надо было стрелять, быстро-быстро выискивая нового немца – пулеметчика или офицера. Их – его и Надю – отделял всего шаг, и Ардатов, перезаряжая и целясь, слышал, как она разговаривала сама с собой, и отвернувшись от винтовки, видел, как она стреляла.
– Есть! Есть! Есть! Нет! Есть! – считала Надя, попадая и не попадая. Не отрывая глаз от подбегающих немцев – лица она еще не могла видеть, но их фигуры уже различались хорошо: подлинней, покороче, потолще, потоньше, – она наощупь хватала следующую обойму, быстро выталкивала из нее патроны в винтовку, отшвыривала пустую обойму, теперь времени аккуратно положить у нее не было, и быстро подводила мушку примерно в средину фигурки.
– Есть! Нет! Нет! Как же так? Как же так! Прицел! Прицел! Ах, кулема! – ругала она себя. – Они же подошли! Вот уж и правда – кулема! Прицел на пятьсот, а они… а цель на… на триста. Так! Теперь другое дело. Того… Есть! Того… Есть!
Надя, наверное, не слышала, что творилось по сторонам ее, и, конечно же, не видела, она все время смотрела вперед, но все-таки не могла уже не торопиться, потому что немцы подошли так близко, что было уже хорошо видно, как сыпятся из их автоматов красные искры. Странно, ее не испугали и пули, которые быстро свистнули над ней – фить! фить! фить! – она подумала, значит, так они свистят, но когда одна пуля попала ей в винтовку, отщепнув от ствольной накладки щепки, которые впились ей в щеку, она зажала ладонями лицо и присела.
– А вдруг в глаз! – крикнула она Ардатову. – Какой ужас!
Ардатов подскочил к ней, отдернул ее руки, увидел, что глаза целы, что в левой щеке и около виска торчат занозы, из-под которых сочится кровь, крикнул:
– Ерунда! Огонь, Надя, огонь! Какого дьявола ты!.. – и бросился опять к винтовке.
Немцы были так близко, что различалась их одежда – сапоги, пряжки ремней, пилотки. Ардатову показалось, что он может отличить светлых немцев от темных.
«Что ж они!.. Какого дьявола!» – выругался Ардатов, стреляя под светлые квадратные пряжки немцев, и как будто услышав его, Щеголев дал длинную-длинную очередь – с боку, по изломанной цепи немцев, и как бы толкнул своим пулеметом всю ее – цепь словно ударилась во что-то невидимое, шатнулась назад, но инерция ее бросила снова вперед, и Белоконь, Кожинов и подключившийся опять Щеголев срезали ее почти всю, а те из немцев, в кого они не попали и в кого не успели попасть в упор из траншеи, сразу же легли.
– То-то! – крикнул немцам Ардатов.
Вторая цепь подхватила упавших живых немцев и стала от этого гуще, плотней. Она катилась к ним еще уверенней, как будто с первой ничего не случилось, как будто то, что произошло с первой, не видели из второй, как будто немцы из второй не пробегали мимо своих убитых и раненых, и Ардатов уже в бесчисленный раз за войну вновь поразился выучке немецкого солдата, с которой он мог наступать, наступать, наступать. На секунду ему показалось, что этих немцев никогда никому не удастся остановить, так машинно-механически делали они свое дело – бежали на них, стреляли из автоматов, с готовностью и усердием прибавляя ход по команде офицеров, машущих призывно им руками, увлекающих их за собой вот уже вторую тысячу километров от германской границы. Он даже за долю секунды с ужасом увидел, как немцы такими цепями, растекаясь от границ Германии по земле, как по громадному глобусу, сползают по нему к экватору, еще ниже, ниже на юг, чтобы встретиться всем где-то там, у Южного полюса, в белоснежной, девственной Антарктиде.
Но Щеголев, Белоконь и Кожинов срезали и эту цепь, она прошла ближе к траншее всего на каких-то три десятка шагов, остатки ее легли так же быстро, как первой, как будто всех живых немцев кто-то дергал за ноги, и пулеметы Кожинова, Щеголева, Белоконя, как осветили, как озарили потемневшую душу Ардатова, и Антарктида снова засияла белым снегом, озаряя весь земной шар.
Весь его земной шар!
Третья цепь успела подбежать так близко, что Ардатов, бросив винтовку и схватив шмайссер, беспрерывно стреляя из него, стараясь удержать прыгающий ствол на уровне груди подбегающих немцев, уже видел, как белеют у них в сумках гранатные ручки. Он знал эти гранаты – железные, наподобие консервных банок, навинченные на точеные длинные березовые ручки, которые, когда банки взрывались, отлетали целыми. (Ручки можно было после боя собирать для костерка – сухая, отборная березка горела хорошо, и на кучечке этих ручек можно было сварить суп или кашу из концентрата).
Все, что сейчас надо было сделать немцам, это сблизиться на бросок гранаты, потом дружно, с ходу швырнуть их в траншею, размести, оглушить ими тех, кто был в ней, за считанные секунды последним рывком добежать до траншеи, стреляя по головам тех, кто хоть высунулся, спрыгнуть в нее и, разбегаясь по ходам сообщения, добивая автоматами и последними гранатами уцелевших, кончить этим атаку – выполнить приказ своего комбата.
Этот комбат, наверное, дал бы им час, чтобы опомниться, передохнуть, пополниться боеприпасами, и, начав с третьей роты, наверное, бросил бы их потом на Малую Россошку, выполняя дальше задачу дня.
Их остановили раньше, чем они взялись за гранаты, хотя уже совсем близко. Щеголев, Белоконь, Кожинов били их, почти не промахиваясь, потому что немцы виделись через пулеметные прицелы рядом, потому что, наверное, и азарт захватил пулеметчиков, и еще потому, что они понимали, понимали каждой клеткой тела, что немцев во что бы то ни стало надо удержать.
Как только остатки третьей цепи упали, Ардатов крикнул:
– Приготовиться к атаке! Приготовиться к атаке! – Он сунул новый магазин в шмайссер, еще один в карман, в другой карман синюю немецкую гранатку – яйцо, рявкнул на засуетившуюся было Надю: – Не сметь! Остаешься! Не сметь! Поддерживать огнем! – вдохнул, как перед прыжком с вышки в воду, побольше воздуха, и побежал по траншее к середине, все время крича: «В атаку! В атаку! В атаку!»
Он обегал или перепрыгивал скорчившихся раненых и осевших, как кули, убитых, вглядываясь на бегу в лица живых, крича каждому прямо в выпученные глаза, в запекшиеся сухие рты: «В атаку!», «В атаку!», – отрывая этим криком их от траншей, ломал, коверкал, стирал в их душах страх выскочить наверх, на бруствер, под пули залегших немцев. Он толкнул кого-то, припавшего к стенке, в плечо, заорал на него: «Шевелись! Быстро!» – дернул другого за гимнастерку, так что она затрещала, поймал третьего, убегавшего в ход сообщения за воротник, швырнул ко всем, ткнул шмайссером ему в грудь, прохрипев: «Пристрелю!» – услышал, как Васильев дал на гобое: «Слушайте все! Слушайте все!» – подумал до половины: «Сумасшедший! Черт! Лихо…» – и, выпрыгнув на бруствер, махнул всем шмайссером, крикнул, как выстрелил во всех:
– Вперед! Вперед! Вперед!
К его радости слева и справа от него неожиданно дружно выскочили его люди, их было немного, он даже подумал: «Как жидко!» – но радость, что они подчинились, пошли за ним, вытолкнула ему в голову другие слова: «Золотые мои! Хорошие! Только не ложиться! Только не ложиться – пропадем! Все пропадем!..»
Атаковать так вот жидко было крайне рискованно. Ардатов знал это, но он знал и другое – не атаковать было вообще нельзя. Стоило дать немцам еще несколько минут – три, пять, десять минут – и они бы пришли в себя, их оставшиеся офицеры подняли бы их в атаку, патронов у Щеголева, Кожинова, Белоконя, наверное, осталось на секунды стрельбы, и немцы в один последний бросок могли на одном дыхании добежать до траншеи и закидать всех их, кто оставался в ней, гранатами.
«И пиши – пропало», – подумал с ужасом об этом Ардатов.
Поэтому-то и надо было, надо было, как воздух, как жизнь, самим броситься в атаку и тоже на одном дыхании бежать к лежавшим, растерянным еще после неудачной атаки немцам, сбить их с того рубежа, куда они вышли, и, расстреливая их в спины, выйти на линию дальнего танка, на линию дальних убитых немцев. Только в этом было спасение, только в этом.
Щеголев, Белоконь, Кожинов, конечно, видели, как они побежали в атаку, и, зная, что в этом случае надлежит пулеметчикам делать, били по немцам, стараясь не дать им поднять головы. Но патронов им не хватало – пулеметы Кожинова и Белоконя замолкли, как захлебнулись, позволив Ардатову и всем остальным сделать от траншеи всего несколько десятков шагов, а один Щеголев прикрыть их не мог – он коротко тыркал из своего пулемета – Тырр! Тырр! Тырр! – очередями по два-три патрона, как жадно отсчитывал их.







