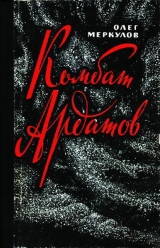
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Ардатов смотрел на второго запасника, на низкорослого, но жилистого пожилого человека, тот осторожно снял с углей чай и лопаткой стал забрасывать костер.
– Как фамилия? – спросил его Ардатов.
– Тягилев, Кузьма, – ответил запасник.
– Хотите чаю, товарищ капитан, – предложил комсомолец. – Это моя заварка. Хотите? – Он протянул кружку. – Пейте. Хватит всем.
– Спасибо. – Ардатов взял кружку. – Как твоя фамилия?
– Чесноков, – ответил комсомолец. – Неважная какая-то, стыдная фамилия. Я все отцу говорил: не мог выбрать получше.
– Ну почему же, – возразил Ардатов. – Фамилия как фамилия. Обувайся. Скоро пойдем. Вы тоже, – сказал он запасникам. – Чай пока остынет, его и хватить нельзя.
– Так на огоньке же варился, – разулыбался Тягилев, скатывая обмотку. – На огоньке! На ём! Это мы в миг – обуемся.
Когда они вышли на мост, к нему подходила группа человек в двадцать.
– Чесноков, стань рядом. Вы тут и тут, – приказал Ардатов Тягилеву и Стадничуку – так назвался второй запасник. – Жихарев, Просвирин – там, – он показал где.
– Никого не пропускать без моего разрешения.
– Какой части? Куда следуете? Сержант, – он показал пальцем на сержанта, – ко мне! Быстрей! – резко прибавил он. – Докладывайте!
– Чего докладывать, товарищ командир? – сказал сержант с оскорбленными нотками в голосе. – Ищим своих. Тут такая была кутерьма!
– Какой части? Куда следуете? – строже повторил Ардатов.
– Да куда все – туда, – кивнул на ту сторону моста сержант уже без оскорбленных, но с оправдательньми нотками. – А что, туда нельзя?
– Нельзя! – сказал, как отрезал Ардатов и приказал:
– Перепишите людей. Карандаш, бумага есть? Нате бумагу.
Он достал из полевой сумки командирский блокнот.
– Вот карандаш. Фамилия, имя, отчество, год рождения, дивизия, полк. Выполняйте! Себя первым.
Сержант ошалело взял блокнот и карандаш и, положив блокнот на перила мостика, стал записывать себя, ворча:
– Начинается! Как попадешь в роту, так «Равняйсь! Смирно!» Пехота, будь она…
– А ты что, не пехота? – спросил Ардатов. – Морфлот? Авиация?
– Ну не морфлот, не авиация, – сбавил тон сержант. – Но разведчик, а это большая разница.
– Очень мило! Но эту разницу здесь – забудь! И поменьше разговорчиков. Ясно?! – Ардатов сказал это насмешливо и холодно, зная, что разведчики, которым принадлежит первый орден, первый трофей, но и первая же пуля, публика часто трудная и что эту публику надо время от времени ставить на место.
Пока Ардатов говорил с сержантом, несколько задних красноармейцев, незаметно отступая, стали забирать левее – туда где у оврага был пологий край.
– Назад! – крикнул Ардатов. – Назад!!!
Все помявшись, повернули назад к мосту, но трое, которые были у самого оврага, прибавили шагу.
– Назад! Стой! Чесноков, оружие к бою!
– А ну, стой! Стой, говорят! – крикнул страшно за спиной Ардатова Жихарев и тоже, как до этого сделал Чесноков, клацнул затвором, загоняя патрон в ствол. – Стой! Стреляю!
Трое у оврага круто повернули и, сбавив шаг, выигрывая время, чтобы попозже встретиться со взглядами всех, пошли к мосту.
Людей оказалось девятнадцать человек, из них двое были связисты без катушек и телефонов, восемь автоматчиков, ружейный мастер и четверо пеших разведчиков, включая сержанта. Ардатов, глянув в блокнот, прочел его фамилию «Белоконь», приказал ему построить людей, назначил его перед строем старшим и приказал, выдвинувшись цепью перед балкой по обе стороны моста задерживать всех, кто будет идти в тыл и направлять их к нему.
К сумеркам у Ардатова накопилось девяносто четыре человека, из которых два десятка были фронтовики.
Фронтовиков он мог бы отделить от тех, кто еще не воевал, даже если бы фронтовики были без медалей, и вряд ли бы намного ошибся. В людях, которые побывали на фронте, он подметил особую неторопливость, замедленность в движениях, в делах, в поступках, когда не было непосредственной угрозы. При угрозе, при непосредственной опасности фронтовики делали все быстрей, стремительней, легче, но как только опасность отходила, фронтовик как-то весь замедлялся. Его движения – копал ли он, строил ли шалаш, разгружал ли где-нибудь снаряды или что-то еще, шел ли в походе, – его движения становились экономными, как будто он отмерял на дело лишь крайний минимум энергии и ни капли больше.
Вообще он подметил, что участие в боях меняло человека. Он становился добрей, что ли, и стоило фронтовику выбраться из района опасности, отъесться, отмыться, отоспаться, и фронтовик становился приветливейшим человеком, поплевывающим на всякие житейские мелочи радующимся самой жизни – тому, что она давала ему, – небу, женщине, куску хлеба, покойному сну, глотку водки, локтю товарища. Фронтовики не мельтешили, не заискивали перед начальством, но были у них некоторые жестокие заповеди, которых они, зная или не зная, придерживались твердо. Заповеди вроде: «Никогда не теряй присутствия духа и добрососедских отношений с поваром!», или вроде такой: «Не стой, когда есть возможность сесть. Не сиди, если можешь лечь», или вроде такой: «Не делай сегодня то, что можешь сделать завтра».
Что ж, это было понятно: главным в подсознании фронтовика звучал приказ: «Не спешить!» А к чему ведь было спешить? К неизвестности! Но любое положение до перемены содержало главнейшее известное – «жизнь», в то время как любая перемена несла неизвестное – «жизнь или смерть?» И так как шансов на смерть на войне содержалось удивительно много, куда же и зачем же следовало спешить?
В собранной им группе было и два командира – лейтенант Тырнов и старший лейтенант Щеголев. Тырнов объяснил, что ему, помначальнику химслужбы, дали в штабе полка шестьдесят человек – из пополнения, из комендантского взвода, а также пекарей, сапожников, портных и приказали отвести их во второй батальон.
– Значит, мои люди! – почти обрадовался Ардатов. – Я назначен командиром этого батальона. Но почему вы здесь?
Наверное, Тырнов покраснел – хорошо, что в сумерках это было не очень заметно. Смущаясь и стыдясь, он объяснил:
– Потеряли направление, товарищ капитан. Степь – все дороги одинаковы, пошли не по той и четыре раза попадали под бомбежку. Пошли не по той дороге потому, что раненые направили не туда. Знаете ведь как: один говорит одно, другой – другое. А из этого, из вашего батальона, раненых не попалось…
– Бывает, – согласился Ардатов. – Значит, батальон потрепан? («Основательно потрепан, если пополняют сапожниками, – мелькнуло у него в голове. – И в полку ни человека в резерве!»).
– Видимо, да, – согласился Тырнов. – А разве вам, когда вы получили назначение, ничего не сказали?
– В штабе армии данные были на утро двадцать первого. Сегодня – двадцать третье. За два дня боев батальоны тают, как снег…
Тырнов, тронув Ардатова за рукав, отвел его в сторону и, понизив голос, сообщил:
– Дивизия понесла большие потери еще на марше. Когда мы выдвигались, они обнаружили нас и, представляете, что было с полком в степи, когда он бомбил их? ПВО в полках жиденькая – пулеметы да ПТР, а нашей авиации нет, выдвигались без прикрытия… День… Степь!..
– Понятно. Это они умеют – бить на подходе, – подтвердил Ардатов. – Выбить артиллерию, сжечь транспорт, горючку, боеприпасы еще до того, как части займут рубеж. Потом прижать к земле, рассечь танками на куски, а потом по очереди… Что вы должны были сделать, сдав людей? – спросил он без паузы.
– Возвратиться в штаб. Никакого другого приказа мне не было.
– Временно останетесь со мной, – как решенное сказал Ардатов. – Химслужба подождет. Да пока вряд ли она понадобится – у него успех, необходимости применять ОВ нет. На мой взгляд, химслужба – подождет. Остаетесь. Ясно, Тырнов?
– Ясно, – не очень уверенно ответил Тырнов.
– Напоите людей. Там, под мостом, родник, пусть нальют все фляги, передохнут, переобуются. Выполняйте.
«Нда, – подумал Ардатов. – Получаю третий батальон и опять потрепанный». Он мечтал о полнокровном батальоне – с полными ротами, с командным составом, с минротой и с пульротой, со взводиком автоматчиков, батареей сорокопяток, которые таскают хорошие лошади, с толковым начальником штаба, понимающем все с полуслова, и чтобы старшины были из кадровых, а на взводах чтобы были лейтенанты, мальчишки с командирскими кубиками, еще не привыкшие к власти над людьми, но уже хлебнувшие войны, и все-таки всегда готовые не пожалеть себя и думающие поэтому, что и их подчиненные тоже готовы на это. И чтобы были ПТР, и чтобы ротные были из взводных, как Щеголев, потерявших уже не один взвод и побывавших в госпиталях, и чтобы в ротах были снайпера – по парочке хотя бы, из Бийской, например, школы снайперов, которая выпускает отличных снайперов из сибирских деревенских ребят, узнающих охоту с первых своих штанов, и чтобы…
«Хватит! – сказал он себе. – Сейчас надо… Сейчас надо…»
Он стал прикидывать: Чесноков и эти двое отдохнули. Минут сорок пройдут до машины, минут десять, нет – двадцать: перекурят, будут доказывать шоферу, потом загрузятся – килограмм по пятнадцати консервов и хлеба – значит, минут двадцать…
Внизу под ним у родника топтались и переговаривались красноармейцы.
– Не мути, не мути! – сдержанно-глухо укорят кто-то кого-то. – После тебя не скотина, люди будут пить.
– А я и не мучу. Со дна она холоднее, – объяснял тот, кого упрекали.
– Ты не мутишь, зато мычишь! – засмеялся Чесноков.
Ардатов узнал его голос.
– Поглядим, как мы завтра замычим, – сказал Просвирин. – Как он повиснет опять над тобой…
– И впрямь повиснет, – перебил его Чесноков, но Просвирин как бы не заметил этой перебивки:
– А меж его бомбой и тобой единая гимнастерка да собственная шкура…
– Кожа! – поправил Чесноков. – Ты шерстью от страха оброс?
– Куда! Назад! Назад, говорят! – резко окликнул кого-то Тырнов. – Отдыхать на этой стороне.
– «Значит – час, – продолжал прикидывать Ардатов. – Если мы выйдем тоже через час… Нет, даже через полтора, можно и через полтора, успеем до света – и если оставить тут тоже четверых, потому что с Чесноковым и этими двумя надо еще послать и сержанта, и они возьмут у них мешки, чтобы те шли налегке, а потом будут меняться, то у нас, если они не заблудятся, будет килограммов сорок на семьдесят человек»…
Было тихо. Наступающая ночь остановила войну. Немцы, наверное, поужинав, укладывались спать на тех рубежах, куда они вышли к исходу дня, а наши, как это бывает при отступлении, опоминались: тоже что-то ели, отправляли в тыл раненых, перетаскивали на слабые участки обороны то, что можно было перетащить, зарывались поглубже в землю, готовясь к завтрашним атакам.
Над фронтом, даже в той стороне, где до самого вечера немцы бомбили, была тишина, так что Ардатов через приглушенный разговор у родника хорошо слышал, как торопливо-призывно стрекочут кузнечики и как ухает где-то недалеко не то сова, не то филин, не то еще какая ночная птица.
Его мысли прервал какой-то нелепый разговор.
– Так все-таки, так все-таки, ваша светлость, где это вы были намеднись? – спрашивал под мостом тонкий и ехидный голос. – Ах, князь, не бережете вы себя! В ваши-то лета, при нездоровье, увлекаться хористочками окончательно пагубно.
– Это с чего же! – возразил ехидному бас. – Это с чего же вы взяли, что я нездоров? Я, если угодно, пятаки гну! И аппетит у меня отменный – вчера такую пулярку ели, что, знаете ли, закачаешься. Не угодно ли глинтвейну? При этой сырости от ревматизма ничего нет лучше глинтвейна. Не угодно ли? Я прикажу принести.
– Кончайте там самодеятельность! – крикнул кто-то.
– Дайте людям поспать! Балаболки. Сами не спят, и людям не дают!
– Вот-с вам, ваша светлость, и глинтвейн! – съехидничал тонкий голос. – Нет уж, давайте-ка лучше посидим часочек-другой на спине…
Бас промолчал, и в тишине тихо, и грустно прозвучал сигнал отбоя: «Спать пора! Спать пора! Спать пора!»
«Фагот или гобой, – решил Ардатов. – Значит, у меня и музыканты? Лихо!.. Соориентирую тех, кого оставлю, а через километр буду расставлять по человеку. Не должны заблудиться! – решил Ардатов. – Только бы не проспали те, кого расставлю».
Он хотел уже звать Чеснокова и остальных, кто должен был идти с ним, но в стороне машины ударили частые винтовочные выстрелы, за ними сразу же затрещали автоматные очереди, и по редкому стуку автоматов он определил, что это стреляют из «шмайссеров».
«Или он сам не удержался, или они наткнулись прямо на него, и он должен был, – решил Ардатов. – Одиннадцать, тринадцать! Еще два, – считал он винтовочные выстрелы. – Все? Нет, шестнадцать – он перезаряжал. Еще один. Теперь – все! Отошел? Отошел, наверное, и вряд ли за ним погонятся. Им надо смываться. Ну, конечно, – вот стервецы! – выругался он, услышав взрыв. – Раз демаскировались, так хоть машину!..»
Ардатов залез на перила моста и, балансируя на них, смотрел в ту сторону, откуда пришел.
Машина горела сначала ярко: бензиновое пламя вытянулось золотым осенним листом ивы высоко и четко, затем оно опало, расширилось, покраснело и стало похоже на багряный лист клена с трепещущими концами. Потом в машине бухнули, сдетонировав от запалов, гранаты, кленовый лист разорвался, пламя сникло, и небо в той стороне опять потемнело, наконец темнота залила, совсем загасила свет. Ардатов спрыгнул на мост.
Отмеривая всем последние минуты сна, Ардатов присел у родника, чтобы ополоснуть в стоке ноги, проветрить сапоги и тоже подремать, хоть немного подремать: родничок булькал и журчал нежно, усыпляюще.
Хотелось, постелив удобней шинель, примостив под голову вещмешок и полевую сумку, расстегнув ремень и сдвинув на бедро пистолет, завалиться рядом с Тырновым, рядом со Щеголевым, рядом с Чесноковым, рядом с другими. Ардатов зевнул.
«То-то в госпиталях спится! То-то спишь и спишь там, – вспомнил он. – Всю ночь и после обеда. А иногда и после завтрака часок. Там, наверное, и спится так, словно бы кто-то в тебе знает, что впереди бессонные ночи. А Нечаев сейчас спит? Или дежурит? Да, это было интересно!..»
Было в тот поздний вечер бессовестно и дальше лишать Нечаева сна, но Ардатов все-таки спросил:
– На что-то же Гитлер рассчитывал? Не идиот же он круглый.
– Не идиот, – подтвердил Нечаев. – Не идиот, конечно, не кукрыниксовский персонаж, хотя и тип шизоида, параноик – мания величия. Гитлер – тип политика-авантюриста, который, используя несогласованные действия противников, старался еще больше их разобщить, рассчитывая получить то-то, то-то! И очень многое ему удалось. Пока Англия и Франция раздумывали, он захватил рейнскую демилитаризованную зону. Потом – объявил о выходе из Лиги наций. Потом аншлюс Австрии. Потом захват Чехословакии. И все это ему сходило. Сходило потому, что англичане и французы видели в нем инструмент борьбы против нас. Но когда он пошел на Польшу, то есть когда Германия усилилась уже в опасных размерах, тут и англичанам и французам волей-неволей надо было действовать. Они объявили Германии войну – Польша не сошла Гитлеру с рук. И хотя немцы разбили и Польшу и Францию, захватили Бельгию, Данию, Голландию, кусок Норвегии, войну они проиграли уже тогда – 1-го сентября.
За окном шуршали, приближаясь, чьи-то шаги и кто-то просительно говорил:
– Ну, Галя, ну, Галина, почему ты мне не веришь? Как будто я какой-то жулик. Как будто я…
Галя засмеялась, у нее был тонкий, совсем девчоночьий голос.
– Никакой ты не жулик, какой ты жулик, когда у тебя такое лицо, что хочется позвать «Сюда! Рядом!» Хочешь я тебя поцелую? Ну-ка!..
Ардатов и Нечаев услышали звук поцелуя, но ответ Гали для них остался недосказанным.
– Просто я беспокоюсь, чтобы…
– Вот видите, – улыбнулся в темноте Нечаев. – Да, батенька мой, ничто не в силах остановить жизнь. Так о чем это мы, бишь?
– Вы остановились на том, что они проиграли войну 1-го сентября 1939 года.
– Вот именно, – подхватил сонно Нечаев, снотворное начало свое дело, – Гитлер никак не хотел мировой войны против Германии. Помните, после разгрома Польши, он не раз обращался к англичанам с предложением мира – его выступление в рейхстаге, ряд других высказываний. Он даже льстил англичанам, говоря об их здравом смысле. Более того, у Дюнкерка в сороковом он остановил свои танки и дал английскому экспедиционному корпусу убраться в Англию, а ведь он мог просто расправиться с ними, истребить практически до нуля. Помните?
– Что-то помню, но, честно говоря, плохо. Как-то не обращал тогда на все это внимания, – признался Ардатов.
– Это не было главным, жизнь шла по-другому.
– Естественно, – согласился Нечаев. – Молодость, уверенность в себе, в будущем, это и было у вас главное, а политика – политика дело старших, ведь политика не очень приятная вещь, не так ли?
– Да, пожалуй, – задумчиво сказал Ардатов. – И еще дело не в том, что малоприятная, но и не очень понятная.
Нечаев, посмеявшись необидно, вернулся к прежней теме, вздохнув.
– А вам бы надо думать об этом. Кому, если не таким, как вы? Думать, чтобы знать. Ходящий в темноте не ведает куда идет. Но ладно.
– Итак, Гитлер, – продолжал Нечаев, – играя на антибольшевизме, планировал, что Англия и США или будут на его стороне и дальше, или останутся хотя бы нейтральными. Но англо-саксы не могли видеть у себя под боком – за Ла-Маншем – все увеличивающуюся фашистскую империю, которая рано или поздно должна была броситься и через пролив. Поэтому-то они и объявили войну Германии, и с того дня гитлеризм ничто не могло спасти. Даже договор немцев с нами. Этим договором немцы лишь обеспечили себе спокойный тыл, но десантироваться в Англию они были не в силах. У них не было господства в воздухе, у них не было господства на море. И битву над Англией они проиграли. Что оставалось Гитлеру делать? Захватить Балканы? Он захватил их, но это не решало войны, а лишь увеличивало ее театр. И тогда он бросился на нас и завяз сначала под Москвой, а теперь увязает здесь. И никуда им, немцам, голубчик, от расплаты не уйти – какой мерой они меряют, такой и им будет отмерено. Вермахт, а с ним и гитлеризм, стоят перед катастрофой.
Коньяк и снотворное, видимо, действовали уже вовсю – Нечаев говорил тише, трудней, но все с той же четкой логикой. Лишь раз мысль его сбилась – он пробормотал:
– Два часа, это тоже целых сто двадцать минут сна. Притолкнула ночь святая… – Но тут же поправился: – Как сказал Малюгин – литературный вечер будем считать законченным. – И добавил: – Я вас не увижу завтра. Поэтому до свидания. Вы уйдете в шесть, у нас это самый разгар – обработка ночных сводок, карта обстановки, доклад командующему. До свидания, голубчик.
Дальше разговор их шел уже медленней и теплей.
– До свидания, Варсонофий Михайлович.
– Вы берегитесь.
– Постараюсь.
– Но держаться надо за каждый клочок.
– Понимаю.
– Не исчезайте, по возможности давайте о себе знать.
– Спасибо, Варсонофий Михайлович.
– Все ли ясно? – переспросил Нечаев. – Все ли, голубчик?
– Все, все! – с готовностью ответил Ардатов. – Поражает только одно – как Гитлеру удалось оболванить свой народ. Ведь какой-то ефрейторишка – даже в плену! кричит, ерепенится, верит в геббельсовское вранье. Вот что меня поражает! Как все эти гитлеровские семена дали всходы?
Нечаев из-за тумбочки протянул к нему руку и постучал по кровати:
– До свидания, жестокий вы человек.
Ардатов пожал его сухую, горячую и вялую уже ладонь.
– Простите. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Варсонофий Михайлович.
– Спокойной ночи. Да… Спокойной ночи… Видимо, семена оказались подходящими для почвы, видимо, поливали их как следует. У них там индустрия пропаганды. Мало ли чего внушали человеку – иудаизм, христианство, буддизм, мусульманство – все это возникло на человеческом материале. Гитлеризм – та же религия, из гитлеризма им удалось сделать религию и обратить громадную часть немцев в эту веру. Это, голубчик, долгий разговор – разговор о том, что есть человек. Ведь пока человек не осознает, что он человек, с ним можно делать что угодно… Как-нибудь потом, – совсем сонно пробормотал Нечаев. – В другой раз… Мы еще свидимся… Да… Главное – держитесь там за каждый клочок…
– Да, конечно! Что вы, что вы, Варсонофий Михайлович, – с жаром сказал Ардатов.
– Любой ценой, голубчик, Любой ценой их надо тут удержать! За каждую позицию цепляйтесь, как за последний рубеж… Ни в коем случае за Волгу – там для нас земли нет.
– Понимаю, – вздохнул Ардатов.
– Никто за вас, за меня, за нас воевать с гитлеризмом здесь не будет. Надежда наша – на нас самих. Мы с вами – армия, дивизия, полк, – бормотал Нечаев, – ваш батальон – и свет мира, и соль земли… Посему за каждый клочок, за каждый рубеж, за каждую траншею, милый… Славно, славно, славно, что встретились. Не пропадайте… Сто десять минут сна…
– Я тоже очень рад, – искренне сказал Ардатов.
Уже совсем засыпая, Нечаев жестко приказал:
– Проверить вестового, чтобы не проспал. Не имеет права… Я не имею права проспать… Семнадцатую передвинуть южнее, к Алексеевке, а сто сорок третий ИПТАП… Держаться! Позиции!.. Чего-то я озяб, голубчик…
Ардатов осторожно закрыл Нечаева одеялом.
«Итак, что мы имеем на сегодняшний день? – спросил Ардатов себя уже сонно. – Четверть часа сна – раз, потрепанный батальон, который еще надо найти, – два, и три – под командой сотню без малого человек с бору по сосенке. Нет, не так уж плохо. Нечего судьбу искушать, нечего жаловаться, – сказал он себе. – Если же учесть, что у меня еще и два командира, то вроде все складывается нормально, и один из двух командиров – Щеголев!»
Со Щеголевым ему повезло – Щеголев, как он сказал, – тоже шел после госпиталя в ту же дивизию, только в другой полк. У Щеголева за спиной были бои под Белостоком, отступление через Минск к Смоленску, где он получил пулю в бедро, а весной бои под Волховом, ранение в кисть и предплечье, после которых он лежал в Башкирии. Оттуда он попал сюда на должность ротного.
Со Щеголевым должно было быть легко – они могли понимать друг друга с полуслова: фронтовой опыт у них был одинаков. Приглядевшись совсем немного, какие-то десяток минут к Щеголеву, Ардатов спокойно решил, что на Щеголева можно положиться, почти как на самого себя. К тому же Щеголев оказался еще спокойным человеком, и это тоже было приятно – в его присутствии Ардатов не нервничал.
В общем, день складывался, прикинул Ардатов, неплохо, – он удачно проскочил переправу, удачно же выбрался из набитого частями и беженцами Сталинграда, удачно подъехал хороший отрезок пути на полуторке, удачно и выскочил из нее из-под «юнкерса». Больше того, шофер одарил его продуктами. Но главным, конечно, была рота, которую он собрал тут, у ручья.
«Человек пятнадцать! – заверил он сам себя, вспоминая лица фронтовиков, их медали и нашивки за ранения. – Никак не меньше. А, может быть, больше – двадцать!» Двадцать фронтовиков на роту – это было немало, очень немало – один на четверых-пятерых необстрелянных. Оставалось лишь за ночь привести роту в батальон. «Черт не выдаст, свинья не съест! – подумал Ардатов, имея в виду, конечно, немцев. – Доберемся. Целая ночь впереди. Если километров по пять в час, можно отмахать, учитывая привалы, все двадцать пять. Вряд ли и нужно столько. Лишь бы не сбиться, выйти к тылам дивизии, а там, до полка – чепуха…»
– В эту ночь неважно – найдем полк или нет. Задача – соединиться с любой частью. К кому-то примкнуть. Сплошного фронта нет. Если немцы выйдут на нас, они нас раздавят. У нас и по три десятка патронов не наберется на человека, – объяснил Ардатов Тырнову и Щеголеву.
Они стояли на мосту, над родником, над спящими, и было слышно, как кто-то тяжело дышит во сне и как во сне разговаривает.
– Нюша! Ню-ю-ша! – звал кто-то. – Где маргарин?
– Синус острого угла равен косинусу, помноженному… Я – знаю, я знаю, я учил, Владимир Владимирович, – жарко уговаривал во сне Чесноков своего учителя, и Ардатов представил себе, что этот Владимир Владимирович сейчас влепит «неуд» Чеснокову, который, наверное, стоит у доски, и подумал, что, наверное, Нюше хорошо жилось с мужем, если так ласково он звал ее сейчас.
– Где вы видели наших? – спросил Тырнова Ардатов. – Где ближе всего их видели? Надо примкнуть до рассвета. Может, придется закапываться.
Тырнов, вытянув руку, показал:
– Там. Надо на эту звезду. Мы видели и пушки.
– Пушки? Это хорошо! – Ардатов зашел за спину Тырнова и через плечо посмотрел вдоль его руки на звезды. – Второй величины, так? Справа вверх над ней очень яркая, а сразу под яркой две маленьких. Эта?
– Эта, – подтвердил Тырнов.
Под мостом кто-то сонно кому-то разъяснял:
– Да как же без корму-то на зиму? А коровенка? А овцы? Затмение на тебя нашло, аль что? Да…
– Поднимай. Поднимай и строй! – приказал Ардатов Щеголеву. – Пойдем так ходко, как позволит охранение. Длинный переход – длинный отдых. Частые привалы только сбивают дыхание. Кстати, как ты? Ноги в порядке? Хорошо. Я иду с главной группой, ты – замыкающим, Тырнов – в середине. И чтоб ни одного отставшего.
Щеголев скомандовал, люди в овраге начали тяжело подниматься и медленно выходить к мосту.
Ардатов позвал:
– Разведчики! Сержант Белоконь! Ко мне!
Когда разведчики сгрудились около него плотной кучкой, он приказал:
– Идете в охранение. Двигаться парами. В правой паре старший Белоконь, во вторую, Белоконь, назначишь. Направление движения – на эту звезду. – Он убедился, что все они сориентировались, и закончил: – Дистанция – чтобы не терять нас. Интервал – чтобы не терять другую пару. Вопросы есть? Нет? Оружие к бою! Вперед!
– Группа построена, – доложил Щеголев.
Ардатов пошел к ней.
– Товарищи! – так громко, чтобы слышали все, начал он. – Огонек папиросы виден на километр, горящая спичка – еще дальше. Поэтому пока движемся – никакого курения! Впереди нас – наше боевое охранение, оно уже ушло. Справа и слева пойдут еще две пары. Проверить снаряжение! Чтобы ничего не звякало. Разговор вполголоса. Не растягиваться! Не отставать! По команде «К бою» – разворачиваться в цепь. Патроны у всех есть? У всех?
– У меня нет! – крикнул кто-то виновато.
– У меня тоже! – выкрикнул еще кто-то.
– У меня мало!
– Стоящие рядом – поделиться! – приказал Ардатов. – Быстро! Не из подсумков – из вещмешков. – Он заметил, что у кого-то в глубине группы светится в рукаве шинели цигарка. – Докуривай!
– Больше половины, черт! – услышал он, как жалеют курево и как советуют, что сделать: – «Ты приплюнь, да за пилотку. Она там и подсохнет. Чего ж кидать добро-то!»
– Беречь воду! Больные есть?
– Есть! – выкрикнул Тягилев. Ардатов узнал его по козлиному голосу. – Есть!
– Вы, Тягилев?
– Нет. Тут трое, товарищ капитан. С этой, с куриной слепотой. Землячки мои, оказалось, однако.
В строю захихикали и засмеялись:
– Ай да болячка!
– А кори у них нет?
– Тихо! – оборвал Ардатов. – Что вы хотите, Тягилев?
– Разрешите, товарищ капитан, им идти особо. То есть, чтоб в сторонке. И людям мешаться не будут, и самим удобней. Я их поведу. Ведь она, товарищ капитан, слепота эта, как солнышко сядет, начисто глаза отнимает. А пилюльки не помогают, – объяснил Тягилев.
– Больные, выйти из строя. Тягилев, отвечаешь за них.
Ардатов знал, что такое куриная слепота. Под Вязьмой, скитаясь там по лесам, пробиваясь из окружения, они голодали, и на нескольких человек напала эта слепота. С наступлением сумерек они становились беспомощными. Он посмотрел, как Тягилев выводит из строя своих подопечных, и как они изготавливаются идти за ним, встав на ощупь в затылок друг другу, держа переднего за хлястик шипели. Все трое были крупными, тяжелыми мужиками, на голову выше Тягилева, который между тем радостно суетился возле них, приговаривая:
– Кабы эта весна была, так щавелем покислились бы, оно бы все и прошло. Али пучкой, али еще чем. А тут сухость одна, полынь. Это разве земля! Однако, может, терен тут растет?
– Еще больные есть? – спросил Ардатов. – Нет? Все ясно?
– Ясно!
– Не первый раз!
– Ясно!
Ардатов не мог различить всех тех, кто отвечал, тех, кто глухо и без особых восторгов говорил «ясно», «не первый раз». Привычным движением вскинув вещмешок за плечо, сказав себе: «Ну, лиха беда – начало!» – он дал команду:
– Нале-во! Направляющие, за мной! – Он вышел вперед. – Шагом марш!
Как это положено по уставу для оркестра, с первым же шагом музыкант лихо заиграл суворовский «Походный марш». Ардатов даже вздрогнул, потому что гобой взял высоко и тонко, отчего на душе словно скребнули кошки, и Ардатов, обернувшись, крикнул:
– Отставить! Отставить! Музыкант, ко мне!
– Бросьте вы эти штучки! – строго выговорил музыканту Ардатов, когда музыкант догнал его и пошел рядом. – Из музвзвода?
– Из ансамбля. – Музыкант был коротенький, толстый и, судя по хриплому голосу, пожилой. – Отчислили в строй.
– Водочка? – догадался Ардатов.
– Она тоже, – признался музыкант, – но главное – отсутствие должного почитания начальства. Как оказалось, это в армии вредит крайне.
– Давно в армии?
– Уже три месяца, – помедлив, чтобы вздохнуть, ответил музыкант. – Три месяца шесть дней. – Он опять вздохнул.
– Считаете? – недобро усмехнулся Ардатов. – Зря. Счет будет длинным: рано начали. Не об этом сейчас надо думать. Или никак не отвыкнете? Там покойничек, там свадьба, так?
– Так, – признался музыкант.
Ардатов в свете звезд разглядел у музыканта под рукой длинную узкую коробку с гобоем.
– Пора отвыкать.
– Не так-то легко отвыкнуть. Думаете, это просто? Сорок лет человеческой жизни против трех месяцев другой. «Налево! Направо! Кругом!» – сердито и горько скомандовал сам себе музыкант.
– Не просто, – согласился Ардатов. – Жизнь ничего была? Как ваша фамилия?
– Ничего, ничего, ничего, – быстро подтвердил музыкант. – Васильев. Николай Сергеевич Васильев. Бывший работник Саратовской филармонии, – представился он. – Ничего была жизнь. Много ли холостяку надо? Как никак, а каждый вечер, после концерта, конечно, хороший ужин, ну, и вообще – свой народ – музыканты, актеры. Искусство… Это, знаете… Хотя обыватели и называют нас «богема». Все-таки…
– С водочкой ужин? С ней? – спросил, не дослушав, Ардатов, заранее зная ответ. Он понимал этого Васильева, представлял его жизнь, знал, что Васильев к ней привык, что иной для него не существует, но сейчас обстоятельства были такими, что Васильев обязан был жить другой жизнью. – Стрелять умеете?
– Стрелял, – ответил Васильев. – В ансамбле дали попробовать. Все мимо. Нужны, знаете, репетиции, то есть, я хотел сказать, тренировки.
«Репетиции будут, – мог ответить ему Ардатов. – Репетиции начнутся завтра. Даже, может, еще и сегодня. Этих репетиций будет вам, Васильев, за глаза, коль вы не ужились в армейском ансамбле. И если вы хотите, чтобы побыстрей вернулась та жизнь, с ужинами после концертов, с не очень сложными отношениями между мужчинами и женщинами, с искусством, в общем, со всем тем, что, правда, обыватели осуждающе зло называют „богемой“, если вы хотите, чтобы все это вернулось побыстрей, вам, Васильев, придется теперь добросовестно исполнять соло на винтовке. Соло в ансамбле, который называется пехотная рота. Или?..» – мелькнуло у него в голове.







