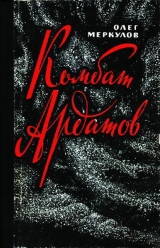
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
По-кошачьему мягко Белоконь вскочил и, как будто где-то в немецкой траншее, как будто подбираясь к сонному часовому, чуть согнувшись, левым плечом вперед, слегка выставив левый локоть, пошел к Жихареву, поднимая правую руку с лопаткой.
О, это было отличное оружие – малая саперная лопатка. Ее короткий, отполированный солдатскими ладонями дубовый черепок был всажен в кованый раструб, приклепанный к стальному прямоугольнику. Крепчайшая, увесистая в хороших – сильных и ловких руках лопатка в рукопашной была страшным оружием. Лопаткой рассекали не только шею до позвонков, но и сами позвонки, словно стебель подсолнечника, она входила в череп, если не как в арбуз, то как в сухую глину. А у Белоконя и были такие руки – Белоконя, поди, инструкторы рукопашного боя сто раз учили, как действовать малой саперной.
– Отставить! Белоконь! Назад! – быстро скомандовал Ардатов. – Ко мне! Ну!
Белоконь опомнился. Он опустил лопатку, весь обмяк и, глубоко вздохнув, остановился и обернулся к Ардатову. На его лице беспощадность сменилась выражением растерянности, и скажи Жихарев сейчас ему: «Ладно, погорячились мы, извини, брат!» – и Белоконь, конечно, сразу же отошел бы душой, подхватил бы добрые слова. Он, наверное, сказал бы тоже что-то вроде: «Меня извини! Черт попутал!»
– Я, товарищ капитан… Вы видели…
– Ладно! – Ардатову не нужны были объяснения.
– Раскрывай, – приказал он, ткнув пальцем в сторону ящика.
Но ни Просвирин, ни Жихарев не сказали ничего, что могло бы как-то смягчить стычку. Наоборот, Просвирин, которого Жихарев подталкивал, как гнал перед собой, повертев в воротнике шеей, собрав рассыпанные патроны, не глядя никому в глаза, ушел, бормоча:
– Ну, погоди! Дай срок! А срок скор… Господи, да помоги ты мне!..
– Вы на него не обращайте внимания! – объяснительно сказал Жихарев Ардатову. – Чумной он! Кабы не я… – Жихарев сделал жест, который должен был означать полнейшую безнадежность, и чмокнул губами, подкрепляя этот жест. – Кабы не я… Ну, чумной и чумной! Что с него взять, товарищ капитан. Вы уж забудьте!
«А этот ничего, – решил Ардатов. – Нянчится с психопатом».
– Никуда не отлучаться. Ясно? – приказал он Белоконю. – Твое место здесь.
– Есть, – поборов новую вспышку, ответил Белоконь. – Но я этой чувырле…
– Брось! – отрезал Ардатов. – Не связывайся!
Ардатову было неприятно, что все это видел и Ширмер, он покосился на него, но Ширмер, поймав его взгляд, кивнул, слегка развел руками и в подкрепление к этому жесту скривил угол рта, как бы говоря: «Бывает. Чего на воине не бывает. Чего вообще на свете не бывает? А так, вообще, все, дескать, в норме…»
Была та пауза, которая наступает в бою, когда атакующие устали атаковать, а их командиры убедились в бессмысленности понуждать их делать это и должны были искать или иное решение, или усилить атакующих, на что в обоих вариантах требовалось время.
Ардатов, воспользовавшись этой паузой, перебросил всех, кто остался жив, с линии танков снова в траншею, потому что маленькие, разрозненные под танками кучки уже не управлялись и представляли по отдельности, как растопыренные пальцы, силу, крайне слабую. Он стянул всех в ту часть траншеи, которая примыкала к ПМП, где майорша и медсестра, насколько могли, обхаживали раненых, сняв с Ардатова эту заботу, прикрыл жидкой цепочкой из сорока шести найденных Белоконем мин подступ к этому куску траншеи, раздал бутылки с горючей жидкостью, усадил несколько красноармейцев набивать диски к майоршиному пулемету, который теперь для них оставался единственным, так как к немецким патронов было так мало, что он приказал эти патроны распределить тем, у кого были трофейные винтовки, и приказал Тягилеву, Васильеву, Таличу и еще двум красноармейцам похоронить или, во всяком случае, перенести подальше от теперешней их позиции убитых.
Это, конечно, было тяжкое дело, Васильев косо, почти зло, посмотрел на него, Талич отвернулся, оба других красноармейца хмуро уставились на свои сапоги, но Тягилев проявил такую странную готовность, что Ардатов уверился, что все будет сделано в лучшем виде.
– Действуйте! Быстро! – приказал он.
– Как же иначе! Как же иначе! – Тягилев, как ненужную вещь, как помеху, отставил винтовку к стенке и всплеснул руками. – Земля еси, и в землю отыдеши… И все человецы пойдем! – Он остановился, сделав было два шага, и махнул на убитых немцев. – А энти бусурмане пущай так! Пока не засмердять!
Занимаясь с другими красноармейцами минами, Ардатов видел, как Тягилев с помощниками сносят убитых в слепой, недорытый ход сообщения, как укладывают их там, присыпая землей со стен и брустверов, и слышал, как тонким голоском, каким-то детским, нежным дискантом поет, не переставая, два совершенно разных куплета Тягилев:
– Ай ду-ду, ду-ду-ду-ду! Потерял мужик дугу. На зеленом на лугу потерял мужик дугу!.. Сударыня-барыня, отрежь полотенца, отрежь полотенца накрыть малыденца… – Дальше Тягилев колыбельной не помнил и, сказав, ласково строжась: – Спитя! Спитя все! Я вам ужотка! – начинал другую песню. – Эх, кожух, рама! Шатун с мотылем! Возвратная пружина! Приемник с ползуном!..
Через сколько-то времени к Ардатову подошел Васильев. Он был мрачен, левый глаз у него как-то непроизвольно дергался, и Васильев должен был придерживать этот глаз грязным пальцем.
– С Тягилевым плохо. Кажется, он того… Увести бы его оттуда, товарищ капитан! – не предложил, а потребовал угрюмо Васильев.
– Уведите! – согласился Ардатов. – Чесноков! – крикнул он. – Помоги Васильеву. Тягилева – к раненым. Пусть майор сделает ему укол.
– Сейчас! – Прилет самолета, патроны подействовали на Чеснокова возбуждающе. Он снова сиял, как будто это не его давил в окопе танк, как будто не его рвало после этого чуть ли не до желчи. Радость в Чеснокове была просто неистребимая.
– Знают, да, товарищ капитан? Значит, знают про нас? – переспрашивал его Чесноков, хотя Васильев и смотрел на него угрюмо. – Могут дать подкрепление, да? Да, товарищ капитан? А тут эти шипели, что мы брошены, мол, мясо мы пушечное и все такое. Жалко, Белоконь ему не двинул. В следующий раз вы, товарищ капитан, разрешите его немного проучить!
– Кто шипел? – быстро переспросил его Ардатов. – Кто?
Чесноков махнул вбок, показывая направление, куда ушли Просвирин и Жихарев.
– Они, трепачи те же! Кто же еще. Жихарев да Просвирин. Дружки подобрались. Оправляться по двое ходят! Зато когда остаются сами, грызутся, как собаки. Я шел – они меня не видели – и слышу: «В другой раз, если пошлют опять с тобой, я тебя просто пришью и весь сказ!» Это так Жихарев говорил, а Просвирин ему в ответ: «Я тебя, вошь уголовную…» Что он хотел сказать дальше, не знаю, они меня услышали. Видели бы вы, как Просвирин смотрел потом! Живьем готов был проглотить! Нет, товарищ капитан, их надо проучить! Не так чтоб очень, а немного надо. Тут про нас знают, тут патроны, тут мы их, – он кивнул на убитых немцев, – удерживаем, а они трепятся!
– Он так и сказал: «вошь уголовная?»
– Ну да, – закивал Чесноков, – «Я тебя…» Нет, – уточнил он. – «Я тебе, вошь уголовная…» Так он сказал.
– Пошли, пошли, – сказал ему Васильев. – Пошли же! Выполнять! – сказал он тоном Ардатова.
«Ну, а что я могу с ними сделать? – соображал Ардатов. – Предположим, они не те. Разоружить? Допрашивать? Отделить их, обыскать тщательно? Белоконь, Щеголев, я, Чесноков, – прикидывал он, кого привлечь к этому делу. – „Вошь уголовная“, – повторил он про себя. И такой отобран для службы в контрразведке! Хотя, конечно, он просто рядовой – стоять на посту, конвоировать. Велик ли с него спрос? Самый мелкий исполнитель. А может, он служил в охране лагерей уголовников и эти словечки оттуда… Но только не на глазах Ширмера», – решил он.
«Лихо! Ай-да лихо!» – думал Ардатов, следя в бинокль за тем, как из Малой Россошки, петляя по степи, к ним мчится, газуя вовсю, мотоцикл с коляской. Мотоцикл кидало на кочках, но мотоциклист-водитель, не сбавляя хода, гнал, припав к рулю, словно на какой-то сумасшедшей гонке, врезаясь в полынь и ковыль, сбивая с них пыль, оставляя за собой хвост дыма и этой пыли, отчего казалось, что мотоцикл от натуги горит.
Немцы запоздало ударили по нему из минометов, но мины рвались или далеко сзади него, или в стороне, или слишком впереди, и Ардатов, представив себе, как торопливо-зло крутят ручки наводки немецкие минометчики, с издевкой сказал им: «Промажете все равно, сволочи!» Конечно, немцы стреляли по мотоциклистам и из винтовок, но тот, кто сидел за рулем, бросал машину влево, вправо, как будто выполнял сложные повороты в этом бензиновом слаломе.
Ардатов знал, что мотоциклистам за ревом мотора не слышно пуль, прикинул, что в таких гонщиков и из винтовки не очень-то попадешь, и сказал опять, на этот раз немцам-стрелкам: «И вы промажете, сволочи! Конечно же, промажете!.. А снайпер бы сбил! Со второй, с третьей, но сбил бы, – подумал он. – Хорошо, что его самого сбила Надя! Молодец девочка!»
Все нераненные и те раненые, кто мог, выглядывая на секунды из траншеи, смотрели, как приближается к ним мотоцикл и, конечно же, у всех на душе полегчало, все обнадежились, потому что сам дымно-пыльный след этого связного был для них ниткой, которая соединяла их со своими.
– Наши! – кричал, радостно приплясывая, Чесноков, забывая, что высовываться нельзя, и выставляясь под пули. – Наши! Как жмет! Подкрепление! Подкрепление будет!
– Пригнись! – крикнул ему Ардатов. – Голову!
Когда до них оставалось с полкилометра, мотоцикл вдруг резко остановился, тот, кто ехал в люльке, махая в стороны руками, что-то – Ардатов не мог разгадать именно что – что-то поделал, потом отшвырнул какой-то предмет, мотоцикл снова по-суматошному рванулся, как будто не то нахватался нужного ему воздуха, не то накопил новых сил, и сделал это как раз в пору. Немцы целились в него с упреждением на скорость, и во время остановки мотоциклистов мины немцев веером легли значительно впереди него, но за остановку наводчики довернули прицелы, и, обожди мотоцикл на месте еще мгновения, они бы накрыли его. Но пока мины летели по поправленной траектории, мотоцикл умчался вперед, и они ударили за ним.
– Лихо! – снова сказал себе Ардатов, хорошо уже различая и того, кто припал к рулю, и того, кто лежал животом на задней части люльки, спиной к ним, удерживая в руках телефонную катушку, следя за тем, чтобы при всех бешеных эволюциях машины провод сматывался с нее равномерно, – оборвись этот провод, и надо было бы останавливаться, чтобы стачать его, и, наверное, немцы бы уже с такого расстояния не промазали.
«Они останавливались, чтобы срастить провод, когда кончилась первая катушка, первые полтысячи метров кабеля. Ну, живем! – радостно подумал Ардатов. – Связь есть, теперь есть связь!» Но он все-таки быстро покосился на солнце – солнцу до горизонта еще оставался порядочный кусок неба.
Мотоциклисты на предельном газе подлетели к траншее, водитель, рванув руль, заложил вдоль нее дугу и, дернув декомпрессор, зачихал цилиндрами, отчего мотоцикл потерял сразу скорость, и оба мотоциклиста не спрыгнули, а свалились в траншею. Еще падая, один из них, тот, кто вел мотоцикл, крикнул:
– Осторожней, телефон!
– Вроде все цело, – сказал он, стоя на одной ноге, поднимая, как гусь, другую простреленную в икре, и осматривая телефон.
Это был молоденький лейтенант, у которого на петлицах рядом с кубиками были эмблемки из старинных пушечных стволов.
– Связь! Дать связь! – приказал он своему пассажиру, сержанту, упавшему в траншею с катушкой, на которой оставался последний и неполный ряд кабеля.
Сержант быстро присоединил провод к клемме и крутанул ручку.
– Есть связь! Есть! – доложил он и сказал в трубку: – Еще бы полсотни метров, и все впустую!
– Мотоцикл вниз! Быстро! – приказал всем Ардатов.
– Расширить траншею! Землю только вниз! Не демаскироваться! Вызвать сестру!
Оставленный на виду мотоцикл был вехой, давал немцам точный ориентир, где проходит траншея, поэтому те, кто стоял ближе всего к мотоциклу, начали лихорадочно резать, копать, рубить стенки, и очень скоро Белоконь, лежа на животе за мотоциклом, подталкивая его сзади, и еще несколько красноармейцев, подтягивая мотоцикл на себя, свалили его боком в образовавшуюся яму, так что теперь мотоцикл, как и все, кто был в траншее, стал невидим для немцев.
– Тпру, лошадка! Тпрру! – похлопал мотоцикл, как шею лошади, Белоконь. – Передохни, милая. Спасибо, что довезла нам…
– Молись, святое воинство! Молись, пехота! – перебил его связист, передавая трубку лейтенанту. – Молись, чтоб связь не рвалась, и будете, как за каменной стеной.
Все еще захваченный ожесточенным ритмом, лейтенант закричал в телефон:
– Ухо! Ухо! Ухо! Ухо! Я – глаз! Я – глаз! Вы? – горячо и радостно спросил он кого-то на том конце проволоки, видимо, хорошего своего знакомого или товарища. – Видели? Да, жал газ до предела. Я же говорил! Ого-го! – вдруг сказал он по-иному. – Больно, ломит.
Из согнутой ноги лейтенанта, чуть выше голенища хромового сапога из маленькой дырки в брюках быстро капала кровь.
– Нет, не вам, – крикнул лейтенант в трубку. – Это я так.
Он, изогнувшись, секунды разглядывал свою продырявленную ногу, как капает из нее кровь и как эта кровь смачивает утоптанное глиняное дно траншеи.
– Готовы? – спросил в трубку, отвернувшись от ноги, лейтенант и, передав трубку связисту, дернув кнопки чехла бинокля, подкрутив барашек резкости, начал командовать:
– Репер номер один! По реперу!..
– По реперу! – повторил связист, привычно устраиваясь полусидя, полулежа на дне траншеи.
– Гранатой, взрыватель осколочный, угломер 42–80, прицел 64, уровень 30–00. Первому, один снаряд… Огонь!
– Гранатой! Взрыватель!.. Угломер!.. – эхом откликнулся связист, передавая команду на батарею.
Снаряд разорвался правей и дальше крайнего, того самого танка, который Ардатов подбил первым, этот танк и служил лейтенанту репером.
– Ай-я-яй! – пробормотал лейтенант и дал поправку: – Левее 0–06, прицел меньше 4. – После второго снаряда он приказал: – Стой! Записать установки!
– Действуй! – сказал сестре Ардатов, когда она протиснулась, приподняв над головой сумку, между мотоциклом и стенкой. – Ножницами. Пусть пристреливается. И побыстрей, ладно? Сейчас они опять полезут!
– Ясно! – Сестра, поддернув юбку, стала на колени у ноги лейтенанта, мелькнули ножницы, сестра ввела одну их половинку в пулевую дырку на штанине, надавив на каблук, положила носок сапога себе на юбку, и полоснула ножницами брюки сначала вверх-вниз, а потом поперек, так что мокрый кусок брюк обвис, и обнажилась сухая мальчишеская икра.
– Репер два! – скомандовал лейтенант, но тут сестра положила на икру тампон, и лейтенант обернулся. – А-а-п-п! – сказал он, как будто подавился воздухом, и сразу же изогнувшись, подул на икру, как дуют на ушибленный палец! – Нельзя ли поосторожней?
– Нельзя! – Сестра сдвинула по бинту второй тампон так, что он прикрыл выходное отверстие. – Не в детской поликлинике! Командуй! Командуй! Да не дергайся. – Она туго обвела бинт вокруг икры.
– А-а-а-п! – снова задохнулся лейтенант, поглядел растеряно на Ардатова, дескать, что это за такое отношение, дескать, это никуда не годится, но не встретив сочувствия, проглотил возмущение и продолжал командовать:
– Репер два! Угломер… Прицел…
Чтобы лейтенанту было легче переносить боль, сестра, когда он, пристреливая второй репер, делал паузы, бинтуя, говорила ему:
– Разве это ранение? Фи! Тебе просто повезло. Другой бы позавидовал, а ты еще… Как фамилия, имя, отчество? Мне надо тебя записать. На фронте не только артиллерия записывает установки!..
Лейтенант удивленно посмотрел ей на затылок, потом вновь на Ардатова, как бы спрашивая: «Что, на фронте все сестры так себя ведут, так пренебрежительно разговаривают с комсоставом?» Но тут следующий пристрелочный ударил уже хорошо, и лейтенант, перехватив у связиста трубку, закричал в нее:
– Записать установки! Да, все! Привет канонирам-бомбардирам! Ладно, не маленький! Отставить разговорчики!
– Так как же твоя фамилия, имя-отчество? – переспросила его сестра, завязывая концы бинта бантиком. – И номер полевой вашей почты.
Лейтенант, цепляясь за стенки, неловко сел.
– Рюмин, Всеволод Васильевич Рюмин. 236-й отдельный полк АРГК – артиллерии резерва главного командования. Полк, особо отличившийся под Тулой. Правда, лично я там не участвовал, но…
Несмотря на боль лейтенант все еще внутренне мчался на мотоцикле, и тот гоночный темп пока звенел в его душе, потому что этому лейтенанту было всего года на три больше, чем Чеснокову, – было двадцать один, двадцать два, – и, судя по его «хромочам», специально укороченной гимнастерочке, фуражечке с крошечным козырьком и заниженной тульей, несомненно, сделанной на заказ где-то в тылу, судя по тому, как он залихватски носил ее, – по-кавалерийски, ремешок под подбородок, – лейтенант и в войне был еще очень зелен.
«Ничего, – смирился с этим Ардатов, прощая Рюмину и его шик, и его зеленость, и его хвастовство, прозвучавшее в словах „артиллерия резерва главного командования“. – Лишь бы стрелял хорошо!»
– Заградогонь по рубежам, – объяснил лейтенант Ардатову, хотя этого и не требовалось, это и так было понятно. – В случае необходимости – целым дивизионом. Сейчас они вычислят для первой и третьей батарей. Они это быстро сделают: какие-то минуты, успеют. Вы тут здорово держались. С ПНП[9]9
ПНП – передовой наблюдательный пункт.
[Закрыть] мы видели, но без приказа… – Рюмин, как бы извиняясь, пожал плечами. – У нас полтора БК, так что если полезут… Огонь дивизионом – это знаете… будет крепко! – Он посмотрел на повязку. – Черт, не повезло. И надо же!..
Огонь, заградогонь дивизиона, – это и правда могло быть крепко, если еще учесть, что у него было полтора боекомплекта, и предположить, что командир дивизиона не станет трястись над каждым залпом.
Ардатов наклонился, назвал себя и подал лейтенанту руку.
– Из какого училища? А, слышал, Первое Ленинградское – хорошее училище. Наверное, досрочный выпуск? Сиди, сиди, тебе пока и надо сидеть. Когда полезут, тогда и встанешь. И зря над бруствером не торчи.
– Да, досрочный! – подтвердил лейтенант. – На четыре месяца раньше. И весь взвод – в один артполк! Здорово, правда? Все ребята – свои!
Что было там, в этом полку АРГК, Ардатов знал – взвод таких лейтенантов разлетелся по дивизионам и батареям полка, как парашютики с одуванчика. Но за короткую формировку, еще более короткую дорогу к фронту все эти новенькие лейтенанты не вошли еще в иную для себя ипостась – командиров. Они во многом все еще оставались вчерашними курсантами, которые между зубрежкой перед выпускными экзаменами гоняли на плацу в футбол, вечерами удирали на часок в самоволку к девушкам, а, попавшись, отхватив за это наряд вне очереди, драили полы казармы. И, служа в полку, служа честно, со рвением юности, стараясь делать все на «хорошо» и «отлично», эти лейтенанты пока жили не его жизнью, а жизнью училища. Встречаясь, они говорили о нем, писали письма преподавателям, еще видели его во сне. Что ж, это училище стоило того, чтобы его помнить – отличное в Ленинграде здание, традиции, великолепный преподавательский состав.
И для таких, как Всеволод Рюмин, курсантов довоенного набора, комсомольцев и значкистов до единого, эвакуация из Ленинграда и выпуск там, на востоке, не играли роли. Они были ленинградцами и в Кирове, и в Свердловске, и в Уфе.
– Вы мне связь обеспечите? Обеспечите, товарищ капитан? Главное – связь! – сказал Рюмин, все-таки поднимаясь. – Ого! – поделился он тем, как больно ему ступать. – Если будут обрывы, я не смогу управлять огнем.
Ардатов помнил фамилии двух связистов и, не видя поблизости, крикнул:
– Варфоломеев! Николичев!
Ища их, он заметил за спинами столпившихся в траншее сосредоточенное лицо Жихарева. Казалось, Жихарев решает в уме какую-то важную задачу, но как только Жихарев встретился с ним взглядом, его лицо сразу же приняло выражение подчиненного, готового слушать и слушаться.
Николичев был легко ранен, осколок рассек ему кожу на шее, и он был перевязан так, как будто мучился ангиной. Но его руки-ноги были целы и для задачи он годился.
– Поступайте в распоряжение лейтенанта Рюмина! – сказал Николичеву и Варфоломееву Ардатов. – Все его приказы – выполнять беспрекословно! Задача – обеспечить связь! Ясно? Поищите, может, где-нибудь есть обрывки кабеля. Пригодятся.
– Да, уж если он на лапшу порубит – тачать придется. Пошли, – сказал Николичев товарищу, и они ушли искать эти обрывки.
– Я свободна? – спросила Ардатова сестра, он кивнул, и сестра, обернувшись, поздравила лейтенанта: – С первым боевым ранением! Кость цела, вена тоже. Сделают тебе рассечение, и через месяц будешь танцевать вальсы.
– Что это еще за рассечение? – огорчился Рюмин, не зная, конечно, что сквозную рану икры в ППГ[10]10
ППГ – полевой передвижной госпиталь.
[Закрыть] рассекут у входного и выходного отверстий, чтобы не было газовой гангрены, да сделают это под местным наркозом, так что ему придется покряхтеть, да протянут через рану – насквозь икры – кусок смоченной чем нужно марли, да в ГЛР[11]11
ГЛР – госпиталь легко раненых.
[Закрыть] будут эту марлю время от времени менять, не давая скапливаться гною, так что Всеволоду Рюмину на перевязках без всяких наркозов придется не только покряхтеть, но и постонать; словом, Рюмин еще не видел, что его ждет впереди, что ждало впереди каждого раненого, если он благополучно выбирался из зоны боев и по дороге в тыл не попадал под бомбежку.
Но дело было совсем не в этой боли, которую Рюмину предстояло испытать. Огорченный тон лейтенанта объяснялся другим: уж очень быстро он отвоевался – какие-то минуты на мотоцикле, и все для него кончилось. Он, знал Ардатов, наверняка хотел побыть в боях дольше, он, наверное, и письма еще не успел отправить, в котором в верхнем углу мог бы поставить слова «Действующая армия». Ему, конечно, хотелось, чтобы такие письма получили и его родители, какие-нибудь почтенные ленинградские папа и мама, если они не умерли от голода, в блокаде, если эвакуировались еще до голода. Хотелось, конечно, Рюмину, чтобы и девушка, с которой он гулял, ходил на танцы, целовался во время нечастых увольнений из казармы, тоже получала такие письма и переживала за него, а он бы, между прочим, писал так, пустяки – о товарищах, например, о погоде, о том, что читать совершенно некогда, о своих подчиненных, писал бы все так, чтобы военцензоры не могли придраться, но чтобы между строк сквозили бои и сражения и его, Всеволода, непосредственное участие в них. И чтобы девушка читала такие письма подруге и чтобы ответы девушки приносили прямо на боевую позицию его батареи.
А тут вдруг – в первый же день! – на тебе, ранен. Да не в первый же день, а в первый же час! И может же так человеку не повезти! Так быстро отвоеваться! Да ведь зайди разговор о том, как и где, в каких боях ты был ранен, и рассказать стыдно! Вернуться в тыл, так быстро вернуться не то что без ордена, а даже без медали! Позор! Позор! Как людям-то на глаза показываться? Ардатов знал, что Рюмин думает так или примерно так – не первого такого лейтенантика он встретил.
– Нельзя ли без него? Без этого рассечения? Мне оно ни к чему! Как рыбе зонтик, – огорченно спросил лейтенант.
Сестра, старая фронтовичка, переглянулась с Ардатовым: «Приехал мальчик поиграть в войну, а война-то, оказывается совсем не то, что ему представлялось… Получил пулю в икру и возмущается. А если бы в лоб? Или в область живота? Или в горло?»
– Там решат. Может, и не будут делать. Тогда вальс через три недели. Хотя и прихрамывая. Сойдет?
Сестра, конечно, говорила это просто так, как говорят все сестры раненым – для поддержки, чтобы человек не раскисал, но Рюмин не раскисал, в такой поддержке по молодости не нуждался, воспринимал все это всерьез, больше того, как панибратство.
– При чем тут вальсы! – сердито возразил он. – Свободны. Можете идти, старшина. Спасибо.
Он крутнул телефон.
– Ухо? Ухо? Я – глаз! Проверка связи…
Ардатов заглянул к нему в блокнот, запоминая установки. Он знал азы артиллерии, разбирался достаточно, чтобы при нужде, по готовым данным, имея блокнот лейтенанта перед глазами, передать команды на батарею. Прицел 60 означал самый дальний рубеж заградогня, прицел 58 приближал разрывы на сотню метров, так как каждое деление прицела равнялось на местности полусотне. По команде «Прицел 54» снаряды должны были рваться всего в каких-то ста с небольшим метрах от траншеи, а чтобы они ударили по ней, надо было всего лишь скомандовать «Прицел 52!». И только. Всего ничего.
– Как там? Как у вас? – спросил он сестру, отвечая ей взглядом: «Они в тылу не знают, что такое война, и очень хорошо, что не знают, иначе их трудно было бы послать сюда, иначе им трудно было бы прийти сюда. А так они, видишь, приходят. И помогают нам, кто уже все это знает и сами узнают, и становятся такими же, как мы, приобщаясь к фронтовому братству, где ты стоишь не столько, сколько у тебя рангов, а столько, сколько в тебе мужества и товарищества. Простим ему это мальчишеское самомнение – он ведь вроде ничего. Пока вроде ничего – держался хорошо и вроде бы и дальше будет так держаться. Видишь, хоть и дует на рану, зато говорит: „Вы мне связь обеспечьте!“»
– Одного потеряли. – Сестра разровняла носком сапога комочки глины у себя под ногами. – Проникающее осколочное в печень. Тяжело отходил… А что в этих условиях можно сделать? Когда понтапона каждый укол на счету? Иглы обжигаем в спирту.
– Что ж, отмучился, – сказал Ардатов о том, кто тяжело отходил из-за проникающего осколочного в печень, думая, а, может, было бы лучше, если бы все люди знали, что такое война, знали так, как они, фронтовики, которые не раз, а миллионы раз проклинали ее и вслух и про себя, потому что война не заслуживает ничего, кроме проклятий. Знай все люди, что такое война, как фронтовики, быть может, войн на земле никогда бы не было. Нет, решил он, человечество странная штука, поколения не принимают эстафету прошлого, а живут каждое своей историей, хотя и выходит из этого прошлого. Как из семечка дерево, для которого прошлое – это земля, это ведь в ней зародилось оно, дерево, но все, что над ней, над землей, смены года, суток, ливней, ураганов – дерево должно испытать само.
«Эк тебя занесло! – остановил он себя. – В абстрактное философствование. „Поколения не принимают эстафету прошлого!“ – передразнил он себя. – Да они рождаются друг из друга! И всегда последующее – умнее предыдущего, потому что и знает, и понимает, и, может, больше. Поэтому-то человек и идет по восходящей. От члена стаи, через рабство, через эксплуатацию одного другим к обществу свободных – равных. К земле людей, к земле равных и свободных людей. А эти фрицы, – он опять поправился: – эти гитлеры и гитлеровцы – хотят остановить человека! Хотят на тысячу лет сделать мир, землю миром, землею господ и рабов. И – „Германия превыше всего!“ „Deutschland, Deutschland über alles!“ Тьфу!»
Разговор о спирте, наверное, натолкнул сестру на дельную мысль.
– Вы хоть что-нибудь ели? Ели, товарищ капитан?
– Что? Ел? – Он вспомнил. – Нет.
– А есть еда-то?
– Есть. Целый мешок. («Надо раздать. – подумал он. – Надо накормить людей»). Поможете? – спросил он.
– Нет, – ответила сестра. – Нечем. Так, с полвещмешка сухарей, да пара банок сгущенки. Спирта вам принести? Грамм триста, наверное, можно выделить. Еще остался. Принести?
– Несите, – сказал Ардатов, он вдруг почувствовал, что и правда хочет есть так, что сосет под ложечкой. – Неси все, что можешь. Сухари тоже еда.
«От шестидесяти до пятидесяти четырех! – повторил про себя Ардатов. Нет, до пятидесяти двух. – поправил он себя, но тут же отогнал эту цифру, сказав себе, – Может, не придется! Может, не, придется!»
– Связь обеспечу! – сказал Ардатов лейтенанту, думая, что, первое, Рюмин будет держаться молодцом, что на такого можно вполне положиться, и, второе, что для того, чтобы ему обеспечить связь, надо будет все время следить, чтобы когда Николичев и Варфоломеев выйдут из строя, у Рюмина были бы под рукой другие люди, кого он мог бы посылать чинить линию.
«Если даже каждый связист продержится по полчаса, – прикидывал Ардатов, беря очень сомнительное число минут, которые может прожить бегущий, ползущий по линии связи красноармеец, когда немец бьет беспощадно и рвет не то что человеческое тело, распластанное в открытой степи, но и попадает осколками в тонкий кабель, – если даже по полчаса, то надо минимум десяток человек. Но все-таки связь – главное. Без нее все пропадем. А вот когда солнышко сядет…»
– Репер один, это танк, так? Где репер два? Репер три? – спросил он, все еще вглядываясь в ровные, твердо написанные цифры в блокноте Рюмина.
Мины немцев ложились у самой траншеи, то чуть недолетая, то чуть перелетая ее, и когда их веер рвался, швыряя свистящие осколки, Ардатов и Рюмин наклоняли головы к блокноту еще ближе. Но в паузу им пришлось высунуться.
– Репер два – почти середина высотки, там, где, видите, она изгибается, где вроде бы заливчик без воды. Крайняя, дальняя от нас точка этого заливчика была точкой пристрелки. Третий – правее двести метров. Видите две воронки, одна возле другой? Да, вроде восьмерки. Левая из них – репер три. А зачем это вам? – спросил Рюмин, закрывая блокнот. – Стреляющий я. Я буду вести огонь. Так положено.
– Будешь, будешь, – успокоил его Ардатов. – Вот это мне не нравится. – Он показал на пролетевший над ними «костыль». – Пошел искать ваши огневые. Догадались, что ты пристреливался. И если он найдет дивизион, он вызовет по рации «Юнкерсы».
– Не найдет! – уверенно возразил Рюмин. – У нас полный комплект масксетей, батареи зарыты и замаскированы. У нас делают все как надо! У нас отличный командир! Капитан Белобородов. Он, знаете…
– Ишь ты? – восхитился Ардатов. – Все как надо? Ну, дай бог. Но раз «костыль» полетел, раз они теперь ищут батареи, сюда они не полезут, пока или не найдут их, или не перестанут искать. Полчаса мы имеем. Может, минут сорок. Передохни. Белобородов, говоришь? Капитан Белобородов? Хорошо. Запомним. Передохни!
– Я не устал, – не согласился Рюмин. Он все смотрел на свои репера. В профиль он казался еще моложе – так, паренек, нацепивший для форсу фуражку да еще затянувший ее под подбородком ремешком. – Вы тут здорово… – Он показал блокнотом на срезанных из пулеметов немцев. – С мотоцикла их как-то не было видно.
– Теперь видно? – спросил Щеголев. – Панорама что надо. Почти как защита Севастополя в ту, турецкую, кажется, войну. Не видели панораму?
– Мы старались. Рады стараться, товарищ лейтенант, – доложил Белоконь. – Знали, что приедут экскурсанты. Мы…







