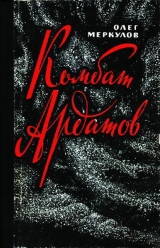
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Ты стрелял из него? – спросил он, не отрываясь от прицела, Чеснокова.
– Нет, товарищ капитан. Только видел, как пэтэеровцы тренировались. – Чесноков стал так, что мог заряжать.
– Жаль. Но ладно, – пробормотал Ардатов. – Ладно. Запомни – ПТР сделано по принципу винтовки. И бить из него надо, как из нее. Все так же! Это очень точное оружие – если хорошо прицелиться, не промажешь…
– Но они, товарищ капитан, они пройдут мимо! – вдруг жарко, быстро и сбивчиво, и одновременно робко, тихо и неуверенно, заговорил Чесноков. – Глядите, они разворачивают левее. Они левее пойдут, левее! Честное слово, левее! А, товарищ капитан? А? Ведь левее же пойдут! А?..
– Ну и что? – оборвал его Ардатов. – Если… если останешься один – бей как из винтовки. Понял? Как из винтовки! Понял? Понял, Чесноков? Понял, Чесноков? В заднюю часть – под верхнюю гусеницу. По мотору, по бакам с горючим! Если в лоб – то гусеницу, иначе не пробьешь. В верхнюю часть гусеницы, по ведущему колесу. Понял? Понял, Чесноков?
– Понял… – выдохнул Чесноков, наверное, замирая от страха. – Понял…
– То-то! – отрезал Ардатов. – Все!
Танки, и верно, построившись углом вперед, все вдруг сделали разворот градусов под тридцать от прямой линии к ним, и курс их проходил метрах в трехстах левее их траншеи.
Припоминая карту, Ардатов мысленно увидел, что танки выйдут именно к той дороге, по которой он вел сюда людей, к тому мостику, где он собрал их, еще дальше по дороге к сгоревшей полуторке, еще дальше, дальше – к сталинградским окраинам, а если, пройдя вглубь через голый стык, повернут на север, то окажутся в тылах того полка, в который он шел и вел свою группу.
«Конечно же, повернут на север! – решил за немцев Ардатов. – Полковые, а может, и дивизионные тылы слишком заманчивая дичь: ворваться туда, втягивая за собой мотопехоту, ворваться и громить штабы, узлы связи, склады, жиденькие резервы – куда как любо! Попробуй удержись, воюя с перевернутым фронтом! Они должны повернуть, чтобы на их северный фланг мы не бросили все, что сумеем собрать», – решил за немцев Ардатов.
– Они пройдут левее! – опять было зашептал Чесноков. – Они же пройдут. Эк их сколько! Зачем же?.. Они левее пройдут!.. Левее, товарищ капитан.
– Цыц! – рявкнул на него Ардатов.
«Мне бы сейчас сюда батарейку семидесятишести, – шально мелькнуло у него в голове. – Толковых наводчиков! Я бы кинжальным поколол эти танки, как орехи! Ведь как идут, как идут, дьяволы! Почти бортами! Бей – не хочу!»
Он ударил не в ближний к нему танк, а в головной – хотя тот и был дальше, но головной вышел бортом почти под прямой угол, и Ардатов, прицелившись в заднюю часть борта, хорошо угодил в мотор, а может, и в бак с горючим, и танк, еще пройдя сколько-то секунд, задымил, задымил, а потом, вспыхнув багровым пламенем, почти весь закрылся черным дымом.
Но Ардатов забылся, Ардатов забыл, что стрелял не из винтовки, а из ПТР, что отдача у ПТР чудовищна, он давно не стрелял из него, не вспомнил, что приклад надо вжать в плечо со всей силой, и ружье так ударило его, что он хотя и устоял, но застонал от боли – казалось, железка приклада разбила ему ключицу.
– Есть! Один есть! Горит, сволочь! – приплясывал от восторга Чесноков, забыв все свои страхи. – Вон, вон, вон – вылезают фрицы! Смотри, как пошпарили! Ах, не достать их из пепеша! Я бы!..
– Заряжай! – рявкнул на него Ардатов, прижимаясь ключицей к прикладу и замирая от боли. – Семнадцать, – считал он оставшиеся патроны.
– Мимо! Мимо, товарищ капитан! – ужаснулся Чесноков. – Мимо! Да мимо же! – закричал он в отчаянии, – когда Ардатов и второй пустил в белый свет, как в копеечку.
«Боюсь! Боюсь!» – понял Ардатов.
Он и правда перед самым выстрелом замирал, ожидал, как при отдаче приклад будто ломом ударит ему по ключице, и в последнее мгновение, когда спуск освобождал ударник, закрывал глаза и – мазал!
Он прижался к прикладу, он втиснул его прямо в центр этой боли, ловя танк в прицел и подводя под танк мушку, – и, открыв оба глаза пошире, нажал не дыша, как ныряя с высоты, на спуск, и попал, и этот танк тоже загорелся.
– Заряжай! «Пятнадцать… Еще много…»
– Готово! Молодцы! Вы молодцы, товарищ капитан. Молодцы, очень даже молодцы, товарищ капитан! – жарко шептал Чесноков. – Теперь того, ближнего…
Ардатов с третьего выстрела поджег и ближнего, и ветер вместе с дымом принес запах горящей солярки, краски, накаленного металла.
«Ага, завоняли! Завоняли, сволочи!» – подумал он, целясь, еще в один танк, но танки вдруг повернули к ним, Ардатов поторопился, выстрелил, чиркнув пулей по борту, но ничего не сделал танку, так как пуля срикошетила, вспыхнув звездочкой возле брони, и Ардатов понял, что теперь для него уже нет шансов зажечь хотя бы еще один танк – они шли лбами к нему, на этих лбах была самая толстая броня, непробиваемая для ПТР.
«По смотровым щелям… По приборам наблюдения… – вспоминал он уязвимые места. – Нет, по гусенице!! Только по ней!»
Он ударил и раз, и два, и три, и четыре, целясь в одну и ту же гусеницу одного и того же танка, различая под конец, как все четче мелькают траки этой гусеницы и хорошо уже видя, как садит по нему из курсового пулемета пулеметчик, и хорошо слыша, как Чесноков, лежа щекой на площадке для ружья, быстро перезаряжая его, бормотал: «Скорей, скорей, скорей, товарищ капитан!» – хорошо слыша, как свистят над ними очереди этого курсовою пулемета, хорошо видя все, хорошо слыша все, ожидая, что вот-вот курсовой пулеметчик все-таки изловчится в качающемся танке и поймает их на прицел и всадит в них очередь, и они с Чесноковым умрут тут, за ружьем, так и не расстреляв все патроны.
Но ему повезло – он сбил все-таки гусеницу у этого танка и сразу же крикнул Чеснокову: «Ложись!» – и они с Чесноковым одновременно упали на дно окопа, а через секунду из танка быстро и зло ударила по ним пушка, и первый снаряд из нее сделал перелет, изорвавшись сзади («Рядом с наводчиком ПТР» – подумал Ардатов, ощущая щекой, губами, носом горячую потную спину Чеснокова), второй взорвался рядом с окопом («Под сошками», – подумал Ардатов), швырнув исковерканное ружье через них, третий снова сзади, но ближе, а пулеметчик) все косил и косил по их окопу, и пули с краев сбивали на них глину, и им ничего не оставалось делать, как только лежать, слыша, как грохоча, приближается другой танк.
«Какие там гранаты! – мелькнуло у Ардатова в голове. – Только высунься – и он в упор!»
Он даже представил себе, как зло припал к прицелу курсовой пулеметчик с подшибленного танка, ожидая, высунутся ли они. Курсовой пулеметчик, конечно же, уже наполовину отжал спуск, чтобы в долю секунды дать по ним очередь.
«Только бы не рванули! – подумал Ардатов о гранатах. – Окоп выдержит, только бы не смяло запалы, а то рванут», – снова подумал он о гранатах, слыша, как грохот все ближе, ближе, ближе, чувствуя, как на них пахнуло отработанным теплым горючим, потом в окопе потемнело, танк, клацая всеми своими железками, развернулся на нем, и Ардатова сжало с боков землей, вдавило в Чеснокова, он почувствовал, как хрустнул весь его скелет, как глуше стал скрежет гусениц, как словно внутри его разорвалась граната, раскидывая его на тысячу частей, и как тысячи же искр мелькнули перед его глазами.
Он что есть силы крикнул мысленно «Лена! Женя!» и упал в тьму.
Когда Ардатов очнулся, первое, что он увидел, быт глаз Нади. Она стояла над ним, сбоку его, на коленях, отодвинув его ноги к стенке траншеи, чтобы поместиться на узком дне, на котором он сейчас лежал.
Так как Надя наклонилась над ним, прядь волос закрывала часть ее лица, и поэтому на Ардатова смотрел лишь один взволнованный мокрый глаз.
Еще до того, как он ощутил вкус очень холодной и свежей воды, он улыбнулся этому взволнованному глазу, и Надя захлопотала над ним, наклоняясь к самому его лицу.
– Пейте, пейте! Пейте больше, Константин Константинович. Воды у нас много, – говорила она радостно, но все же еще удерживая прыгающие губы.
«Откуда? Такая вода – откуда?» – подумал Ардатов, различая уже всех: Кубика, который старался протиснуться между Надиным бедром и его ногами и наступал лапами Ардатову на сапоги – Ардатов через сапоги чувствовал, как упругие лапы Кубика соскальзывают с голенищ; Щеголева, нависшего над головой Нади – лицо Щеголева было озабоченным и грязным от пороховой копоти, деда Старобельского, возвышающегося над Надей и Щеголевым, Белоконя, который тянулся из-за спины Старобельского, чтобы лучше взглянуть и больше увидеть. А над всем этим была полоса неба, которое со дна траншеи казалось особенно чистым, особенно голубым.
– Да отойди же ты, наконец! – рассерженно приказала Надя Кубику, отталкивая его голову. – Как ты мешаешь!
Кубик и вправду мешал ей мочить из фляги платок и оттирать Ардатову лоб, щеки, подбородок.
– Да уйди же! – очень уже сердито крикнула Надя, и Кубик отступил под ноги Щеголеву и, махая хвостом, постучал им Щеголеву по коленям.
– Я же сказала, что живой! Что очнется! – крикнула Надя за спины тех, кто видел Ардатова, тем, кто не видел его, и Ардатов услышал, как Васильев сыграл на гобое первые такты «Славься! Славься во веки веков!»
Странно, гобой как подтолкнул его, он сел, потом привстал и потом встал. Его тело ломило, и по нему бежали мурашки, как по ноге, если ее отсидеть.
Все посторонилпсь, только Кубик, наоборот, все протискивал к нему свою кудлатую голову.
– Где Чесноков? Как Чесноков? – спросил он, не очень уверенно двигая языком. – Спасибо, Надя. Где Шир… где пленный? Жив?
– Я здесь! Здесь, товарищ капитан, – ответил сам Чесноков, и Ардатов увидел его: бледный Чесноков стоял, положив локти на бруствер, а подбородок на локти, как будто разглядывая сожженные танки и убитых пехотинцев и танкистов.
– Дали мы им прикурить, дали ведь, да? Да, товарищ капитан? А этого, проклятого, – Чесноков обернулся и показал на танк за линией траншеи метрах в двадцати в тылу, – его, проклятого, зажег лейтенант Щеголев.
– Чуть не задавил нас, сволочь. А если бы, а? А, товарищ капитан? Вас не рвет? Меня рвет…
– Если бы да кабы, да во рту росли грибы, – поддразнил Чеснокова Белоконь. – Барышня какая – ее, видите ли, тошнит. Может, ты еще монпасеек захочешь?
– Да иди ты! – обиделся Чесноков. – Тебе бы так!..
– Потери? – спросил Ардатов Щеголева, тоже устраиваясь у бруствера и тоже кладя подбородок на локоть, потому что все вдруг перед ним пошло, поехало, поплыло по кругу – влево, влево, влево: сожженные танки, их, считая с тем, что был за траншеей, оказалось шесть (Ардатов отметил, что, значит, три ушло), серые бугры убитых немцев-пехотинцев и более темные бугры убитых немцев-танкистов, темные ямки воронок от мин и снарядов и вообще вся пепельно-серая, хорошо уже освещенная солнцем степь, с чуть шевелящейся под ветерком полынью, ковылем, последними дымками, отходящими от догорающих танков.
– Шестеро убитых. Восемнадцать раненых. Тяжело – три. Один вот-вот… В полость живота. Зря, капитан, ты… – добавил Щеголев почти без паузы, и Ардатов понял, что это «зря ты», этот упрек для Щеголева сейчас был главными словами, что Щеголев хотел их сказать еще с той минуты, когда Ардатов перелез через бруствер и пополз за ПТР. – Можно было послать кого-то, – закончил Щеголев. – Шир… пленный цел. Как стеклышко!
Конечно, Щеголев был прав – Ардатов мог послать за ружьем, а не лезть за ним. Негоже старшему командиру было делать то, что может сделать любой рядовой, негоже было бросать группу, терять управление ею, рисковать оставить людей без себя – командир должен делать лишь то, что заставляет всех вести бой и вообще действовать наилучшим образом.
– Ладно! Ладно, Щеголев, – отмахнулся он, думая, что и он все-таки тоже прав. Негоже все время лишь командовать, иногда надо показать, что кроме того, что ты комбат, ты еще что-то стоишь. К тому же, он как увидел это ружье, так чуть не помешался от радости и полез за ним так спешно, как если бы промедли он, ружье вдруг могло провалиться под землю, растаять в воздухе или улететь на небо.
– Ладно, – повторит он. – Забудем. Главное – пожгли же? И при минимуме потерь.
– Теперь потерь будет больше, – кивнул, соглашаясь, Щеголев. – Пристрелялись, и эти танки для их авиации ориентиры.
– Костыль был?
– Нет. Вот он, – Щеголев показал на точку в небе, приближающуюся к ним. – Жаль, пугнуть нечем.
– Пусть смотрит! – сказал Ардатов. – Белоконь! – крикнул он. – Белоконь!
– Я! – Белоконь подошел. Автомат висел у него на плече по-охотничьему – стволом вниз, а в руке у Белоконя была противогазная сумка, набитая гранатами.
«Где это он раздобыл столько?» – подумал Ардатов.
– На правый фланг траншея идет далеко? – спросил он. – Метров триста? Да? А дальше? Раненые? Что за раненые? Отставшие раненые? Не успели увезти?.. Триста метров, – прикидывал Ардатов. – Маловато, но ничего, но ничего, но ничего… Оружие, боеприпасы у раненых есть?
– У них «Дегтярев» и три магазина. Я просил – не дают, – объяснил Белоконь. – Я хотел проявить инициативу – только за приклад, а она – эта старшина в юбке, в общем, Саня-с-трубкой – «вальтер» мне в бок и давит на крючок, и вот-вот всадит насквозь и глубже. Глаза – полтинники, побелела, как напудрилась, в общем, не в себе – жди, что хочешь и не хочешь, а майорша поддает: «Я приказываю! Не сметь трогать пулемет! В трибунал захотели, сержант?!..» Я им и музыку водил, говорю – вы нам пулеметик, мы вам вальсы по заказу, так сказать, по заявкам радиослушателей…
– Ясно, – остановил его Ардатов. – Пулемет возьмем. Я возьму. Сейчас снять с этого танка и с тех, – он показал на два ближних танка и с фронта, – их пулеметы. Может, им ни черта не сделалось. Посмотри. Возьми своих и кого хочешь. Но – головой ответишь! Чтоб пулеметы были здесь. И все ленты! Снимаются так…
Ардатов вспомнил, где у немецких танков в пулеметном гнезде стопора, как нужно пулеметы расстопорить, и объяснил Белоконю.
– Действуй. Живо!
– Где Тырнов? – спросил он Щеголева. – Цел? Хорошо. Пусть прикажет всем собрать у убитых что можно. Проследи. Тьфу, черт, опять все поплыло! Надя, дай еще водички!
«Костыль», кружась над ними, высматривал, то снижаясь, как бы предлагая пострелять по нему, то поднимаясь снова, то делая совсем маленькие круги, для чего ему приходилось заваливаться на крыло, то, выпрямившись, улетал далеко в тыл и на фланги, высматривая и там, и Ардатов косился на этот «костыль», когда он пролетал над ними.
«Сейчас ротные доложили, что ничего не получилось и сколько они потеряли, – соображал о немцах Ардатов. – Пожалуй, и командир батальона уже доложил – связь у них хорошая. Может, даже и их полковник доложил, да, конечно же, доложил, раз прилетел „костыль“, его вызвал командир дивизии. А может, этот „костыль“ и от авиации. Сейчас он, сволочь, наверное, передает по радио данные командиру бомбардировщиков, а та сволочь наносит эти данные на карту, и, может, даже командиры их „Юнкерсов“ тоже, сволочи, наносят данные на свои карты, и вот-вот они вылетят, а лететь им до нас минуты…»
– Всех ко мне! Всех ко мне! – приказал он.
«Но надо, чтобы „Юнкерсы“ поднялись, чтобы, даже если их наземные наблюдатели и засекут нас, чтобы, пока их сведения дойдут до их авиаштаба, самолеты бы уже вышли на цель. Если поторопиться, они в полете получат с земли поправку, и тогда наш маневр ни к чему», – додумывал он, пока все подтягивались к нему по траншее.
– По моему сигналу, по команде – быстро перебежать как можно дальше правее и там рассредоточиться. И там рассредоточиться! – приказал он. – Щеголев! Проследи, чтобы не сбивались в кучу. Если я не успею, командуй. Но маневр начать только тогда, когда точно увидишь, что самолеты летят на нас. Я к раненым. Надо взять пулемет. И пусть там медики чего-нибудь дадут мне…
Почти в самом конце траншей от нее отходил короткий ход сообщения в неширокую и овальную балочку. В балочке густо росла трава и несколько кустиков. Эта свежая трава и кустики говорили, что подпочвенная вода здесь подходила близко к поверхности, так близко, что трава и кустики росли хорошо и, несмотря на жару, на бездожье, выглядели сильными и свежими.
Когда те, кто занимал здесь оборону, наткнулись на эту балочку, похожую на след от чего-то большого, что как будто бы упало с неба и продавило здесь степь, когда те, кто наткнулся на эту балочку, покопали тут, с метровой глубины в ямку стала сочиться вода – не очень много, но постоянно. Возле этого временного колодца саперы подрыли в балочке откос, и в получившейся неглубокой нише-пещерке развернулся ПМП[6]6
ПМП – пункт медицинской помощи.
[Закрыть], где сейчас, загорюнившись, ожидали бог весть знает чего и ожидали всего раненые – шесть человек, в той числе и женщина – майор медицинской службы. С ними были медсестра и ездовой, который, как оказалось, ехал ночью за ними да не доехал, потому что лошадь была убита шальной пулеметной очередью. Ездовой добрался сюда пешком и приволок на себе хомут, сбрую и уздечку. Сейчас все это бесполезной грудой лежало в стороне.
На этом ПМП и правда был ручной пулемет «Дегтярева» и три магазина к нему: пулемет стоял на площадке, на краю балки перед окопчиком. В окопчике, углубляя его, возился ездовой.
– Вы нас не бросите, не бросите, капитан? – спросила его майорша, согласившись отдать пулемет почти сразу, после того, как Ардатов ей объяснил, что ездовой или медсестра будут только зря жечь патроны, и что его группа все равно прикрывает и раненых, и в интересах этих же раненых, чтобы группа была боеспособной.
– Ваш сержант вел себя так, словно мы уже покойники. Что за манера – брать силой? – пожаловалась на Белоконя майор. – Ходил тут, забирал гранаты. Потом привел зачем-то музыканта. Играли тут «Утро красит нежным светом…» Что за несерьезность? Говорит, что разведчик, а похож на какого-то отпетого типа! – возмущалась майор. – Мы, капитан, не в оперетке!
Майор была полной, смуглой женщиной лет сорока с темной полоской усиков на верхней губе. То ли от боли, то ли от потери крови, то ли от страха за себя и за всех раненых она была бледна, и усики выделялись на губе четко, как подрисованные.
– Нет, – сказал Ардатов. – Не бросим. Обещаю. У нас свои раненые. День только начинается, так что… Так что их прибавится. У вас нет ничего?.. Вы не можете сделать мне укол – болит все и, главное, кружится голова.
Он рассказал, как их с Чесноковым придавило, и майор приказала:
– Идите сюда!
Так как она была ранена в голень и могла только сидеть, она посадила и его рядом с собой и, пощупав пульс, заглянула ему под веки и постучала ребром ладони по пояснице.
– Ничего страшного – все пройдет. Надо только время. Хорошо бы полежать недельку в госпитале, чтобы уж быть уверенным. – Майор, вздохнув, махнула рукой, как бы вспомнив, где она: «Какие глупости говорю», – и, порывшись в никелированном ящичке, ловко наладила шприц, успокоив его:
– Нет, нет, не морфий. Понимаю, вам надо быть на ногах. Я вам сделаю другое – боль снимет, а командовать сможете. Только чуть задеревенеете. Ну-ка, повернитесь! Поднимите гимнастерку. Вот и все!
«Это хорошо, задеревенеть, – подумал Ардатов. – А еще бы лучше закаменеть!»
Он хотел было встать, но майор, сказав, «ну-ка, что тут на шее», наклонилась к нему и прошептала в ухо:
– Не бросайте нас, капитан. Не знаю, как все, а я бы… А меня лучше пристрелите. Не хочу попасть к ним живой.
Ардатов встал и застегнул ремень.
– Спасибо. Мы прикроем вас, товарищи, – сказал он громко. – Но лучше перебраться в траншею. Кто, конечно, хочет. С воздуха ваша балка бросается в глаза, привлекает внимание. С воздуха не видно – раненые или нет, так что… И вообще лучше быть поближе. Кто может – прошу в строй. Людей у нас мало… Тебе надо укол? – спросил он Чеснокова.
– Нет, – отказался Чесноков и отступил подальше. – Ну его. Я уж как-нибудь без него. Уже не тошнит.
– Медики у вас есть? – спросила его сестра, девушка лет двадцати, кряжистая, большегубая и пучеглазая.
– Я могу… – Сестра повернулась к майору. – Правда ведь, Софья Павловна? Правда ведь? Здесь все равно делать нечего. Возьмите меня, товарищ капитан.
– Возьму, – согласился Ардатов. – А ездовой пусть останется. Вместо вас.
– Капитан, это вам! Курите! – Софья Павловна протянула ему начатую коробку папирос. – Берите, берите, у меня еще есть.
– Спасибо. Спокойно!!! – сказал Ардатов Софье Павловне, перекладывая папиросы в портсигар. – Нам только продержаться до ночи…
– Помогите! – Софья Павловна подала руку сестре, и сестра помогла ей встать. – Я провожу капитана.
Обнимая сестру, Софья Павловна на одной ноге, опираясь на вторую лишь чуть-чуть и все равно морщась от боли, отойдя шагов десять, снова спросила:
– Значит, эвакуация невозможна?
– Невозможна.
– Или вы просто не хотите дать нам людей, потому что у вас у самих их мало? Скажите честно, не хотите дать людей?
– Не могу, – признался Ардатов. – Вернее, не хотел бы, даже если бы я мог вас отправить. Но не могу. Все тылы просматриваются. И простреливаются. Предположим, я дам вам людей. На какой сотне метров они сами станут ранеными? Сколько из них будет убито? Вы уверены, что вас донесут живой? Вы уверены?
Софья Павловна промолчала. Молчала и сестра. Они стояли обнявшись, глядя ему в лицо, и Ардатов видел, что в их глазах бьется отчаяние, то отчаяние, которое рождается от обреченности беспомощного.
Когда они в сорок первом, выбираясь из окружения, сначала на Украине, потом под Вязьмой, когда они, скитаясь по немецким тылам, пробиваясь с боями через тылы немцев, должны были оставлять своих тяжелораненных в деревнях, на хуторах, у лесников, он видел это отчаяние в глазах тех, кого они оставляли.
Каждый, кто оставался, понимал, что взять его нельзя – нет сил нести, раненые сковывают тех, кто может вести бой, что обстоятельства таковы, что нет никакой, ну, никакой возможности взять раненых с собой, что будь хоть малейшая возможность, их бы взяли, их бы не оставили, и если оставляют, значит, иного выхода нет. Каждый, кто оставался, понимал это. И все-таки, не укоряя никого ни словом, оставшиеся смотрели на уходивших вот так же – с отчаянием беспомощных. А на что они могли полагаться? На сердоболие тех, кто приютил их, на счастливую звезду, которая позволит им подлечиться и уйти к партизанам еще до того, как их или выдадут предатели из местных, или найдут полицейские, или нагрянут немцы?
Те, кто уходил, отдавали раненым что могли – последние сухари, кусок сахара, индивидуальный пакет, шинель. Но здоровые все-таки уходили, потому что должны были идти, чтобы, пробившись к своим, продолжать войну.
С каждым переходом число уходивших уменьшалось – снова часть их ложилась навсегда в землю, новая часть должна была оставаться у новых сердобольных деревенских жителей в затерянных хуторах, в глухих лесничествах. Но и из тех, кто уходил, никто не знал, что ждет его завтра, никто не знал, что ждет завтра другого, кому повезет, кому не повезет, так что его уже больше ничто на земле не будет касаться.
– Я не хочу попасть к ним в руки живой! – тихо крикнула Софья Павловна. – Вы понимаете? Вы понимаете, капитан?
– Понимаю, – кивнул Ардатов. Что тут было не понимать? – Так вы идете с нами? – спросит он сестру.
– Вот! – выхватила из кобуры свой «ТТ» Софья Павловна. – Семь им, восьмой мне!
– И какой вы подаете пример! – возмутился Чесноков. – А еще старший командир! А еще майор! Да… – Чесноков даже не нашел слов, а только сокрушенно махнул рукой.
Ардатов от слов Софьи Павловны поморщился. В этой обстановке, конечно, у каждого раненого был выбор – можно было выбирать между пулей немцев и своей собственной.
– Главное, не торопитесь, – сухо сказал он. – Это – всегда не поздно. И вы не одни, с вами люди. Или им тоже «восьмой себе»? Надо продержаться до ночи. Спасибо за папиросы. Бери! – приказал он Чеснокову взять пулемет.
«Юнкерсы» стали в круг и, падая из него поочередно, включив сирену, которая должна была нагонять дополнительного страха, клали бомбу за бомбой по тому куску траншеи, против которого стояли их подбитые танки.
«Юнкерсов» было восемнадцать. Они слаженно работали, пикируя из круга и вновь поднимаясь по изогнутой кривой в него, пока шестерка «мессеров», летая над ними значительно выше, охраняла их от наших истребителей. Но наши истребители не показывались.
Ардатов, сидя на корточках в траншее и прижимаясь к ней спиной, чувствовал, как дергается земля, толкая его в позвоночник. Когда «юнкерс» пересекал ту полоску неба, которая просматривалась, Ардатов, как и все, секунды видел его – поблескивающий дюраль, желтые в черных углах кресты, шасси – «юнкерсы» были восемьдесят седьмые, шасси у них не убирались, – застекленные кабины и подвешенные под плоскостями бомбы, которые летчики должны были класть со следующих заходов.
– Может, в свой танк вмажут, – помечтал Щеголев. – Чтобы потом и отремонтировать нельзя было!..
Вся их группа сбилась в дальней правофланговой части траншеи и рассредоточилась в ходах сообщения, насколько эти ходы позволяли рассредоточиться. Обычно при таких маневрах и вообще, когда можно было оставить своих подчиненных без особого ущерба для дела, командиры старались держаться ближе к старшему, чтобы быть под рукой у него и чтобы просто побыть вместе – обтолковать что-то свое, командирское, даже просто вместе перекурить.
Щеголев после того, как растолкал всех по ходам сообщений, вернулся к Ардатову, а Тырнов не пришел. Когда Тырнов пробегал мимо Ардатова, Ардатов мельком взглянул на него, и лицо Тырнова ему не понравилось.
Конечно, у всех в душе был страх – они перебегали, когда «юнкерсы» были так близко, что каждый мог видеть, как ведущий взял курс на танки. Сначала «Юнкерсы» шли чуть стороной и можно было надеяться, что они пролетят мимо, но когда ведущий взял курс на танки и из походного строя самолеты начали строиться в боевой круг, тут уж сомневаться, что бомбить будут их, не следовало, и у каждого – Ардатов мог ручаться – душа начала замирать.
Вся группа пробежала мимо него – он стоял так, что мог их торопить, покрикивая: «Быстрей!», «Быстрей!», «Быстрей!». И видел их всех – Щеголева, Чеснокова, Тягилева, Талича, Васильева, у которого обе руки были заняты винтовкой и футляром с гобоем, Старобельского, Надю, Кубика. Даже Кубик, не понимая человеческой жизни, чуял опасность, она передавалась ему от людей, и Кубик шмыгнул вслед за Надей, спрятав хвост под живот, низко прижав уши и оскалив зубы.
Когда мимо Ардатова пробегал Тырнов, их глаза встретились, и Ардатов заметил, что Тырнов посмотрел на него, как бы не узнавая.
– Без паники! – хрипло и запоздало крикнул ему вдогонку Ардатов. Тырнов вздрогнул, как если бы его ударили по спине, но не обернулся, ничего не ответил, а лишь прибавил ходу.
– Как ты считаешь, скисает он? Скисает Тырнов? – спросил Ардатов Щеголева. – Как он был тогда?
Щеголев понял, что его спрашивают о тех минутах, когда Ардатов стрелял из ПТР, когда его задавило землей и когда задавивший их землей танк прорвался в оборону, увлекая за собой немцев-пехотинцев.
– Я не видел, он был левее, – ответил не сразу Щеголев.
– И не слышал… – почти утвердительно сказал Ардатов. – Только бы они не тронули этот край, – подумал вслух Ардатов, когда бомбы стали ложиться ближе.
– Вот именно, – согласился Щеголев и спросил: – Может, попросим их? А насчет Тырнова – не рано судить? – заметил он, возвращаясь к разговору о Тырнове. – Мне кажется он ничего.
Щеголев выругался: «Ах, ясное море!» – потому что бомба легла так близко, что фонтан земли, который она выбросила, упал на них, колотя по головам, по плечам, по коленям.
– Да, кстати, – сказал вдруг ни к чему Щеголев, – Кубик, когда тебя принесли, от радости лаял. Ты у него – любовь… Слышишь? Это – Надя. Это она! Сходить что ли? Или нет, сходи ты, капитан.
Кричали раненые, их крик был слышен, когда «юнкерсы» смещались левее и вместе с ними смещалась и бомбежка. В паузах между разрывами было слышно, как кто-то проклинал все на свете, причитая на самой высокой ноте: «Ой, умираю! Ой, умираю! Ой, умираю-ю-ю!! Ой, умира-а-а-ю-ю-ю! Санитары! Санитары! Санитары! – звал кто-то то ли к себе, то ли еще к кому-то. – Санитары!!!»
Уловив за этими криками голоса Нади и Старобельского, Ардатов медлил.
– Приглядывай за Ширмером, – приказал он Щеголеву. – Он, если не врет, дорого стоит.
– Ага.
– Я сейчас.
– Ага.
– Не высовывайся.
– Ага. Ты иди. Она просто душу мне рвет.
– Успокойся! Успокойся, Надюша! Я тебя очень прошу! Так нельзя, – уговаривал Надю Старобельский. – Нельзя же так… Я прошу!..
– Мамочка, мамочка, мамочка, мамочка! – причитала, не останавливаясь, Надя. – Я не могу, не могу… Мамочка! Мамочка, мамочка…
А тут еще Кубик, дрожа, то скулил, то рычал, то лаял, сбиваясь на визг.
– Тихо! – приказал ему Ардатов. – Тихо! Ну!
– Я тебя очень прошу, Надежда. Возьми себя в руки. Нельзя же так. Ты же комсомолка! – уговаривал Старобельский.
– Мамочка, мамочка, мамочка, мамочка, мамочка… – с каким-то нечеловеческим страхом и отчаянием все громче повторяла Надя.
Они лежали на дне траншеи, а по обе стороны ее творилось что-то немыслимое. Став в круг над высотой и снизившись так, чтобы не повредить себя взрывами, «юнкерсы» клали и клали бомбы. «Юнкерсы» поочередно, как на каком-то представлении, вываливались из круга в пикирование и, несясь к ним со страшным ревом, от которого дрожь пробирала до ступней, целясь носом самолетов прямо тебе в спину, бросали и бросали бомбы.
Бомбы рвались и далеко и близко от них, и Ардатов с Надей чувствовали своими телами, как дергается от этих взрывов земля. Они лежали уже полузасыпанные, на них все время летели комочки, комки, комья земли, клочья разорванной полыни, и комки били им по спинам и по рукам, которыми они закрывали затылки.
– Мамочка, мамочка, мамочка, мамочка, – уже чуть-чуть не срываясь на крик, повторяла и повторяла Надя. – Когда же это кончится?!
– Перестань! – не выдержал Ардатов. – Ну же!
– Когда же это кончится!..
– Перестань! – прикрикнул более нервно Ардатов. – Спокойно! Кубик! Молчать! Тихо! Ну!
Быстрая, ревущая тень на секунду мелькнула над ними, и сразу же один за другим ударило несколько взрывов.
– Гады! – крикнула вдруг Надя. – Гады! – Она вскочила и, тряся около головы сжатыми кулаками, закричала: – Гады! Гады! Гады!
Ардатов, тоже вскочив, хотел было повалить Надю, но она оттолкнула его с такой силой, что он упал на колено, но все-таки успел схватить ее за ноги и, дернув на себя, свалил и жестоко прижал ее плечи к земле.
– Цыц! – крикнул он ей. – Пшел! – рявкнул он Кубику, который бросился на него.
Сквозь последние разрывы бомб Ардатов вдруг услышал, как начали рваться снаряды. «Артподготовка, потом, на закуску, они ударят из минометов и полезут…»








