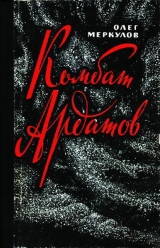
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– Да! А ты что думал? Думал, все кончилось? Совдепия по конец света? Этот, ваш кумачовый рай – навсегда? Комсомолия, большевички! – взорвался вдруг Просвирин.
Он перевел дыхание, набирая воздуху побольше и, казалось, с каждым словом, с каждым толчком легких, с каждым ударом сердца выходила из него, как выбивалась, давно затаенная ненависть, лютая, первобытная злоба ко всему, что так или иначе было связано или даже только соприкасалось с совдепией.
Толчков легких, ударов сердца оставалось мало, Просвирин, чуя это, заторопился:
– Оговорили людей-то, заманили – и землю тебе, и сам хозяин!.. Уважай власть да плати налог… Что ж, народ наш доверчивый, ему, как дитю малому – сладкие слова нужны. Он и пошел-то за Лениным, за вашим Лениным. А потом? – шиш! Землю забрали и всех в колхоз. Чтоб батрачили! На жидовских комиссаров… – Сатанея от злобы, напрягаясь от желания приподняться, Просвирин изогнулся, выпятив окровавленный живот, застонал, закрыл на секунду глаза, но сразу же их распахнул, чтобы договорить, сказать хоть раз то, что таил все эти годы, пока не пришли немцы. – Ан нет! Придет, придет время! И воля будет, и земля…
– Нет, ты глянь на него, капитан, – сказал Щеголев. – Ты видел такого птеродактиля? Это же ископаемое! Советскую власть хотел опрокинуть, а? Все, что сделано за двадцать пять лет, – к чертовой матери, а вместо этого снова помещички да буржуи. Нет, ты, капитан, подумай! Не может он без помещика, ну, прямо не может. Хотел бы да не может. Ну раб, ну смерд!
На лице, на разбитом лице Щеголева было написано и презрение и удивление, как будто он и правда столкнулся с существом времен птеродактилей.
– Бормочет тут что-то насчет земли и воли…
– А зачем тебе воля? Зачем тебе земля? – спросил Васильев, но так как Просвирин не ответил ему, он продолжал свои вопросы. – Жрать – пить самогонку вольно? Выкармливать кабанов? Чтоб под зиму колоть? Самогон да жареная свиная печенка, да толстая баба после этого – большего для тебя нет. Кур щупать? А иногда и сношек? Ты же скот. Был им и остался.
– Ну-ка, ну-ка, пусть еще, пусть еще поговорит! – попросил всех Белоконь. – Пусть, гад! Давай, давай Просвирин, – попросил он его.
Просвирин скорбно сложил губы, заморгал, пустил слезу. Видно, до самой глубинной сердечной боли ему было жалко свой народ, который так жестоко, с его точки зрения, обманули, дав после революции землю, но потом отняв ее, чтобы объединить в колхоз.
Но скорбь Просвирина была короткой. Вдруг он выкрикнул:
– Мало мы вас вешали!
– Ну! Ну! – сказал ему Ардатов. – Тебе больше ни этого времени не видеть, ни вешать не придется! А вешал? – вдруг ни с того ни сего, совершенно неожиданно для себя, спросил он. – Было дело?
Просвирин промолчал, но и по этому молчанию, и по вздоху, в котором было как бы и признание греха, и страх, что вот-вот, всего через минуты его в другом мире призовут к ответу, было ясно, что вешал Просвирин. И стрелял тех, кто защищал «Совдепию». «Гад!» – тоже должен был бы сказать ему Ардатов, но говорить этого не стал. Просвирин обмяк, как бы осыпался внутри себя, совсем посерел, так что его рука уже сливалась с землей.
– Шпокнуть его, а? – Белоконь дернул затвор и повел автомат, так что ствол закачался на уровне лица Просвирина. – Чтоб не вонял напоследок. А, товарищ капитан?.. Тот, Жихарев, готов, мы со старшим лейтенантом уделали его, чего же этот воняет?
– Да он и так… Не надо, – не поддержал Ардатов, слушая, как где-то далеко – в самом углу их позиции, где уже не было красноармейцев, воет Кубик. Кубик выл, скулил, жаловался, как когда-то, когда был щеночком, когда его надолго оставили одного, когда бросали одного в этом страшном, большом, казавшемся ему враждебном мире.
Он пошел к Наде и остановился над убитым Старобельским.
Старобельский, вытянувшись во весь свой рост, лежал на спине, задрав бороду, закрыв глаза, вытянув вдоль туловища руки. Из его рваной сандалии выглядывали испачканные глиной пальцы с желтыми ногтями. Пуля сразу убила Старобельского, попав ему за ухо, крови из раны вытекло мало, лицо Старобельского было без этой крови, и казалось, что Старобельский просто очень устал, лег вздремнуть, а уснул крепко.
У его головы, положив ему на лоб ладонь, стояла на коленях Надя.
Что мог сказать ей сейчас Ардатов? Он считал, что что-то же он должен говорить, он считал, что он не должен просто стоять и молчать, но все слова, которые приходили ему в голову, казались ему никчемными, мелкими, и он удерживал их в себе, а другие не приходили.
А Надя плакала, Надя плакала так, что Ардатов не знал, сможет ли она когда-нибудь перестать.
Невесть откуда и как, словно из воздуха, словно кто-то сделал с ним фокус, рядом с Ардатовым оказался Тягилев. То ли Тягилев подошел бесшумно, то ли Ардатов не услышал его, но Тягилев вдруг так неожиданно возник, что Ардатов вздрогнул.
– Что, плачет? – спросил Тягилев и сам же себе ответил, кивая головой. – Плачет, сердешная. – Сухой, какой-то древней ладонью он погладил Надю по плечу, по щеке, по голове. – Пускай себе плачет. Слеза – она не золотая. Чего ее жалеть? Ее жалеть ни к чему. И душа опростается, и око омоется. Одно к одному, потому как светильник для тела есть око, а коль око чисто, так и телу легко… Поплачь, поплачь, доченька. Что ж ты? Ну-ка. – Он погладил ее по голове. – Поплачь. Поплачь, доченька. Слеза – она не золотая, она брильянтовая…
Тягилев вздохнул и затих.
Надя снизу вверх посмотрела на Тягилева мокрыми, опухшими глазами, поймала его сухую руку, когда он отнял ладонь от ее головы, и виском прижалась к ней.
– Ты… ты проснулся? – не нашелся что спросить Ардатов у Тягилева. – Ты…
– Проснулся. Идти нам надо, а, товарищ капитан? – Тягилев, все не отнимая руки у Нади, поглядел через бруствер вперед и вообще на все вокруг. – Ишь, наложили вы их тут, иродов. Ишь, лежат! Ле-ж-а-а-т! – протянул он одновременно с удивлением и злостью. – Стоят!.. – сказал он о танках тоже с удивлением и злостью, но удивления было больше. – Ведь как катили! Как катили! А вот и стали! Ишь!..
Пришел Щеголев. Он сел на корточки возле Нади, снял пилотку, вытер пилоткой лицо, положил ее на колени и опустил голову. Он не смотрел на Надю, а смотрел на дно окопа, безвольно уронив руки на него. Потом он вздохнул, закурил, все не поворачиваясь к Наде, словно не в силах видеть ее заплаканное лицо, наощупь нашел ее плечо и положил на плечо руку.
А Надя плакала, не утирая и не пряча слез, они текли у нее по грязным щекам, по подбородку, оставляя на них светлые полоски, как-то набок скосив рот, дрожа всем телом, наверное, внутри нее так же дрожало – каждой жилочкой – ее полудетское еще сердце. Она плакала, потому что ей было и жалко деда и еще потому, что она стала сиротой.
«Сиротинкой…», – подумал Ардатов.
– Позаботишься, отец? – спросил, кивнув на Надю, Ардатов. – Позаботься-ка… Она нам помогла, хорошо помогла…
Надя, не отпуская руки Тягилева, вместе с этой рукой закачала головой, как бы отрекаясь от всего, что она делала, от всего этого дня, и Тягилев выпроводил Ардатова.
– Вы идите, идите, товарищ капитан, у вас дел, поди… Или как, нету, нету уже дел? Ноне нету их? А мы уж тут все сами… Управимся. Управимся ведь? А, дочка? – спросил он, как бы для поддержки, Надю. – Похороним дедушку? Да, дочка?
– Тогда – быстро! – приказал Ардатов. – Давай, отец, действуй!
Он боялся, что если немцы снова, в эти последние полчаса светлого времени поднимутся и дружно ударят, то хоронить придется их всех, в том числе и Надю, и Тягилева, и его самого.
«Только вот кто будет этим делом заниматься? – подумал он. – Те несколько пленных, которых все-таки немцы захватят? Пленных из раненых? – Что же касалось самих немцев, так им, Ардатов знал, будет наплевать на их трупы. Немцы завалятся в этой траншее спать до утра. – До атаки на Малую Россошку, – уточнил он себе. – Нет, немцам будет не до их трупов, – еще раз со злою горечью повторил он. – Разве только когда пойдут их тылы, всякие там санитарно-дезинфекционные службы, и начальство этих служб заставит санитаров или могильщиков засыпать всех убитых русских, чтобы они не распространяли заразу, и их – Тягилева, Надю, Щеголева, Рюмина, Чеснокова, всех! – и его тоже! – засыпят в этой траншее, предварительно облив креозотом. И бронебойщиков тоже, – вспомнил он. – И вообще всех, кто лежит сейчас на этом куске земли».
– Быстро! – повторил он, и Тягилев засуетился.
– Быстро так быстро. Это мы враз. Вон она, лопатка-то. Как кто подставил! Бери, бери дедушку за ноги. Вот так. Понесли – тут вот сверток есть, недорытый ход. Там его и уместим. Земелька там сухая! Хорошо ему будет, покойно… Тут уж никто не потревожит.
Ардатов, соображая, что и как дальше делать, слышал, как Тягилев бормотал Наде:
– И не печалься, а уж коль невмочь, так печалься светло. Пришел в мир и ушел. Из праха в прах. Человек он, знаешь, каждый по этой дорожке идет. Главное, чтоб прямыми стези были его. Вот оно что. А дедушка пожил. И повидал ее, жизнь, и себя показал в ней. Так, положили. Теперь пальтишко его давай. Так… Вот сложим пальтишко, да под голову ему, чтоб удобней было. Голову приподними, приподними. Так, дочка. Теперь я руки ему на грудь. Так. Та-а-к. Теперь вон ту палаточку дай, накроем его. Дай, дай. Ничья она, коль валяется. Так, это чтоб земелька на глаза не давила. Ну, кинь горстку-то. Так. Ну, пухом земля ему будет…
Ссыпаемая с бруствера земля застукала, зашуршала по палатке, и Ардатов как бы очнулся, стряхнул наваждение от слов Тягилева.
– Пойдешь один, – сказал Ардатов Белоконю. – Пойдешь один. Смотри, за донесение отвечаешь головой! Понимаешь, чего оно стоит!
– Чеснок убит, – не то возразил, не то просто вспомнил Белоконь. – Чеснок убит. Гады…
– Давай вон с того угла, – Ардатов показал. – Незаметно на бруствер и по-пластунски. В этой твоей бумажке, считай, пять фрицевских дивизий. Понял? Ясно тебе это?
– Чеснок убит! – еще раз сказал Белоконь. Он и не смотрел туда, куда показывал Ардатов, а стоял так, вроде бы слова Ардатова его не касались. – Хороший он был, Чеснок. Я думал, мы потом с ним по корешам. Я бы его устроил в разведроту. Я бы всегда знал, раз сзади Чеснок, значит, спина прикрыта. Гады…
– Ладно. Да… Метров минимум двести, даже триста по-пластунски. Как думаешь? Ты должен пройти!
– Нет, – как решенное ответил Белоконь. – Никуда я не полезу. Не хочу я им зад подставлять. Не полезу. Вместе, капитан. Вместе! У меня предчувствие – вы верите в предчувствие? Так вот, у меня предчувствие – если полезу, не дойду. Не дойду я, капитан! И – пропало донесение.
Белоконь все не поднимал головы, тер носком сапога комочки и шевелил губами:
– Нет Чеснока. Нет его… Я ходил, смотрел. Я его засыпал. У него там не спина, а решето… Вместе, капитан, вместе… У меня предчувствие. Осталось всего чуток-чуток совсем! Вместе, капитан, вместе!..
– Что?! – Ардатов быстро сверху вниз и снизу вверх осмотрел Белоконя. – Ты понимаешь, что говоришь? Я приказываю! Это – приказ!
Щеголев локтем оттер Ардатова, сделал шаг-прыжок, так что его лицо было в каких-то сантиметрах от лица Белоконя.
– Ты – новобранец? – жестко сказал он. – Повторить приказ! – Рука Щеголева привычно коснулась кобуры и большой и указательный палец зажали и дернули застежку.
Через плечо Щеголева Ардатов видел, как сузились глаза Белоконя, как сжался рот, как по щекам, лбу, шее пошли багровые пятна.
– Да ты, старший лей… – начал было Белоконь, но Щеголев крикнул:
– Повторить приказ! За шкуру трясешься!
– А! – тоже крикнул Белоконь, стал на колени, бросил на дно траншеи свой шмайсер, рывком расстегнул ремень, выдернул из-за ремня два чехла по три магазина в каждом к шмайсеру, рывком же расстегнул ремень, сдернул с него обе гранатные сумки, толкнул под сапоги Щеголева один чехол с магазинами и обе сумки с гранатами, запоясался, схватив в одну руку шмайсер, а в другую чехол с магазинами, и выскочил.
– Шкуру?! Шкуру?! – хрипел он. – Эх, старший лейтенант… Это… – Он высморкался, отвернувшись, вытер обшлагом гимнастерки, отвернувшись же, глаза, нос и рот и ткнул стволом в гранатные сумки.
– На память! На вечную память! О Сережке Белоконе! Есть доставить донесение! Есть доставить! Пока! И – пламенный привет!
Опять ударили немецкие минометы, разрывая ломились плотно по обе стороны траншеи, а некоторые мины рвались и в ней и в ходах сообщения, и приказывать сейчас Белоконю пройти в тыл, то есть ползти, было бессмысленно – много ли бы смог проползти Белоконь через эти взрывы? Осколки мин секли полынь, ковыль, и Ардатов, думая «Только бы не перебили провод, только бы не выбили у меня связь», схватил Белоконя за ремень, дернул вниз, потому что Белоконь, лишь нагнувшись чуть ниже краев траншеи, ждал минуту, вот-вот должен был вылезти на бруствер и то ли, рискуя получить пулю, сделать во весь дух рывок от траншеи, то ли, полагаясь на свое солдатское счастье, сразу от нее поползти.
– Сядь! Отставить! Сядь, тебе говорят!
– Я что? Я насчет шкуры… – засопел, уткнувшись лбом в стенку, Белоконь. – Я ведь поляк – мой прадед был поляк, так мне говорила бабка, и чтобы поляк трясся о своей шкуре…
– Помолчи! – оборвал его Ардатов. – У, козел упрямый!.. Ще польска не сгинела?
– Не! Не! – радостно затряс головой Белоконь.
Стало прохладней, откуда-то с севера, где тучи в небо были плотней, принесся ветерок, он обдувал лицо, шевелил полынь и пахнул дождиком. Быстро отмахиваясь крыльями, стремительной, плотной кучкой, пролетела вбок стая ласточек, и то ли что-то сигналя ей с земли, то ли просто так, тенькнула какая-то пичуга и вдруг, стремительно взлетев, чиркнула светлым тельцем по горизонту.
А солнце как заталкивалось за него. Заталкивалось, а не залезало, как будто не хотело опускаться за землю, как будто кто-то его задергивал туда. Оно было огромное, круглое, и от того, что чуть дергалось и все увеличивалось, казалось, что оно летит в Ардатова, летит из немыслимой дали, словно чудовищное ядро, пущенное самим злом, чтобы разнести его и тех, кто остался с ним жив, в клочья.
«Но и в океане, в вечной тьме, куда оно не пробивается, тоже есть зло», – подумал Ардатов.
Прямо на глазах солнце становилось все огромней, теряло накал, багровело, переходя к краям в малиновый цвет и делая малиновым пространство вокруг себя, и, коснувшись земли, вдруг сплюснулось в заметный овал, и Ардатов не мог не сказать себе:
«Ишь, как не хочет! Не упирайся же! Скорей, давай скорей! Нам нужна ночь!»
«Ну вот, – подумал он, все наблюдая, как солнце, все-таки втискиваясь за землю, отсекалось ее чертой по все большему сегменту. – Ну вот, считай, что сегодня продержались. Еще сколько-то минут…»
– Приготовиться к движению! – приказал он. – Всех ко мне!
Пока передавали его слова, он слушал, как их повторяют по цепи, но онс быстро оборвались, цепь была очень короткой.
– Это ваша? – протянул ему его полевую сумку какой-то молоденький красноармеец. За день он видел его несколько раз, но фамилию не знал. Чем-то – худобой ли, тонкой мальчишеской шеей, голосом ли, а может, такой же юношеской застенчивостью, красноармеец напомнил ему Чеснокова. И он, он чуть было не позвал: «Чесноков!», – но вовремя вспомнил. Ему кольнуло в сердце, он откашлялся, чтобы не вздыхать, здесь было не до скорби, скорбеть о всех них должны были потом, здесь надо было опять действовать. За годы войны он потерял не одного такого Чеснокова, и он знал, что будет снова их терять.
Он знал, что они будут приходить и приходить к нему из десятых классов или, недоучившись, из заводских цехов городов, из деревень и деревенек, все они будут дороги ему, эти тонкошеие, честные, отчаянные мальчишки, и он будет все время их терять и терять. Одного там, другого здесь, третьего еще где-то, завтра, послезавтра, через месяц, через год, особенно, когда все они начнут наступать. Ведь, наступая, надо, по «БУПу»[12]12
«БУП» – боевой устав пехоты.
[Закрыть], иметь над обороняющимся тройное превосходство, потому что наступающий несет тройные потери. А наступать ведь надо было далеко – две тысячи верст. И, зная это, он сжал давно свое сердце и не позволял ему скорбеть, даже теряя таких как Чесноков, Рюмин, как старик Старобельский, Талич и всех и всех других. Он подумал, что завтра, даже еще сегодня он может потерять и Белоконя, и Щеголева, и Надю…
Он сунул в сумку блокнот Рюмина и застегнул ее.
– Как фамилия?
– Федоров. Валентин Федоров. Я ее поднял, думал, забудете. Ее совсем затоптали, – объяснял, отступая, Федоров. – Я подумал…
– Пройди, – приказал он ему. – И ты, и ты, – добавил он еще двум красноармейцам. – Пройдите всю траншею. Соберите оружие. Что не унесем, испортить. Быстро!
– Надо распределить раненых, – сказала Софья Павловна. – Тяжелых шесть, безнадежных два. В том число и немец. Они не транспортабельны, но…
– Да, – согласился он. – Унесем. Лишь бы не стонали. Как вы? Дойдете? Главное – первые метров триста, потом можно медленней? До телеги. Если в нее впрячься? Может, лучше, чем нести? Хотя, скрипеть будет на всю степь.
– Не будет. Ее позавчера мазали. Так что… Ах, капитан, капитан! – сказала майорша другим тоном. – Если бы не вы…
– Бросьте! – отмахнулся он. – Если сейчас сунутся, всего взвод…
– Что ж, тут и умрем! – сказала майорша. – Пусть на плащ-палатках навяжут узлы – на каждом углу. Так легче, не скользит рука. Как насчет закурить? Нет? Что ж, попрошу у красноармейцев.
– А я вот не хочу, – возразил ей Ардатов. – Не хочу тут… Как Ширмер? Неужели умрет? Неужели ничего нельзя сделать? Нужно, чтобы он жил!
Софье Павловне была непонятна его заинтересованность в этом раненом немце, она небрежно ответила:
– Он уже почти умер. Сонная артерия, это, знаете ли…
Солнце, срезавшись до диаметра, как будто уже не в силах сопротивляться тому, кто задергивал его за землю, все усекалось, уменьшалось и темнело, темнело, как если бы его невидимая часть попадала в холод и от этого оно все остывало. Сумерки густели, но солнце еще освещало облака, свет от них отбивался вниз, и какое-то короткое время – всего минуты – все цвета в степи виделись четче – полынь желтей, суше, танки зеленей, а маскировочные песочные пятна на них – ядовитей, выброшенная из воронок земля и обожженная взрывами трава черней, а убитые – неподвижней.
С неба капнуло. Ардатов поднял голову к нему, помечтал:
«Хорошо бы дождик, хорошо бы, но вряд ли!»
Те черные облака, с которых падали редкие капли, не могли дать дождя, они казались темными лишь потому, что были ниже, и свет от спрятавшегося солнца проходил над ними, к более верхним слоям, отчего там облака еще на очень голубом небе были похожи на груды тополиного пуха.
– Ты, ты, ты, ты, ты, со мной, – приказал Ардатов, обернувшись к тем, кто уже подошел. Он показал на тех, кто, подойдя, не сел на дно, а стоял. – Белоконь – нет! Федоров со мной. Остальные – к раненым. Майор распределит. Тырнов – проследить, чтоб взяли всех. Ждать команду! Белоконь – к пленному! Отвечаешь за него головой! Быстро, Белоконь! Быстро!
Он спросил глазами Щеголева:
«Ты?»
«Как решишь!» – ответил тоже глазами Щеголев.
«Иди. Иди с ними».
«Ладно уж, остаюсь, – сказал ему глазами Щеголев. – Вместе до конца…»
– Куда? Куда мы? – переспросил кто-то кого-то.
– На кондитерскую фабрику! – ответил ему Белоконь. – Печенье перебирать. Целое к целому, половинки к половинке. Согласен? Или ты против, не любишь печений? Так я похлопочу за тебя перед начальством, мол…
«Ну, еще минут десять! Ну, пятнадцать!» – Ардатов высунулся из траншеи повыше, прикидывая, насколько же видно. Видно было еще далеко, на километр, и оставалось еще ждать, потому что, если бы они вылезли вот сейчас, да с ранеными, немцы добили бы их в два счета. Добили бы, как пить дать.
Он сам, он, Ардатов, будь на месте фрицевского комбата, он бы сейчас все положил, чтобы подготовить ночную атаку.
«Сразу после сумерек? Когда люди расслабятся! Или часа в три, когда все до одного сонные? Я бы ударил сразу. Вот сейчас бы. Пока еще видны ориентиры. Что мы теперь? Ни боеприпасов, ни сил. Санитарная команда!» – решил он.
Он снова посмотрел вверх. Лишь очень на большой высоте остался кусочек ясного неба, а в нем, как два перышка, две розовые полоски циррусовых. Небо ниже их уже смотрелось как море – темная вода, а потерявшие объем облака, как острова в нем.
– Так! – сказал Ардатов. – Еще чуть-чуть! – За дальним танком – за рюминским репером номер один – уже не различалось ничего.
– Щеголев! Всех, кто останется, в цепь! – приказал он. – Тырнов!
Как-то по-другому подошел к нему Тырнов: хотя и хромая, но быстро и в то же время спокойно, и по-щеголевски ничего не сказал.
– Раненых распределили? Хорошо. Первые сто метров – броском. Направление на телегу. Чтобы ни случилось, не останавливаться. Не останавливаться!
– Есть не останавливаться!
– Две-три минуты мы вам обеспечим!
– Ясно.
– За эти две-три минуты – уйти как можно дальше. Ясно?
– Ясно.
Ардатов подал Тырнову руку.
– В час добрый.
– Есть! – Тырнов быстро стиснул его руку, и этим рукопожатием как бы сказал:
«Ты остаешься нас прикрыть. Все ясно. Давай, действуй. И будь спокоен за нас. Мы сделаем эти сто метров броском, а потом чуть-чуть, чтобы передохнуть, пройдем шагом, а потом сделаем еще один бросок, и даже если тебя и всех с тобой перестреляют, мы не остановимся, потому что с нами женщины и раненые, ради которых ты и остаешься сам и оставляешь с собой других, чтобы прикрыть этих женщин и раненых, и я уведу их, потому что в этом и есть смысл. Иначе на кой черт было бы тебе оставаться и оставлять других с собой. Пусть это жестоко, но завтра я должен буду остаться, чтобы прикрыть кого-то, а сегодня, если сегодня – ты, то пусть тебе повезет!»
Что ж, такова для них была жизнь.
– Пока! – сказал Тырнов. – Ждем у телеги. Договорились?
– Взять раненых! – скомандовал Ардатов. Он обнял за плечо Надю. – Спасибо. Счастливо. Кубик прибежит. Позовешь его потом, только тихо – он услышит.
– Они, – Ардатов несколько раз показал большим пальцем через плечо, – они беспощадны к нам. – Надя не услышала его, не могла еще слушать и слышать его, и он должен был повторить эту мысль. – Они беспощадны к нам. Или ты считаешь иначе? Нет? Но если они беспощадны к нам, значит, и мы должны быть беспощадны к ним. Да?
– Да. Но все равно это ужасно.
Ардатов вынул пистолет, нажал защелку, подхватил обойму и посмотрел, сколько в ней патронов. В обойме не хватало больше половины. «Черт, – подумал он, – надо же так! Такая рассеянность кончится когда-нибудь для тебя плохо». Он дозарядил пистолет.
– Это ужасно. Ты права. Но это – война. И ее беспощадность требует быть беспощадным к немцам, друг к другу и к себе самому. Тебе ясно? Нет, думаю, пока нет, – ответил он за Надю. – Но ты поразмысли. О себе, обо мне, о немцах, о маме, Кирилле. О Рюмине… О Просвирине…
– Готовы? – громко спросил он всех. – Кто остается – к бою! Кто уходит – взять раненых. Взяли? Броском – вперед! Быстрей! Быстро! Быстро, товарищи!
Быть может, немцы и заметили, что группа отходит, а может, ее отход совпал с последней их атакой, но немцы, почти уже неразличимые в темноте – они скорей угадывались, чем виделись за вспышками автоматов – но немцы бросились к ним, стреляя, конечно, уже без прицела, так, приблизительно, быть может, какие-то пули в кого-то и попадут.
«Ты все-таки хочешь доложить, что задача дня выполнена? – успел подумать Ардатов о немецком комбате. – Черт с тобой! На, получи!»
Эти последние минуты этого дня и этого дневного боя были выгодней для него и для тех, кто был с ним, потому что снизу, с уровня земли ему и его людям немцы на фоне неба хоть как-то угадывались, и Ардатов, крикнув «Огонь!», припал к пулемету, и, отмеривая недлинные очереди, одновременно мысленно отмеривал то расстояние, которое пробегали отходившие с ранеными все те, кого увел Тырнов. Он стрелял, целясь на ответные автоматные вспышки, радуясь, что после каждой очереди он уже некоторое время не видит – значит, не видели и немцы.
Ему и тем, кто был с ним, удалось задержать немцев еще на три-четыре минуты, но когда он вставил последнюю ленту, он крикнул:
– Отходить! Всем отходить! Быстро! Щеголев – уводи людей! Быстро! – Он слышал, как зашуршала за ним полынь, и плечами почувствовал, что справа и слева в траншее уже никого нет, кроме убитых.
«Завтра фрицы, опасаясь заразы, сгонят сюда женщин и детвору и заставят похоронить всех наших убитых, – завертелось у него в голове. – Что ж, пусть так и будет – пусть будут ходить по степи женщины, старухи, старики, подростки, пусть эти люди будут находить, каждый раз содрогаясь, еще одного убитого и, постояв, скорбя над ним, тихо переговариваясь, похоронят его, и к вечеру, к такому же вечеру, наплакавшись, наплакавшись если не глазами, то душой, сделают то, что надо будет сделать…» – подумал Ардатов, все не решаясь выпрыгнуть из траншеи, но уже подтягивая, приподнимая пулемет. «Еще бы минутку, еще одну!» – уговаривал он себя, прикидывая, сколько еще успеют отбежать Щеголев и остальные.
– Товарищ капитан! Товарищ капитан! Идемте! Идемте же! – позвал его откуда-то сзади кто-то, и Ардатов, забывшись, переспросил, не оборачиваясь, все вглядываясь перед собой, но сняв уже пулемет. – Чесноков? – и тут же поправился! – Кто это? Кто?
– Я, Федоров. Идемте! А? А то… – ответил Федоров. – А то…
– Ардатов! Ардатов! – крикнул ему негромко Щеголев. – Не дури! – Щеголев спрыгнул к нему. – Не дури, капитан! Пошли, пошли! Быстро!
Уже наощупь, так как трубка не различалась, он сорвал ее и негромко крикнул в микрофон:
– Белобородов! Белобородов!
– Я, я, – ответил Белобородов.
– У тебя осталось что? Осталось?
– Есть, есть немного.
– Репер один, прицел пятьдесят два! – скомандовал Ардатов.
– Репер один, прицел пятьдесят два, – подхватил было Белобородов, но тут же сообразил, что Ардатов требует огонь на себя, по себе. – Ты с ума сошел!
– Пятьдесят два! – жестоко повторил Ардатов. Никого нет – один я. Понял? Понял, Белобородов? Хорошо. Считай до пятидесяти. Телефон оставляю. Завтра звони фрицам. И если ответят – накрой. Понял? Понял? Прицел пятьдесят два! Считай до пятидесяти. Нет, до сорока! Огонь! Белобородов – огонь! Спасибо! Пока, друг! Огонь!
Вскинув пулемет к Федорову, Ардатов выпрыгнул из траншеи и, подхватив пулемет, согнувшись пополам, чуть не падая, что есть духу, обгоняя Федорова, обгоняя Щеголева, побежал, стараясь держаться туда, где по его расчету была телега.
Он мысленно видел, как немцы, растекаясь сейчас по траншее, переговариваясь, занимают все ходы сообщения, и знал, что некоторое время у них уйдет, чтобы осмотреть эту захваченную позицию, что после того, как солдат вскочит в траншею, которую так долго атаковали, его не так-то легко будет вытолкать из нее, не так-то будет легко послать дальше вперед.
– Смотрите, ищите! – говорил он себе, задыхаясь и сбавляя бег. – Докладывайте взводным, если они остались, докладывайте ротному, если он остался, докладывайте, что, кроме покойников, никого нет! А завтра… Завтра мы посмотрим… Завтра у меня будет батальон!
– Так! То-то! – крикнул он, останавливаясь и оборачиваясь, когда Белобородов, отсчитав «сорок», плотно накрыл траншею. – А завтра у меня будет батальон! – повторил он и тут же, вспомнив, что завтра почти уже наступило, поправился. – Сегодня у меня будет батальон…
Послесловие
Комбат Ардатов был в Сталинграде тяжело ранен. Он удерживал там со своим батальоном один из цехов тракторного завода.
На этот раз Ардатова отвезли в Ош, и он пролежал в госпитале до февраля сорок третьего. Перед выпиской он вызвал отца, жену и дочь. Они сняли комнату и целую неделю были вместе.
Конечно, как во всяких госпиталях, в которых лежат подолгу, люди ищут если не знакомых, то хотя бы сослуживцев по одной части – батальону, полку, дивизии, и если находят такого сослуживца, то считают его своим товарищем, более близким, чем остальные.
Командиров в госпитале было не так уж много, и когда на смену выписавшимся прибывали новые, их расспрашивали, из каких они частей, где воевали, не встречали ли они таких-то и таких-то.
Из числа самых близких сослуживцев для Ардатова оказался командир из другого полка их дивизии, кареглазый, маленький, поджарый, узколицый лейтенант из запаса Иванецкий. Неожиданно для своей мелкокалиберной внешности он говорил басом.
Иванецкий был ранен в обе ноги – в правую стопу и левую икру, попал во время перебежки под пулеметную очередь.
Когда от их дивизии почти ничего не осталось, всех свели в сводный батальон, и Иванецкий воевал в одной роте с Белоконем и Щеголевым.
– Значит, живы! – воскликнул обрадованно Ардатов, когда Иванецкий ему рассказал об этом. – Ай-да Белоконь! Ай-да молодец! Знаешь, этот Белоконь…
– Тогда был жив, – уточнил Иванецкий.
– Да, конечно, – не мог не согласиться Ардатов. – За этот месяц…
С одной стороны окна госпиталя выходили к горам, и через эти окна Ардатов видел тополя, дома, поднимающиеся по склону, еще дальше – сады, а еще дальше – горы, синие, а к вечеру даже фиолетовые с такими белоснежными вершинами, что на них было больно смотреть (но Ардатов время от времени все равно смотрел на них), и над всем этим выгоревшее за лето небо.
– Так как там Белоконь? Трется, поди, в дивизионной разведке? Много говорит и поэтому быстро запоминается, и его, где бы он ни был, скоро знает каждый?
– Точно, – подтвердил Иванецкий. – Он сразу запоминается. Но он не терся в дивизионной разведке – последний раз я видел его на тракторном. Он сидел под фрезерным станком и спал. Там как раз не было куска стены, и Белоконя грело солнышко. Он спал на этом солнышке, держа под коленом «Шмайссер», а рукой противогазную сумку, полную магазинов. Мы только отбили атаку немцев, и Белоконь спал, как младенец. Он устал больше других, потому что это была третья атака немцев за день, а накануне ночью он ходил к ним в тылы – по канализационной сети, по подвалам. У нас от штаба дивизии до переднего края тогда было метров четыреста. Понимаете?
– Понимаю, – подтвердил Ардатов. – Днем не высунь головы, а ночью в тебя стреляют по звуку. Кто же там был? С Белоконем? Старшего лейтенанта Щеголева не знали?
– Знал. Он убит.
– Это – точно? – переспросил Ардатов. – И в таких делах иногда… путают. Ошибаются.
– Я видел сам. Командиров у нас оставалось считано, а Щеголев тоже из тех, кто запоминается. Щеголев лежал за котельной. Мы ее все-таки удержали тогда, но… – Иванецкому, наверное, даже не хотелось вспоминать, какой ценой они тогда удержали котельную.
– Там была еще грустная девушка, почти девочка, со снайперской винтовкой. Я, помню, подумал: «Ну, берегись, Паулюс!».








