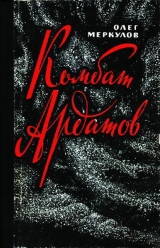
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
И немцы – живые немцы – опомнились. Хотя и не дружно, вразнобой, торопливо, они ударили по Ардатову и его людям, Ардатов отлично видел, – куда уж может быть отличнее! – как вдоль всей цепи немцев вспыхнули винтовки и автоматы, опять услышал зловещее – фить! фить! фить! – пролетавших пуль, набрал еще раз побольше воздуха, и скомандовал:
– Ура-а-а!..
Он тянул это «а-а-а-а-а» насколько хватило дыхания, и снова, как секунды назад, когда он выпрыгнул из траншеи и увидел, что его люди выпрыгнули за ним, сердце его зашлось от радости:
– Урааа-аа-а-а! Рааа-аа-а-а! Аааа-аа-а-а-а! – подхватили его автоматчики, стрелки, телефонисты, сапожники, пекарь, музыкант, артист, старик Старобельский и все-все остальные.
«Золотые!» – шально подумал Ардатов, делая громадные шаги прямо на вспыхивающие в полыни выстрелы, держа шмайссер перед животом, направляя его ствол на эти вспышки, нажимая на спусковой крючок.
– Урааа-аа-а-а!.. – повторил он, когда общее «А-а-а-а!» должно было оборваться, и его люди с готовностью подхватили:
– Рааа-аа-а-а!.. Ааа-аа-а-а-а-а!..
Это были те три-пять-семь-десять критических секунд в атаке – в эти мгновенья, именно в эти, чьи-то души: лежащих и лихорадочно стрелявших немцев, или бегущих с Ардатовым, кричащих отчаянное «А-а-а-а а!», красноармейцев – чьи-то души должны были дрогнуть раньше.
– Бей их! Бей их, братцы! Ураааа-ааа-аа-а-а-а-а!.. – отчаянно крикнул Ардатов, наддав из последних сил, судорожно нажимая на спусковой крючок, достреливая последние патроны. – Рааа-аа-а-а-а!..
– Уаааа-ааа-аа-а-а-а!.. – ответили его люди, и опять на какую-то долю времени, на этом времени, кольнула Ардатова в сердце любовь к ним.
Будь до немцев дальше на каких-то полста метров, и они бы остановили атакующих, успев все-таки часть их перестрелять, но с такой короткой дистанции, сделать этого они не могли: рывок Ардатова и его людей был слишком короток и быстр, а немцы из положения «лежа» должны были неудобно стрелять вверх, но такая стрельба неприцельна, не то, что стрельба из траншеи, где ты стоишь, положив локти на бруствер, прочно держа винтовку или автомат.
И дрогнули немцы.
«Ага!» – злорадно подумал Ардатов, увидев, как сначала один, потом другой, потом сразу несколько немцев вскочили и побежали назад, пригибаясь, даже не отстреливаясь, но тут, шагов с десяти, вскочив с колена, ударил по нему из винтовки худой, большеносый, пучеглазый ефрейтор, и не рванись Ардатов вбок, запоздай отклониться, и эта атака для него была бы последней, но он успел отклониться, и пуля, сбив пилотку, лишь обожгла ему кожу на голове, а вот для этого пучеглазого все на земле было последним.
Судорожно передернув затвор, – Ардатов видел, как вправо, назад от немца, вылетела, блеснув, гильза – пучеглазый вскочил, чтобы выстрелить из положения «стоя», и именно в этом для него была последняя в жизни ошибка – не надо было вскакивать, надо было, не вставая с колена, всадить в Ардатова следующую пулю, но немец вскочил, потерял на это движение секунды, и Ардатов успел стволом шмайссера отбить ствол винтовки, и пуля пучеглазого ушла далеко-далеко вбок, и Ардатов, рванув ствол автомата вниз, а приклад вверх-вперед, так что приклад описал полдуги к голове немца, ударил его в висок. Приклад у шмайссера был из изогнутой, толстой овальной железки, висок немца под ней жалко хрустнул, немец мгновенно закатил глаза и выпустил винтовку, и Ардатов, бросив шмайссер, успел подхватить ее и перезарядить и выстрелить по второму немцу, который уже был в трех шагах, и хорошо угодил ему в живот. Нет, конечно, Ардатов не стал, как пучеглазый, например, целиться в голову – в голову можно промахнуться, нет, Ардатов всадил второму немцу пулю в живот, и этот немец, словно запнулся за проволоку, ткнулся грудью в полынь, и Ардатов сразу же сделал на правой пятке, вздернув винтовку штыком к небу, поворот «кругом!», бросил винтовку штыком вперед и одновременно выставил вперед же левую ногу, так что ее носок был под прямым углом к правому.
Но тот, третий немец, которого он должен был встретить в этой позиции для штыкового боя, тот немец тоже знал все его приемы, а так как немец был молод, ему было года двадцать три, двадцать четыре и, наверное, он был еще и отличный спортсмен, так как под кителем у немца мускулы просто дулись, то этот немец сделал сначала длинный с выпадом, сделал его, как на учении, как в спорт-городке где-нибудь на соревнованиях, и Ардатов, отбив длинный с выпадом от себя вниз, ничего не успел, как только отбить средний, а потом короткий, а потом увернуться от удара приклада сбоку ему в челюсть, а потом отпрыгнуть, чтобы не получить штык в грудь, но чувствуя, что немец полоснул ему все-таки по левой кисти, а потом у Ардатова мелькнула страшная мысль: «Кажется, он меня… Неужели все?!» Но бежать было нельзя, этот спортсмен всадил бы штык в спину или поясницу, и Ардатов только пятился, отпрыгивал, отбивал укол за уколом, не имея три секунды, чтобы выдернуть пистолет – так бы и дал ему немец эти секунды, так бы и дал бы он их ему! – как вдруг на кителе немца, левее второй пуговицы сверху, как вдруг на кителе немца вспыхнула серая дырочка, как вдруг немец, немец-спортсмен, который мог его, как дважды два четыре, заколоть через полминуты, как вдруг этот немец обмяк, как вдруг его сжатый рот раскрылся, хватая воздух, отчего стали видны великолепные – им могла бы позавидовать любая кинозвезда – зубы: ровные, белоснежные, даже чуть, как сахар, синеватые, как вдруг закрылись его голубые глаза, а раскрасневшиеся от штыковых упражнений щеки побледнели, как вдруг упали вниз вместе с винтовкой его руки, и Ардатов, мгновенно сделав длинный с выпадом, всадил этому немцу-спортсмену немецкий же ножевой штык между ребер и не стал даже выдергивать его, зло и радостно подумав: «Нет, не меня не дождутся отец, жена, дочь, тебя не дождутся отец и все остальные! А какого дьявола надо было тебе в этих степях, а? Какого? Так получи!..»
Еще этот немец-спортсмен не упал, еще он только свалился на колени, а Ардатов уже выхватил пистолет и стрелял, пока пистолет не замолк, по ближним к нему другим немцам, потом рванул из кармана гранату, рванул из нее кольцо, швырнул гранату в кучку, которая бежала к нему, сразу же сунул в пистолет новую обойму, крикнул:
– Урааа-аа-а!.. Бей их, гааа-аа-а! доввв-вв-в!.. – и пристрелил какого-то немца-коротышку, который неожиданно вдруг оказался спиной к нему, потому что бежал к Старобельскому, наклонив голову, сбычившись, целясь Старобельскому штыком в бок.
Все это время, стреляя, отбиваясь винтовкой, даже кидая гранату, Ардатов помимо того, что видел перед собой, что непосредственно касалось его, каким-то боковым зрением замечал лихорадочно, запоминал и общую картину их атаки.
Еще в самом начале, за два шага от траншеи, он видел, как кто-то упал, как, не замедлив бега, глянул на него на ходу Васильев, и что у Васильева зачем-то был засунут под ремень гобой – черная, нелепейшая в рукопашной трубка, как бежал, мелькая громадными своими сандалиями Старобельский, хотя Надя и кричала ему: «Дедушка! Дедушка! Не надо! Не надо!»; как Тягилев, вытянув по-куриному голову, быстро-быстро перебирал ногами, стараясь не отстать от других, и лицо у Тягилева было очень сосредоточенное, словно он делал какую-то ответственную работу, причем, Тягилев еще и что-то не то шептал, не то говорил на бегу, может, ругался, а может, молился; как мчался с ним рядом Чесноков, первым подхватывая его «Ура!», и как тяжело, как будто с натугой растягивая резину, которой он был привязан к траншее, топал большими для него сапогами сбоку от Чеснокова пекарь, и как этого пекаря убил немецкий офицер из парабеллума, и как офицера застрелил на ходу Чесноков, и как, чуть приотстав, бежала, прижимая сумку, медсестра, и как она стреляла из «Вальтера», и как упала возле Тырнова, когда Тырнов упал, и как справа и слева от него, от Ардатова, сшибались его люди и немцы, и как, наконец, немцы, сломавшись, стали отбегать, отбегать, отбегать.
Тогда Ардатов, крикнув: «Огонь! Огонь! Бей! Огонь!» – упал на колено возле ближнего к нему убитого немца, схватил его карабин и, дергая из подсумка убитого обоймы, несколько минут не переставая стрелял по отступающим немцам, зло бормоча им: «Подальше! Подальше! Подальше, собаки! Вот тебе разведбат! Вот тебе батальон танков! Собаки…»
Ящерицам было хорошо. Танки вмяли, вдавили полынь, и след от гусеницы для ящериц стал широкой просекой, ее заливало солнце, и ящерицы вылезли на этот след и, вцепившись лапками в веточки, грелись, дремали, лениво согнув хвостики.
Ящериц на этой просеке было много – Ардатов насчитал, пока глаз различал их серые на серой полыни тельца, больше двадцати. Самая ближняя к нему лежала в каких-то сантиметрах от его головы и быстро-быстро дышала, отчего ее шейка билась, пульсировала. Ящерица иногда смигивала, и казалось, что она делает это от удовольствия, от солнца, от тех мошек, которыми она уже наелась, и оттого, что ей, наверное, не надо было думать ни о чем. Новая шкурка на ящерице поблескивала, лапки цепко держались за стволики полыни, а живот и грудь покойно касались земли.
Ардатов вздохнул, пошевелился, и ящерица мгновенно исчезла с просеки, как растворилась в своем травяном лесу.
– Извини! – сказал ящерице Ардатов. – Я не хотел… Не бойся… Извини…
Прошло минут десять, как они отбили атаку, и душа у Ардатова почти перестала дрожать, он несколько раз глубоко, как будто вынырнув из плотной холодной воды, вздохнул, оглядывая и начиная ощущать себя. Саднила голова, он притронулся к ней, но кожу зажгло сильнее, саднила кисть левой руки, он повертел ее, осматривая через запекшуюся кровь, как полоснул его штыком немец-спортсмен: глубокий порез начинался у ногтя большого пальца, рассек мякоть у его основания и захватил кусок предплечья. Морщясь, Ардатов сжал и разжал кулак, пальцы слушались, так как сухожилья не были задеты, и Ардатов приподнял гимнастерку на левом боку. И гимнастерка и майка под ней тоже были располосованы, как и кожа на ребрах, но ребра не ломило, и это означало, что они целы, а мясо, знал Ардатов, зарастет. «Быстрей, чем на собаке», – горько подумал он, поднялся и сел, опираясь спиной на катки.
– Так! – сказал он себе и всем, кто был тут, за танком, то есть Чеснокову, Васильеву, Тягилеву и еще десятку красноармейцев, – Так! Всем, кроме раненых, кроме Чеснокова! Собрать оружие! Боеприпасы! Ползком! Перебежками! Пока фриц не опомнился. Быстро! Выполнять!
Красноармейцы зашевелились, он подождал, пока они начнут перебегать от танка в обе стороны, и приказал Чеснокову:
– К ним! – Он показал на два других танка, за которыми и под которыми тоже сгрудились его люди. – Оружие! Боеприпасы! Оттуда – к Щеголеву и в траншею. Всех, кто остался – сюда. Сам тоже. Пересчитать людей! Выполнять! Быстро!
– Я и так быстро! – возмутился на ходу уже Чесноков, отбегая, согнувшись, от танка. Чеснокову не понравилось это слово «быстро», он и правда не нуждался в понукании, но у Ардатова в голове уже замелькали одна за другой мысли, и это «выполнять, быстро!» было просто отражением их.
Он знал, что на этот раз они поживятся у фрицев скудно – атакуя, немцы сами расходовали боеприпасы, подсумки у них были уже наполовину пусты, пулеметные коробки тоже, не то, что в танках, но все-таки это было хоть что-то, хоть какой-то боекомплектик, и он еще прикинул, что если считать, что он уже потерял половину людей, то на каждого боеспособного могло прийтись по паре, даже, может быть, по тройке гранат. «Хотя, конечно, – досказал он себе, – будет куда как кисло, если немцы в следующую атаку прорвутся на бросок гранаты».
Наверное, Чесноков сказал сестре, что его зацепило – сестра от второго танка бежала, пригнувшись, к нему, но пока она бежала, Ардатов представил себе командира немецкого батальона и злорадно сказал ему: «Дурак ты! Чего же не ввел третью роту?»
Сестра знала свое дело. Еще подбегая, она рассмотрела, что с ним все более-менее в порядке, но упав рядом, толкнув его сумкой, все-таки подбодрила:
– Сейчас я все – сейчас все сделаю! Пустяки, царапины. Нате-ка! – она дала ему попить, а когда он попил, посоветовала: – Перекур, товарищ капитан!
Ему и правда вдруг ужасно захотелось курить, он достал портсигар, тупо посмотрел на дырочку на крышке, открыл его, увидел, что две папиросы перерублены, сдвинул их, из внутренней крышки выковырял осколочек величиной с подсолнечное семечко и закурил.
– Повезло! – сказала сестра, беря у него из пальцев папиросу. – А могло быть…
Она два раза затянулась, отдала папиросу, скомандовала: «Курите, курите», – обмыла ему чем-то вроде перекиси водорода рану на голове, намазала йодом, сказав довольно: «Даже перевязывать не надо – никакого кровотечения!» – занялась боком, который, помыв и помазав, заклеила поверх марлевой подушки пластырем и быстро перевязала, оставляя четыре пальца свободными, руку.
– Хорошая свертываемость у вас, товарищ капитан, – похвалила его сестра. – У другого пустяковое, касательное, а кровит, как артериальный.
Ардатов, пока она перевязывала его, разглядел ее получше. Сестра была ширококостной – видимо, деревенской девушкой. С ее загорелого, курносого лица испуганно-озабоченно смотрели на него и по сторонам светло-голубые, как будто выцветшие глазки без ресниц, а брови и волосы у девушки были соломенные, даже чуть рыжеватые. Сестра все время суетилась, что-то делала, пряча за нужные и ненужные заботы свой страх. И курила-то она от страха, неумело затягиваясь, кашляя, смигивая слезы и отворачиваясь.
– Спасибо, – сказал ей Ардатов, когда она закончила лепить пластыри. – Теперь его, – показал он на Тырнова.
Тырнов бежал к ним, зажимая правой рукой ногу выше колена, наклонившись в эту же сторону, задевая повисшей рукой за полынь, а за ним бежал Щеголев.
– Не снимайте, резать надо! – сестра ловко располосовала ножницами гимнастерку Тырнова от обшлага до ворота и, поднатужившись, разрезала и ворот и развела половинки, и перерезала лямку майки. – Проникающее, – отметила она, обрабатывая плечо Тырнова. – Пулю достанут в санбате. Потерпите минутку и достанут. Перекурите. Дайте, товарищ капитан, ему.
Ардатов зажег новую папиросу и сунул ее Тырнову в рот.
– Белоконь? – вспомнил он. – Как Белоконь?
– Цел, – ответил Щеголев, беря папиросу изо рта Тырнова. – Убит второй номер. В последние минуты. Казалось, все… Но они засекли нас… Я даже не видел, откуда. Мой второй ранен – хороший был парень. Жалко. Умрет. – Он затянулся так, что папироса сгорела до половины. – Дай-ка нам по целой.
– Нда-а-а… – сказал неопределенно Ардатов и дал им портсигар.
– А кого не жалко? Кого не жалко? Всех жалко, – быстро перебила их сестра. – Каждого. – Она закусила губу и продолжала бинтовать Тырнова, и когда обводила бинт вокруг его шеи, чтобы повязка с плеча не сползла, как будто обнимала его, нежно прикасаясь к его груди своей грудью.
– Сейчас они повременят. Сейчас они вряд ли полезут сразу – пока доложат, пока командир полка обдумает, пока перебросит что-то из своего резерва, пока снова сосредоточится, а может, он захочет подтянуть еще артиллерии, пока то да се – сколько-то времени у нас есть, – рассуждал Ардатов, решая за немцев. – Успех у них там, – он показал юго-восточней, откуда слышался далекий гул и куда все время летели немецкие самолеты. – И они, раз наметился успех, бросают все туда, чтобы пробить дыру глубже и раздвинуть ее пошире. Так что может им сейчас особо и не до нас.
– До поры до времени, – согласился Щеголев, наблюдая, как сестра пыталась зашпилить рукав Тырнова булавками. – Да обрежь ты его к черту! Не возись! – посоветовал он, но сестра не согласилась, возразив:
– Зачем же – обрежь? Я ведь его вдоль шва. Зашьют в госпитале. Чего же добро портить?
Она пришпилила рукав, чтобы он не болтался, к боку гимнастерки.
– Вася! Вася-кукурузник! – закричал Белоконь, перебегая к ним. Он кричал так радостно, как будто кукурузник мог их всех вывезти отсюда, как будто кукурузник за этим и летел. – Кукурузник! Ай да ну!
«У-2» (по тому, что обе плоскости у него были одинаковы, Ардатов определил, что это У-2, а не Р-5), подлетал к ним с левого фланга. Летчик то снижал самолет, то задирал его в горку, то опять снижал, причем, все время бросая его из стороны в сторону, и поэтому У-2 как будто плыл по штормовому морю.
Немцы стреляли по самолету, но летчик не набирал большой высоты, и Ардатов, определив, что У-2 пройдет над ними, скомандовал:
– Махать! Махать самолету! Подсумки вверх! Пустые подсумки вверх! Открыть подсумки! Показывать! Кричать: «Патроны, патроны!»
Когда У-2 прошел над ними, они, размахивая открытыми подсумками, тыкая в подсумки пальцами, орали что есть сил «Патроны! Патроны! Патроны!», и Ардатов заметил, что летнаб[8]8
Летнаб – летчик-наблюдатель.
[Закрыть], перегнувшись за борт кабины, кивнул им, как бы говоря: «Понял», «Понял – нет патронов».
У-2, заложив вираж, сделал круг над танками, за которыми они прятались, над убитыми немцами, прошел еще раз вдоль траншеи, и летнаб опять покивал головой и швырнул горсть патронов, как бы подтверждая, что он точно знает их нужду. Эти патроны он, наверное, выдернул из ленты к пулемету, который торчал над ним, как палка, на поблескивающей турели.
Летнаба, когда он был против Ардатова, отделяли какие-то метров двадцать, Ардатов даже различил очки на его лице, парашютные лямки на плечах, как трепещут на ветру ремешки незастегнутого шлема, и Ардатов, крича по инерции «Патроны!», тыкая пальцем в пустой вздернутый над головой подсумок, позавидовал летнабу, который через несколько минут должен был быть у своих: сесть на свой аэродром, подкатить к таким же краснозвездным легким самолетикам, слезть к механикам и мотористам, пойти доложить командиру. Потом летнаб и летчик могли поесть что-то, передохнуть, покурить спокойно, все время находясь среди своих, в своей, человеческой жизни. А он, Ардатов, ничего этого не мог – он должен был стоять тут насмерть, удерживая немцев. Но он подумал, что он со своими людьми загораживает от немцев эту – человеческую! – жизнь, и ему стало чуть-чуть легче.
«Давайте, летите! – мысленно сказал он летчикам. – Счастливо вам, ребята».
– Дальше, голубчик? Что восемьдесят седьмая? Что Казанцев?
Летнаб, заглядывая то в свой планшет, то в блокнот с записями, продолжал:
– Казанцев докладывает, что когда они выдвигались к Дону, оба полка попали под бомбежку. Немцы сделали по ним полторы тысячи самолетовылетов. Но хотя потери в людях были незначительны – личный состав укрывался в балках и оврагах, – восемьдесят седьмая потеряла всю матчасть, весь артполк и очень много лошадей. Основные потери вчера – в результате атак танков и мотопехоты противника. С линии хуторов Бабурыкин – Власовка, – летнаб подождал, пока Нечаев взглядом нашел эту линию на своей карте, – отходят к Питомнику. Совместно с Орджоникидзевским училищем. Петров ранен. Командование принял Чернышев. В семьдесят девятом полку – потери до сорока процентов.
– Та-а-а-к, голубчик, – протянул Нечаев, делая пометки на карте. – Садились?
– Два раза, – признался летнаб. – Степь ведь. Сесть есть где. Что одно визуальное наблюдение, товарищ полковник, – добавил летнаб, как бы оправдываясь за то, что они с пилотом садились и тем самым из двигающейся воздушной цели превращались в неподвижную земную. – Точных цифр, других данных, с воздуха не получишь. А тут – только сели у дороги, и, пожалуйста, сам Чернышев.
– Отчаянные вы головы! – сказал ему на это Нечаев. – Еще что?
– Еще… У Малой Россошки, километр на северо-восток, какая-то группа ведет бой на высоте 77,3. Группа до роты, точней – до полуроты, – поправился летнаб. – Траншея. Перед ней четыре подбитых танка, много убитых немцев. Кто, какая задача – неизвестно. Нуждаются в боеприпасах – показывали пустые подсумки. Надо бы помочь как-то…
Нечаев нашел среди листков копию донесения начальника политотдела 87-й стрелковой дивизии, в котором говорилось, что в районе Малой Россошки 33 красноармейца во главе с младшим лейтенантом Г. Стрелковым и младшим политруком Е. Ефтивеевым остановили атаку 70 танков, 27 сожгли и подбили, уничтожили до 150 человек противника и отошли.
«Нет, это не они, то было вчера, – сообразил Нечаев. – Но такие же. – Он почему-то вспомнил об Ардатове. – Где он? Что с ним?»
Но летнаб, закрыв планшет, перебил его мысли:
– Разрешите быть свободным?
– Да. Этим, у Россошки, надо подбросить патронов. Доложите командиру, что это – приказ. Килограммов двести поднимете?
Летнаб смущенно переступил с ноги на ногу.
– Уже сделано, товарищ генерал. Пока я добирался к вам, пилот слетал. С летнабом с подбитой машины. Мы договорились.
– Спасибо, голубчик. – Нечаев подал летнабу руку. – Свободны.
От двери летнаб пояснил:
– Я не знаю насчет килограммов, сколько будет, но они должны были взять столько ящиков, сколько вместится в кабину.
Созвонившись с командиром полка штурмовиков, рассказав ему об обороняющихся на высоте 77,3, Нечаев не дал ему возразить, зная, что возражений у командира полка могло быть тысячу, и попросил, убеждая:
– Если мы и сегодня удержим Малую и Большую Россошки, мы выиграем там ночь. И без потерь выдвинем к ним все. Если отдадим Россошки, завтра днем придется развернуться восточнее. Сумеет авиация прикрыть завтра это развертывание? – Не дожидаясь ответа, который был явно отрицательный, Нечаев продолжал. – День еще долог. Они сожгли несколько танков, отбивают мотопехоту. Их обязательно надо поддержать. Если ты им поможешь, они, вероятно, удержат этот рубеж.
Вновь опережая командира полка, говоря почти за него, Нечаев закончил:
– Я знаю, что все брошено против их четырнадцатого корпуса. И все-таки подумай. Вот все, что я прошу. Эти, что рвутся к Россошкам, это, видимо, резервы для четырнадцатого, он нацелен на центр города, а из Россошки к Сталинграду не одна, а даже две дороги.
На той стороне провода не сразу, не вдруг, ответил командир полка штурмовиков: «Подумаю. Обещаю – подумаю», – но Нечаев большего просить не мог – 14-й танковый корпус немцев в районе Вертячего прорвался и вышел к Волге на линии Лотошинка – Рынок, разрезав оборону надвое. Минуту помедлив, чтобы сделать глоток остывшего кофе, закурить новую папиросу, Нечаев подумал, что поляки и французы были в Москве, а Россия выстояла. Выстояла же… Но он представил себе, как черпают котелками и флягами солдаты 14-го немецкого корпуса воду из Волги, как их фотографируют и снимают для кино, как эти солдаты улыбаются, как такие фотографии и кинокадры в спешном, экстренном порядке отправляются в Германию, где пропагандистская машина вовсю спекулирует ими, как грохочут аплодисменты в кинозалах немецких городов, когда, например, на экране показывают, что толстый повар заливает кухню волжской водой, и Нечаеву стало очень больно: в кухнях гитлеровцев волжская вода! Но эта боль и как бы подтолкнула его мозг – он перестал переживать, снова, в который раз думая, что все равно у немцев ничего не получится, ничего уже не получается, так как Роммель завяз под Эль-Аламейном, Лист на Кавказских перевалах, а Паулюс пробился к Сталинграду только за счет сил Кавказского направления, отчего там немцам главную задачу этого года выполнить будет невозможно.
Совсем не к месту, не ко времени Нечаеву представился Гитлер, тот несимпатичный внешне, манерный человек, которого до войны он видел в кадрах кинохроники, и Нечаев наполнился к нему презрением, как к какому-то гадкому, мерзкому выскочке, силою обстоятельств ставшему во главе страны, народа и дьявольски хитро использующему для своих целей всю эту страну, этот оболваненный им народ.
– Не получится! – твердо пробормотал себе под нос Нечаев. – Только малограмотный, упрямо-тупой человек мог, так принижая противника и так переоценивая свои силы, мог замыслить этот охват гигантского куска земли – Роммель через Египет и Суэц, Лист через Кавказ – Иран, чтобы сомкнуться где-то на Среднем Востоке, переводя войну в масштабы глобальной.
Как штабисту, сведущему и в оперативном искусстве, и в стратегии, Нечаеву было понятно, что дал бы немцам этот, удайся он, стратегический охват: отрезались коммуникации через Иран, по которым поступало в СССР снабжение союзников, закрыв Суэц, немцы бы перерезали кратчайший морской путь в Индию, заставив корабли огибать Африку, а нефть Малой Азии – значит бензин, масла, – топливо войны – не просто исключались бы из потенциала антигитлеровской коалиции, но и включались бы в потенциал Германии. Ради этих целей и задумал Гитлер все три одновременных удара – Роммеля в Египте, Листа на Кавказе, Клейста на Сталинград, с тем, чтобы со временем бросить вермахт из Малой Азии дальше на Восток, к Индии, а с Волги на Север – к Москве.
Можно было поражаться маниакальности Гитлера. Пожимать плечами, понимая, что все эти планы о мировом господстве все-таки бред сумасшедшего – нельзя силой оружия удерживать захваченное бесконечно, но пока все-таки немцам из вермахта и немцам из СС удавалось, выполняя волю Гитлера, продвигаться и в Африке, и на Кавказе, и здесь, к Волге. Они шли, сея смерть, оставляя после себя рвы с расстрелянными, пепелища, взамен которых устраивали аккуратные кладбища для своих убитых. Но чем дальше они уходили от Германии, тем слабее был их напор, и рано или поздно их должны были остановить.
– И отмерить той же мерой, что мерили они, – пробормотал вслух Нечаев. – И к злодеям причислить. На века. Пока жив род человеческий…
Он потребовал от телефониста разыскать начарта 35-й дивизии и, когда его соединили с ним, изложив вкратце о группе у Малой Россошки, приказал:
– …Выдвините к ним, насколько возможно ближе, энергичного командира с тем, чтобы он управлял огнем в непосредственной близости от них. Сделать это надо немедленно. Отсечный огонь силою не менее артдивизиона по пехоте. На рубеже балка Мельничная – балка Западновская. За высотой 137,2 по дороге Котлубань – Малая Россошка подвижная группа противника силою до мехполка. Доложите комдиву. О принятых мерах по организации отсечного огня доложить не позднее чем через час. У меня все…
Казалось, солнце на чем-то висит, так медленно оно опускалось к горизонту, все так же немилосердно обжигая давно пересохшую степь, и в этой иссохшей степи ничто не двигалось, ничто не шелохнулось. Полынь и желтый сухой ковыль покрывали степь как толстый слой уже умерших растений, просто как полметра пепла, под которым умерла вся жизнь.
А где-то рядом – за каких-то три десятка километров – текла Волга, до нее был всего один дневной переход, всего один дневной переход до песчаного бережка, поросшего ивняком, в котором вовсю пели пичуги и летали стрекозы, до теплой, нежной воды, расплескавшейся на километр вширь и на сотни километров вверх и вниз, через всю Россию.
Ардатов представил, как хорошо было бы ходить босиком по этому песку, сидеть и лежать на нем, как чудно было бы входить все дальше и дальше в реку, чтобы она охватывала тебя сначала до колен, потом до пояса, потом по грудь, по подбородок и как отлично было бы, оттолкнувшись ногами от дна, поплыть, поплыть, поплыть, ощущая воду каждой клеточкой своего тела, а потом где-то на средине перевернуться на спину, так, чтобы уши были в воде, и, ничего не слыша, кроме глухого журчания, покачиваясь на легкой волне, лежать и смотреть в небо – в его бездоннейшую синеву, в которой идут чередой белоснежные, округлые горы кучевых облаков.
«Какая гадость эта война, – подумал он. – Гаже гадости не бывает!»
– Нам бы только дотянуть до ночи, – сказал Ардатов Наде. Надя сидела на ступеньке окопа, спустив ноги в траншею. Правая щека, переносица и правая половина лба у нее были закопчены пороховой гарью, а глаза смотрели устало и безразлично. – Нам бы до ночи, продержаться до ночи.
Ардатов сел на корточки рядом с Надей и покосился на ее руки – они, как будто поддерживая друг друга, лежали на ее коленях, были в глине, а правая еще и в пороховом нагаре.
Ардатов осторожно погладил эти руки – тонкие пальцы и запястья. Надя не отдернула их, Ардатов только почувствовал, что руки Нади настороженно замерли у него под ладонью, и он нежно пожал их.
– И что тогда? – спросила почти неслышно, как выдохнула Надя.
Ардатов подумал, а как ей ответить, что изменится, когда придет ночь, он и сам не знал, что изменится, ведь могло же ничего не измениться! И он сам был не очень уверен, что они доживут до этой ночи. Но ему надо было говорить Наде хоть что-то утешительное, не мог же он просто ничего не говорить!
– Ночью могут подойти наши. Или мы отойдем к ним. – Он сказал это тихо, чтобы слышала только Надя. – Что ты думаешь, там, – он махнул в сторону тыла, – нет частей? Там, знаешь, их сколько? Там, знаешь, сколько наших? Прилетал же самолет… Главное – мы их остановили. Вот что главное…
Самолет и правда прилетал. Тот самый У-2, Ардатов узнал его по большой треугольной перкалевой заплате на левой плоскости и по несколько разноразмерным круглым на правой.
Самолет прошел над их траншеей, и летнаб, как подарки, ронял им, перегибаясь из кабины, патронные ящики. Хотя самолет шел низко и летнаб старался уронить ящик так, чтобы он ударился углом, ящики все-таки разбивались и, отпрыгивая, вываливали из себя блестящие цинковые коробки. Но патронам ничего не делалось, они годились, и Ардатов, радостно суетясь, стараясь заметить, где упали все ящики, бормотал: «Вот молодец! Вот спасибо! Вот молодцы!..»
– Живем, братцы! Живем! – суетился и Белоконь. Он с помощью малой саперной лопатки вскрывал цинки и раздавал патроны. – Живем, братцы!
– Зажили! – передразнил Белоконя Просвирин, уже отойдя от него со своей долей. – Зажили! Собаку нажили. А то сами лаяли!
– Что? – мрачно протянул Белоконь. – Что ты сказал, дешевка? – Он в один прыжок оказался рядом с Просвириным и, схватив его за ворот гимнастерки, тряхнул так, что у Просвирина заболталась, словно наполовину оторванная, голова. – Как дам между рог – глаза выскочат!
Белоконь занес кулачище и если бы действительно дал в то место, где у человека могли бы расти рога, то и правда, у Просвирина глаза бы выпрыгнули.
Лицо Просвирина посерело, он хрипел, беспомощно хлопая глазами. Но Жихарев легким, вроде бы даже небрежным рывком дернул Белоконя за плечо, и Белоконь, отлетев, упал на ящик.
В их положении эти патроны значили очень много, возможно, все: последний шанс отбиться, продержаться до ночи. И в слове Белоконя «живем», употребляемом обычно по мелочам, сейчас был заложен прямой, главный его смысл – жить.
Белоконь, как разведчик, сотни раз ставил себя под смерть, и в нем постоянно и сильно, как ни в ком из них всех, жило светлое чувство солдатского товарищества. Рывок поисковой группы через ничью землю, скитания по ближним тылам фрицев – ночью ли, на раннем рассвете, в сумерках ли или страшно рискованно днем – день, два, три, пяток таких дней – делали всех в группе почти братьями. И тон Просвирина, смысл издевки как будто ударили Белоконя в лицо и в сердце.








