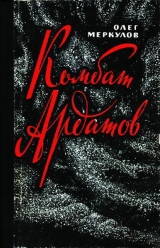
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Олег Борисович Меркулов
Комбат Ардатов
[Повесть]
От автора
В истории Великой Отечественной войны есть подвиги, которые навечно прославили стойкость, мужество нашего человека, его готовность к самопожертвованию ради защиты нашей Родины. И его солдатское умение.
Чем дальше отодвигает нас время от суровых дней войны, тем больше мы узнаем имена тех, кто, не щадя себя, воевал не только отважно, но и умно, талантливо.
Немыслимым, на первый взгляд, подвигом, повторившим подвиг панфиловцев, был бой воинов 1379 полка 87 стрелковой дивизии в конце августа 1942 года на дальних подступах к Сталинграду. Там, у Малой Россошки, небольшая группа красноармейцев, сержантов и командиров, оторванная от частой Красной Армии, обороняла рубеж, на котором ее застал рассвет.
Гитлеровцы жестоко бомбили район обороны, обстреливали из орудий и минометов, но ни уничтожить защитников этого кусочка советской земли, ни сломить их волю к сопротивлению не могли.
Несмотря на потери, группа отбила атаки батальона, который поддерживали в общей сложности 70 танков, истребила 150 захватчиков, сожгла и вывела из строя 27 танков. Когда наступила ночь, 33 мужественных воина отошли для соединения со своим полком.
Конечно, определяющим фактором победы в этом бою были отвага и стойкость. Но война это ведь и «ратный труд», и, как всякая работа, она требует профессиональных знаний, опыта, умения.
Те, кто удерживал Малую Россошку, были вооружены лишь гранатами, бутылками с горючей жидкостью и единственным противотанковым ружьем. Но они сумели задержать наступление немцев, многократно превосходящих их числом и техникой.
Этот подвиг свидетельствует, что стойкость, в основе которой лежит верность своей земле плюс умение воевать, – и есть сила непобедимая.
Героизм и мастерство 33-х сталинградцев послужили импульсом для создания книги «Комбат Ардатов». Однако ее герои не списаны с конкретных участников тех боев – вряд ли можно было бы сейчас сделать это в меру правдиво: прошло 34 года. Но совпадает и фабула событий, потому что повесть имеет особенности, отличные от документальной публикации.
Но сущностью «Комбата Ардатова» является то главное, что было главным для 33-х защитников дальнего рубежа Сталинграда, – мужество нашего солдата и офицера, их умение защищать Родину.
– Минутку, голубчик! Минутку! Мы, кажется, однополчане. Я не ошибаюсь? Конечно же, не ошибаюсь. Ну-те-с! Дайте мне вашу руку. Так, рад! Очень, очень рад видеть вас. Вы – Ардатов. В сорок первом – командир роты второго батальона двести семьдесят шестого полка. Не так ли?
– Так! Так, Варсонофий Михайлович! – подтвердил радостно Ардатов, до хруста пожимая руку полковника Нечаева. – Я тоже очень рад вас видеть. Тогда, под Уманью, когда мы…
– Ладно, голубчик, – вздохнул Нечаев. – Пойдемте-ка ко мне. Пойдемте, пойдемте. Коридор не место для таких разговоров… Умань! Сенча! – продолжал Нечаев, увлекая Ардатова за собой. – Это, знаете ли, уже история. Грустная, но история…
Полковник Нечаев, начальник оперативного отдела штаба армии, в которую Ардатов прибыл из командирского резерва, его бывший однополчанин по службе в Житомире и с начала войны до окружения под Уманью, полковник Нечаев встретил его в школьном коридоре – штаб армии размещался в школе на заречной окраине города, – узнал, улыбнулся, сверкнув золотыми коронками, пожал коротко и сильно руку и привел в спортзал, где под шведскими стенками, под канатами, кольцами, турниками, за столами и партами, сдвинутыми по три, четыре вместе, над картами и бумагами сидели командиры оперативного отдела – операторы.
Ардатов тоже сразу узнал Нечаева: прошел хоть и тяжкий, но только год, и Нечаев, как и все, не очень-то изменился, он лишь побледнел да погрузнел, сидя над картами и схемами по суткам, лишь гуще были нафабрены, чтобы скрыть седину, его короткие и широкие – английские, модные до войны среди старших командиров, – усы, лишь увеличились под запавшими глазами мешочки. Но пробор в его приглаженных, не поредевших ничуть темно-соломенных волосах был безукоризненно точен, и от пробора пахло «шипром».
Поблескивая стеклышками пенсне, Нечаев некоторое время рассматривал Ардатова, потом притронулся к ордену «Красного Знамени».
– «Звезда» – за шепетовские бои. Помню, сам писал представление. А этот?
– За Москву.
Нечаев отступил на шаг, заложил руки за спину, наклонил голову набок, все продолжая его разглядывать.
– Славно. Славно, голубчик. Простите, не помню вашего имени, отчества.
Ардатов назвался.
Хотя и до войны между ними была служебная разница – Нечаев был тогда начштаба дивизии, хотя и в эту встречу их разделяли три чина, Нечаев говорил с ним, как с равным; это было приятно, разговор получался человеческий.
Сокрушаясь, что приказ о назначении Ардатова подписан и что поэтому Ардатов должен спешить, Нечаев расспрашивал, о ком он из общих знакомых слышал, в свою очередь рассказывая, о ком знал сам.
Эта часть разговора была трудной. Они говорили о тех, кто был убит, кто пропал без вести, кого искалечило. Живых, воюющих на разных фронтах, они вдвоем не назвали и дюжину: еще до Умани их дивизия потеряла две трети командиров, а из окружения вышли вообще немногие.
– Да, голубчик… – пускал дым от толстой папиросы Нечаев, щурясь вроде бы от него. – Видите, как все сложилось. Мы рассчитывали совсем на другую войну – победную, скоротечную, малокровную, но… Вы-то сами как выходили?
– Где? Под Вязьмой?
– Вы и под Вязьмой были?
– Был. Там оказалось и легче и трудней. Трудней – потому что они отрезали нас глубже, легче – потому что леса; леса спасали от авиации и кормили. Две недели мы шли на ягодах и грибах.
– А под Уманью?
Ардатов коротко рассказал.
– Помню, – покивал Нечаев.
Нечаев по памяти нарисовал на листке кусок Днепра, прижатые к нему армии: Умань, Первомайск, Новоархангельск и несколько деревень.
– Здесь? На колхоз «Светлый путь»? Еще северней? Значит, вы были во второй отвлекающей группе. Мы выходили так, – он начертил изогнутую стрелку к Новоархангельску. – Первую группу немцы приняли, как и надо полагать, за отвлекающую, вашу за основную, а мы тем временем ударили южнее…
Их главный разговор произошел позднее, вечером. Они поужинали в штабной столовой, потом Нечаев отвел его в комнату, где спали штабисты.
Здесь от аккумуляторов горела тусклая лампочка, было тихо, так как одеяла, закрывающие окна, глушили звуки, и казалось, что они находятся не на окраине Сталинграда, к которому подходят немцы, а где-то далеко от войны, черт знает где, на какой-то зимовке, что ли.
Из шести кроватей две оказались запятыми. На них, несмотря на ранний еще вечер, спали, причем, один командир, сложив аккуратнейшим образом обмундирование, спал под простынью, а другой спал, только сняв сапоги, неудобно – наискось – упав на кровать.
– Располагайтесь, – гостеприимно показал на кровать рядом, со своей Нечаев. – У нас всегда есть места, всегда кто-то в частях, так что вы можете как Малюгин, – Нечаев кивнул на того, кто спал под простынью, – воспользоваться случаем. Командующий дал ему на отдых четыре часа. Он и в баню успел, и в парикмахерскую, и сейчас, как на курорте в Евпатории. Что ж, после блиндажа… Он командир восемьдесят седьмого, и от полка у него процентов тридцать. Фу ты…
Нечаев тяжело опустился на кровать.
– Хорошо! И хорошо, что у меня сегодня палестина времени – до полуночи. И потолкуем и поспим…
Нечаев расстегнул ворот, стал снимать гимнастерку и пробубнил под ней:
– Должен признаться, вы, голубчик, мне не очень нравитесь. Слишком мрачны.
– С чего веселиться, Варсонофий Михайлович? – сказал Ардатов, расстилая постель. – Не вижу причин. Они – на Волге. Или вот-вот будут на Волге. Не до веселья.
– Что ж, голубчик, вы правы, они вот-вот будут на Волге, – согласился Нечаев, переобуваясь в танки. – Причин для веселья нет. Но все-таки! Все-таки тонус должен быть выше. А вы мрачны как… гробовщик. И так же торжественны. Это не годится. Извольте быть оптимистичней.
Нечаев улыбнулся ему светло и искренне:
– Я очень, очень рад видеть вас…
Вошел, тихо ступая, вестовой и сразу же за ним вошел мотоциклист. Мотоциклист остался у двери, а вестовой, наклонившись, стал будить того командира, который спал одетым.
– Туварищ капитан, а, туварищ капитан, – говорил он, произнося «у» вместо «о». – Пура вам. Пура!
Капитан открыл один глаз и уставился им на мотоциклиста.
– Заправились?
– Заправились.
– Поели?
– Поели.
Капитан вздохнул и закрыл глаз.
– Жиклер?
– Сменил.
– Ага, – сказал не слишком довольно капитан и посмотрел в полевую сумку, проверяя, там ли пакет.
– Держитесь все время на Гумрак, – предупредил капитана Нечаев. – Три километра западнее – развилка дорог. Не просмотрите. Коричеву скажите, что бригада на марше, это первое, и, второе, пусть бережет боекомплект. До следующей ночи ничего подбросить не сможем, так что все, чем он располагает, – на сутки.
Капитан, подхватив автомат, ушел, на ходу застегивая ремень.
– Они опять сделали такой рывок! За июнь-август прошли полтысячи верст. Подумать только! – вернулся к прежнему разговору Ардатов, когда они уже лежали.
Он приподнялся на локоть, чтобы из-за тумбочки можно было видеть лицо Нечаева.
– Не укладывается в голове, Варсонофий Михайлович. Как все это получается? Объясните. У меня голова кругом идет.
Еще в госпитале, следя за тем, как немцы захватывают его землю, слушая по радио сводки Информбюро и читая их в газетах, обтолковывая эти сообщения с товарищами по палате, Ардатов чувствовал, как с каждым днем все больше каменеет его сердце. Но ни он, ни его товарищи не могли объяснить, почему же немцы идут и идут и никак их не остановят! Сводки же, давая только факты, не раскрывали их причин, и Ардатов был рад, что встретился с Нечаевым и мог поговорить с ним, тем более, что у них установился доверительный тон. Нечаев ежедневно работал с генералами, его командарм работал с командующим фронтом, эти люди знали во много раз больше Ардатова, и многое от них, конечно же, знал Нечаев.
– И это лето трагедия! – вырвалось у Ардатова.
– Спокойней, – остановил его Нечаев. – Спокойней, Константин Константинович!
Без пенсне – Нечаев протирал его уголком простыни – его крупное лицо было более открытым, стеклышки не загораживали глаза, и лицо Нечаева было сразу и сумрачным, и в то же время озаренным твердой надеждой. Сумрачность шла от широкого лба, пересеченного, как разделенного на две части, морщиной над переносицей, от сжатого рта, от углов которого к низу подбородка тоже падали морщины, а надежда светилась в усталых голубых глазах.
– Для нас – да, трагедия. Но для них… – Нечаев поправил пенсне получше. – Но для них, для немцев – катастрофа!
– Вот как! – Ардатов забыл, что надо говорить вполголоса, и сказал это громко, но тут же повторил тише, наклоняясь еще больше с кровати. – Вот как! Катастрофа? Варсонофий Михайлович, объясните. Я понимаю, вам надо отдыхать, в двадцать четыре ваше дежурство, но все-таки объясните. Для меня это очень важно. Катастрофа! Вы… вы уверены в этом?
Само это слово – ка-та-стро-фа! – и тон, каким оно было сказано – спокойно-беспощадный тон, – захлестнули Ардатова неразумным, каким-то шальным восторгом: он ни от кого не слышал такого жесткого, неотвратимого, какого-то математически неизбежного приговора, возмездия немцам.
– Сколько вам лет? – неожиданно спросил Нечаев, не очень одобрительно глядя на него и сказав несколько раз «Гм. Гм. Гм».
– Тридцать три.
– Может, это и оправдание, – покачал головой Нечаев, как бы уверяя себя. – Хотя… хотя Иисусу было тоже тридцать три, и Цезарю. И Остапу Бендеру. – Об Остапе он сказал с усмешкой. – Но ведь тоже ум. Так… – Он приоткрыл тумбочку. – Все это – односторонние знания и, главное, голубчик, вы заучивали только чужие готовые выводы, но не учились думать.
– Я попал в училище сразу после первого курса.
Ардатова не обидели, не затронули слова насчет односторонних знаний и прочего: Нечаев сказал их неоскорбительно, но все-таки Ардатов ощутил какое-то чувство вины, как если бы он, Ардатов, был виноват в том, что мало думал, но, может быть, так оно и было вообще-то.
– После училища, после года взводным, перед тем, как дать роту, в тридцать девятом, трехмесячные курсы – вот и все.
– Не много, – согласился Нечаев, доставая из тумбочки школьный атлас. – Кем вы хотели быть? На каком факультете учились?
– Географом. Отец географ, школьный учитель. Я тоже хотел учить ребят географии. И, наверное, истории.
Нечаев листал атлас, подбирая карту.
– Откуда вы?
– Алма-Ата.
– По-старому – Верный. Благословенные края! – Нечаев улыбнулся. – Тишина, покой, неторопливая жизнь, а на базарах верблюды и безобразные, но трогательные ослы.
Ардатов улыбнулся.
– Да, их там много. Вы бывали в Алма-Ате?
– Нет. Был один раз во Фрунзе. Пишпек. Не долго. И давно… Мне показалось там, что именно о таком городке пел Вертинский: «В пыльный маленький город, где вы жили ребенком, из Парижа весною пришел туалет…»
Нечаев замолчал, задумался, и мысли у него были, наверное, светлые, потому что Ардатов видел, как светится, отражая эти мысли, все его лицо. Потом он, все с той же светлой улыбкой, спросил:
– Вы, наверное, очень хорошо жили до войны. Вообще, все там, в Алма-Ате, наверное, жили хорошо? А?
Ардатов, затрудняясь со скорым ответом, было пожал плечами, соображая, что же ответить – хорошо ли он жил или жил плохо до армии, и если хорошо, то отчего, и если плохо, то почему, но, видимо, Нечаев и не ждал, что он скажет, потому что уже сам решил:
– Хорошо. Хорошо жили, – и пояснил: – Там, в этих благословенных, тихих краях нельзя жить плохо. Покой, неторопливость, человек живет тем, что есть, и не бьется в жизни в погоне за какими-то иллюзиями.
Он вздохнул, но сразу же извинительно улыбнулся.
– Я, пожалуй, начинаю уставать. Где-то здесь, – он показал всеми пальцами рук, прижав их к середине груди. – Иначе как же объяснить эту печаль по покою? А? А, батенька мой? Не согласны? Потому что не хотите перечить начальству? Оно ведь, знаете, любит, чтоб подчиненные только сладкие слова говорили…
«Да нет, – подумал Ардатов, – я жил хорошо. Чего же еще не хорошо? У меня было все – свобода, кров, еда и… и моя жизнь, которой я был волен распоряжаться по своему разумению…»
– Зачем же сладкие слова, Варсонофий Михайлович! – возразил он. – Они ни к чему… Но я и правда жил хорошо. И если бы не армия, если бы не война…
– Ничего! – перебил его Нечаев. – Человек когда-то будет жить и без войн и без армий. Будет же? А? Или вы в это не верите? Не верите в человека?
Нечаев спрашивал серьезно, пристально вглядываясь через пенсне в глаза Ардатова.
– А ведь это главный вопрос – вопрос вопросов. Чего же в человеке больше – светлого разума или звериного эгоизма?
– Не знаю, – смутился Ардатов. – Я как-то над этим не думал. Не могу ответить.
Нечаев тяжело и сокрушенно вздохнул, первый раз за всю их встречу, потер виски, пригладил ладонью пробор, рассеянно посмотрел на потолок, как-будто хотел там что-то прочесть, на одеяла, на окна, на спящего полковника Малюгина.
– Я тоже не могу. И хотелось бы… По теории… По, так сказать, науке. Однако повседневность иногда выбивает из-под ног все. Но, повторяю, может быть, мы с вами устали, отсюда и недостаток оптимизма.
– Да, сложно все это! – протянул Ардатов. – Сложно, голова кругом идет! И хотел бы понять, но…
Нечаев подождал, но так как Ардатов не закончил эту фразу, Нечаев мягко посоветовал:
– Чтобы что-то понять, голубчик, надо думать. Без этого – без желания думать – ничего не поймешь. Не уразумеешь. Легко только верить.
Он показал на атлас:
– Тут подобрал. Не удержался. Штабист! – Нечаев полистал атлас. – Разве штабист пройдет мимо карт? Или географ. Из дома пишут?
– Пишут. Хорошо, что мы успели вывезти семьи.
Ардатов помнил, что говорили тогда, в июне прошлого года – не позаботься Нечаев, кто знает, что было бы с женами и ребятишками командиров их полка. Мало ли погибло под бомбежкой командирских семей?
– А ваши?
– Жена… Жена пишет. – Нечаев прикоснулся, как бы поправляя его, к узкому обручальному колечку. – Из Казани. Сын убит. Под Ржевом. Я справлялся. Запрашивал часть – похоронен в районе деревни Сухие Борки…
Нечаев прилег, так что его голова спряталась за тумбочку, и оттуда закончил.
– Храбрый был мальчик – стрелял своей батареей в упор, сжег несколько танков. Погиб под гусеницами. Нелегко это, голубчик, иметь взрослых детей: они вне контроля.
Нечаев помолчал, откашлялся за тумбочкой.
– Так писал мой отец в последнем письме обо мне же: извечный закон, извечный инстинкт родителя к птенцам… От него, от него и от матери долго ничего нет. Знаете, Ленинград… В блокаду какая почта… Но будем надеяться…
Ардатов тоже тихо прилег, тихо дышал, мигая в полумраке, молчал, не зная, что сказать, не зная даже, нужно ли что-то говорить, потому что не было таких слов, которые могли хоть как-то помочь Нечаеву, могли уменьшить хоть на каплю его боль за стариков, которые бог весть как бедствовали в голодном блокадном Ленинграде, уменьшить хоть на каплю его горе за храброго мальчика, который бил танки с сотни метров и жег их, но или не успел сжечь тот, который ворвался на его батарею, или у этого мальчика кончились снаряды и танк раздавил его, раздавил беспощадной стальной гусеницей.
– Будем, Варсонофий Михайлович. Будем надеяться… – скупо сказал он.
– Так вот!..
Нечаев пристроил на тумбочке фонарик, так, чтобы он светил на лист атласа «Украинская ССР», захватывающий и юго-запад РСФСР, и погладил лист:
– Итак – начнем. Кто стучится, тому отворят. Надо только стучаться. Вы, голубчик, постучались. Итак – Курск. Вот Таганрог. Вот… – тронул карандашом карту Нечаев, но вошел тот же вестовой.
Вестовой посмотрел на бумажку, на часы, которые стояли, прижимая край одеяла, на подоконнике, и подошел к полковнику.
– Пура. Туварищ пулкувник, пура.
Малюгин вздрогнул, проснулся, скомандовал:
– Пятнадцать минут тебе – вскипятить чай, заварить покрепче. Водопровод работает? Нет? Добудь ведро воды умыться. Все! – и мгновенно уснул.
– Если бы вы появились раньше, можно было бы отдать вас ему, – сказал Нечаев, кивнув на Малюгина. – Вы бы, полагаю, сработались. Продолжим.
Он повел карандаш от Курска на юг, сделал возле Лозовой дугу на запад так, что дуга охватывала Изюм, Барвенково, Балаклею, повернул у Славянска снова на юг и провел черту до Таганрога.
– События развивались так. Начнем почти ab ovo[1]1
Ab ovo (лат.) – букв.: от яйца, т. е. с самого начала.
[Закрыть].
Малюгин, набирая темп, перестав отдувать губы, глубоко засопел. Он лежал на спине, скрестив большие, поднимавшиеся и опускавшиеся на груди руки. Когда он захрапел, Нечаев поморщился, и Ардатов, дотянувшись до кровати полковника, дернул за простыню. Это не помогло, тогда Ардатов встал и переложил полковника на бок.
– А? Бу! Трикута!.. – пробормотал невразумительно Малюгин.
– Итак, этой весной, после зимней кампании, когда подсохло, стал вопрос: «Что дальше? Как вести войну дальше?» – начал академично спокойно Нечаев. – «Как и где?» Вопрос был аналогичный и для нас и для немцев. При всех наших поражениях, в прошлом году мы устояли: молниеносная война типа французской кампании вермахту не удалась, хотя пропагандистский аппарат Гитлера трубил на весь мир о победах под Белостоком, Минском, Лохвицей, Смоленском, Вязьмой… Что ж, победы у них были – не будь их, разве немцы подошли бы к Москве?
Ардатов, выпустив дым, не сдержался и вздохнул.
Нечаев приподнял бровь:
– Не надо так горько! Сейчас мы не имеем права на это, как… как вы не имеете права учить ребят географии.
Проведя линию на другой карте от Баренцова моря до Таганрога, прикинув по масштабу длину этой линии, Нечаев продолжал:
– К весне и они и мы имели фронт: по прямой – больше двух тысяч километров, с кривыми, видимо, к трем. Естественно, ни мы, ни они не могли наступать на всех направлениях, хотя, отметьте себе, войну немцы начали всеми тремя группами – «Север», «Центр», «Юг» – и практически наступали ими до зимы. Этой же весной ни мы, ни они не могли наступать…
Подчеркнув «они», Нечаев медлил, давая возможность Ардатову понять разницу сорок первого и сорок второго.
– Ни мы, ни они! – повторил Ардатов. – Понял, понял, Варсонофий Михайлович! – сказал он возбужденно. – Вы видите в этом равенство. Вы его видите?
– Да! Именно – равенство. Равенство весной сорок второго как доказательство того, что немцы проиграли войну. Если мы ее не проиграли, а это могло быть только в сорок первом, значит – по большому счету – проиграли ее они.
Нечаев наклонился к Ардатову, так что лицо Нечаева теперь было совсем рядом – серьезное, хмурое, даже жестокое лицо – выражение жестокости появлялось, видимо, от холодных глаз, насупленных белесых бровей, плотно сжатого рта, вздернутого, раздвоенного ямочкой подбородка.
Крепко держа Ардатова за плечо, сжимая это плечо при каждом слове, как бы помогая воспринять значение этого каждого слова, Нечаев повторял и повторял:
– Раз мы не проиграли войну в сорок первом, а мы ее не проиграли, мы даже отшвырнули немцев от Москвы! – раз мы не проиграли войну в сорок первом, значит, мы ее вообще не проиграли! Это – ясно? Ясно?
Ардатов, вдруг озаренный всей глубиной смысла слов, которые как бы вбивал в него Нечаев, кпвал, кивал, повторяя:
– Да, да. Ясно! Понятно. Не проиграли… Отшвырнули. Нет, конечно же, в сорок первом не проиграли! Как же проиграли! Ничего подобного! Наоборот… То есть, не наоборот, а устояли. Удержались… Костьми, но удержали немцев и у Москвы, и у Ленинграда, так что… Хоть и миллионы легли в землю, хоть и миллионы – в земле…
Сжав сильнее его плечо, Нечаев, наклонившись еще ближе к нему, так что пенсне Нечаева было в каких-то сантиметрах, и за пенсне блестели прищуренные, словно разглядывающие что-то далекое, глаза – одновременно холодные, видимо, холодность эта относилась к немцам, в то же время и радостные – радость, наверное, рождалась от того, что эти глаза видели далеко-далеко; сжав сильнее плечо Ардатова, Нечаев закончил:
– Но если войну один из противников не проигрывает, значит проигрывает другой! Беспроигрышных войн не бывает. И если мы не проиграли войны, значит ее проиграют – проиграли, раз не выиграли – немцы!
Что немцы проиграют войну, Ардатов никогда не сомневался. Для него это было ясно с самого ее начала, – да разве можно победить навсегда Россию! – но победы немцев в сорок первом и теперешний рывок их к Волге не позволяли ему даже приблизительно увидеть день, когда можно будет сказать, так как сказал сейчас Нечаев. И он упрямо заметил:
– Логично. Я не могу не верить вам. Я хочу верить вам! Но… Но они все-таки выходят к Волге…
Нечаев приподнял карандаш, как бы запрещая возвращаться к этой теме.
– Весной, этой весной, мы, чтобы захватить стратегическую инициативу, ударили от Белгорода и Волчанска с севера и от Лозовой и Балаклеи с юга с явной задачей – это видно по направлению ударов, – используя выгодную конфигурацию фронта, – эту дугу, – Нечаев обвел дугу, в которой были Изюм, Балаклея, Барвенково, – ударили с задачей выйти к Харькову и, отрезав немецкие части восточнее его, уничтожить их, освободить Харьков и…
– Наткнулись на кулак! – сердито закончил за него полковник Малюгин. Он сел, сонно поглядывая на дверь. – Они сами готовились к выходу на Дон, к повороту на Кавказ, собрали за Харьковом для этого мощную группировку, а мы на нее наткнулись!
– Да, – подтвердил Нечаев. – Именно поэтому сейчас и успех у них. Мы ждали, что весной они будут наступать на Москву, стянули к ней резервы, а немцы ударили на юг.
– Потеснили нас под Харьковом, а потом разорвали фронт от Курска до Таганрога и пошли, и пошли! Где же он провалился? – спросил о вестовом Малюгин.
Как будто только это и надо было спросить, как будто вестовой ждал этих слов: он открыл дверь, неся кипяток и заварку.
– Вудичка течеть, – сообщил он.
– Веди, – приказал Малюгин.
– Он прав, – кивнул Нечаев на китель полковника.
Он полистал атлас, остановился на карте «Нижний Дон и Северный Кавказ» и повел карандаш от Курска через Воронеж к Сталинграду, от него на юг к Элисте, от Элисты к Моздоку и, заворачивая на запад, к Пятигорску, Майкопу, до Керчи. На зеленой с желтыми пятнами возвышенности и голубыми жилками рек карте синий карандаш Нечаева начертил какую-то некрасивую кисту, которая от Курска вверху и Таганрога внизу выдувалась к Волге и Кавказу.
– Конечно, их операция – не местный успех, не тактическая удача, – констатировал Нечаев, разглядывая эту кисту. – С конца июня по сегодняшний день они прошли, – он приложил линейку, – на восток, если считать от Изюма, шестьсот километров, и на юг, – он опять смерил, – тоже полтысячи. Это масштабы из области стратегии, и, казалось бы, у немцев вновь победы. Но при внимательном рассмотрении – победы эти меркнут, ибо они – не решающие для всей войны.
Комната задрожала, они прислушались. По улице, приближаясь к школе, лязгая, грохоча, урча моторами, скрежеща всеми своими металлическими суставами, шли танки. Ардатов мысленно увидел, как они идут: пыльные, горячие, пахнущие соляркой, покачивая пушками, держась в темноте друг от друга так, чтобы механики-водители через открытые люки различали замаскированные стоп-сигналы.
– Вот и славно! – сказал Нечаев, слушая танки. – Семьдесят вторая. На полчаса раньше, значит, у нее полчаса лишнего ночного времени, это лишние десять верст.
– Вам, – сказал он Малюгину, кивнув на окно, когда Малюгин вернулся. – Полнокровная единица без БТ и Т-26, одни средние. Потрудитесь беречь ее.
– Да уж знаем, – буркнул Малюгин, усаживаясь к чаю и вожделенно нюхая заварку. – Теряешь каждую машину как свою руку, и сколько штук ты их потерял, столько раз тебе эту руку отрезали.
Потирая сердце, морщась, он достал из кармана кителя какую-то таблетку, кинул ее в рот и запил голой заваркой.
– А! – наслаждался, прихлебывая чай, дуя на него, Малюгин. – А! А! Ух ты! Хорошо! Хорошо!
– Казалось бы, захвачен громадный кусок густонаселенной территории, а это значит, что у нас отняты не только кубанский хлеб, промышленность Ростова, Ворошиловограда, Воронежа, поставлены под угрозу кавказская нефть, коммуникации Приволжья, но и что вычтены из нашего людского баланса новые два-три десятка миллионов людей. Если считать десять процентов, двадцать пять – тридцать дивизий, три миллиона резерва…
Дверь быстро и неожиданно открылась, и в комнату вошел низкий, широкоплечий старший лейтенант. Отдав честь, он на ходу доложил Малюгину:
– Встретил. Вывел на магистраль. Дальше с ними Ткачук. Машина и бронетранспортер здесь.
– Садись. Пей. – Малюгин подвинул ему стакан. – Как Архипов? Бутылки едут?
– Едут. – Старший лейтенант налил себе. – Едут, но не четыре, а три тысячи. Архипов разгружает баржу.
Малюгин подошел к кровати Нечаева, присел, держа стакан за самый верх, меняя руки, чтобы не обжечься, и заглянул в карту.
– Просвещаете? – Он вгляделся в линии, которые провел Нечаев. – А что, получился форменный «уйди-уйди». – Он повел ногтем по кисте. – Чем больше надуваешь, тем тоньше. Бросил сюда все, что мог собрать, вытянул только здесь фронт на две тысячи километров и думает удержаться! Барбизонец!
– Причем тут барбизонцы, Николай Николаевич? Но оскорбляйте художников, – возразил, усмехаясь, Нечаев. – Барбизонцы были отличными людьми.
Малюгин небрежно махнул рукой.
– Так как вы там дальше мыслите? Как дальше?
– Наступая между Донцом и Доном и далее между Волгой и Доном, они имели задачу разгромить, истребить наши армии, но выполнили ее лишь частично.
– Котлов не было, котлов не было. Разве что котелочки? – подтвердил Малюгин. – Он нас вытеснял, но не окружил!
Сейчас Ардатов и видел на лице Нечаева, и слышал в его голосе презрение.
– Николай Николаевич совершенно прав. Это очень точное сравнение – «уйди-уйди». К Волге они выходят, от этого не отвернешься. Однако – выходят с чем? В некоторых частях у них половина состава, а в Германии резервы людей не беспредельны. Можно построить новые заводы, боеприпасы, чтобы выпускать их бессчетно, но кто-то же должен стрелять этими боеприпасами. А если же забрать под ружье всех, кто будет делать эти патроны и остальное? Есть предел, до которого можно увеличивать армию, то есть увеличивать ее боеспособность, но если этот предел перейден, тыл не может ее обеспечить, а это, значит, она теряет боеспособность. Тут заколдованный круг.
Сидя на кровати Нечаева, раскачиваясь под его слова, сжимая и разжимая свободную руку на цанге, Малюгин, прихлебывая из стакана, шевелил пальцами босых ног.
– И еще в Африку полез! Идиот какой-то! – бормотал он. – Вообразил из себя Наполеона. Тьфу!
– Вот именно, – подхватил Нечаев, – Гитлер вообразил, что вермахту все посильно, что вермахт, армия как его инструмент, может выполнить любые задачи политики, что невыполнимых задач для вермахта нет. Если представить себе Берлин, как трубку «уйди-уйди», то Гитлер, то есть в его лице политическое руководство Германии, раздул «уйди-уйди» до чудовищных размеров. Посчитаем-ка.
Он полистал тот же атлас и на разных картах вымерил и подсчитал:
– От севера Норвегии до Эль-Аламейна в Африке – четыре с половиной тысячи километров, от Ла-Манша до Волги – три с половиной тысячи. Разве мыслимо удержать такой пузырь? В Африке Роммель остановлен, так что правый фланг войны Гитлера – выход через Египет к нефти Ближнего Востока – застрял в песках, и англичане теснят его, а левый фланг – удар на Ближний Восток через Кавказ – завяз перед горами. Что же касается нас, Сталинградского направления, так немцы снимают со второстепенных участков свои части и заменяют их румынами, итальянцами, венграми, только бы усилить головные армии, наступающие к Сталинграду. Но, предположим, мы их остановим у Волги? Что дальше? Где немцам брать новые дивизии? Откуда сдергивать их, чтобы послать сюда? Собрано, видимо, все, что у них было в резервах, не могут же они до ноля ослаблять западный театр, ту же Францию! Хоть что то, но там надо оставить. Ведь не может командир батальона, ради усиления одной роты, взять из двух других девяносто процентов состава. Чем тогда удерживать позиции этих рот?
– Если взять столько – это гибель всего батальона, – согласился Ардатов.
– Итак, они выходят к Волге дивизиями далеко не полного состава. Сколько нибудь крупных стратегических резервов в Германии нет – все задействовано на разных театрах. На нашем фронте фланги 6-й армии прикрывают румыны, итальянцы, венгры, – продолжал Нечаев, – а над этими его союзниками нависает вся наша страна, а тут еще лето на исходе, а коммуникации растянуты, и в Африке они застряли – туда тоже, как в бездонную бочку, сколько ни бросай, не пополнишь! Мы свою промышленность почти раскачали, вот-вот раскачаются американцы, десантироваться в Англию немцы не могут, что же Гитлеру остается?







