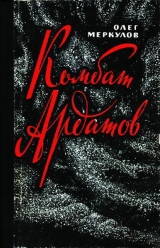
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
– Тоталитарный ражим! Руководят страной несколько человек – Гитлер, Геринг, Борман, Гиммлер, Шахт, Риббентроп, еще каких-то несколько – кучка. Во главе целой нации кучка…
– Да? – перебил его Щеголев. – Кучка? А как же эта самая, национал социалистическая рабочая партия? Она что, не руководит? Не ведет немецкий народ за собой? Все вперед и вперед к национал-социализму?
Ширмер рассерженно отмахнулся.
– Какая там рабочая! Только название…
– Да? А что в ней, одни капиталисты? Несколько миллионов капиталистов?
Иронию Ширмер понял, но сдержался. В его положении он должен был сдерживаться.
– Масса, число партии – не капиталисты. Но рабочие только так… Они не делают политику. Не решают ничего ни внутри, ни иностранные вопросы. Все решает эта кучка. А немецкий народ ей не нужен. Нужна слава, богатство, всякие лозунги. Но конец придет…
К ним подбежал Чесноков.
– Товарищ капитан! Товарищ капитан! Гляньте. – Он показал туда, откуда они ушли – там возле Белоконя были какие-то штатские. – Еще гости!
– Вижу. На место, – приказал ему Ардатов. «Этого еще не хватало!» – с досадой подумал он.
Что штатские попадают в оборону, было делом обычным – Ардатов сто раз сталкивался с ними во время отступления. Люди, уходя от немцев, должны были проходить через боевое расположение войск, и от этих штатских – женщин, детворы, стариков – следовало, пропуская их в тыл, лишь побыстрее избавляться. Усталых, растрепанных, часто голодных женщин, стариков, детвору и живыми-то было видеть тяжело, а убитыми вообще невыносимо.
– Как это вы пустили такую кучку к власти? – спросил Щеголев Ширмера в спину, когда Чесноков убежал и они пошли. – И ты слишком хорошо помнишь русский язык. Прошло двадцать лет, а говоришь так… Очень хорошо говоришь. Как по писаному.
На первый вопрос его Ширмер не ответил, а второй явно смял:
– До тридцать третьего была возможность практиковаться. В Германии работало много русских инженеров. На заводах. И после… было… было… – Он не договорил. Наверное, подумал Ардатов, не имел права и на это.
Они вошли в траншею, Ардатов, не доходя до своею места, остановился, думая, где оставить этого Ширмера, и Ширмер, а за ним и Щеголев тоже остановились.
– Практиковаться с пленными? – все ни к чему любопытствовал Щеголев.
– Нет. Мало. – Ширмер покачал головой. – Но они теперь работают в цехах. Токари, фрезеровщики, другие специалисты. Привозят из лагеря. Но нельзя. Запрещается. И – конспирация. Ширмер не родился в России! Ширмер родился в Баварии, – пояснил он. – Моя настоящая фамилия другая…
«Пусть будет на глазах! – решил Ардатов. – Раз, черт, заявляет такое, надо, чтоб уцелел. Надо, чтобы его сведения попали командованию. Хорошо бы его отправить прямо к Нечаеву! Именно так! К Нечаеву! Нечаев распорядится, что к чему!»
Они пошли дальше.
Ардатов все-таки поверил Ширмеру, почти твердо поверил и не потому, что сухощавое усталое лицо Ширмера внушило ему эту веру, не потому, что Ширмер говорил так, что в его словах звучали искренность, не потому, что Ширмер не юлил, а серьезно смотрел им в глаза, давно внутренне подготовившись, что ему не сразу будут верить. Все эти детали, конечно, складываясь, весили немало, но немало значило и другое.
Немцы слишком редко переходили сами. Взятые в плен в бою, они, лишь почувствовав, что их не пристрелят, сразу же начинали ерепениться – смотрели свысока, если даже и не говорили презрительных или высокомерных слов. А многие их говорили. Дескать, ваши армии разгромлены, дескать, они, немцы, наступают по полста километров в день, дескать, мы воевать не умеем, дескать, сопротивление бесполезно и лучше всего побыстрее сдаваться им в плен, дескать, превосходство ума немца над умом русского лишний раз показали победы немцев – меньшим числом солдат и техники они побеждают несметные азиатские орды, которые, сколько ни давай им хороших танков и самолетов, все равно не сумеют ими воспользоваться, так как тупы, чувствительны, живут не разумом, а рефлексами и инстинктами. Словом, низшая раса, для которой будет тем лучше, чем быстрей она покорится. Эти пленные были так уверены в близкой и окончательной победе Германии над Россией, что порой и спорить об этом не хотели, а когда заходил разговор, что и их брали в плен, а, значит, где-то побеждали и наши, они это рассматривали, как частный случай, который естественен даже в их победной войне.
Глядя на таких пленных, слушая, что они говорят, Ардатов сначала поражался их какой-то немыслимой ограниченности, нежеланию или неспособности посмотреть и подумать шире – не с позиции сорок первого или сорок второго годов, а со времен Святослава, чтобы понять, что военные победы врагов не в состоянии уничтожить ни Россию, ни тем более русский народ, который теперь перевалил в своем числе за сотню миллионов.
Возможно, он ошибался, требуя от пленных немцев, от людей конкретной, повседневной жизни такого вот, исторического, что ли, подхода к событиям. Например, он не мог, наверное, требовать от них простого знания, что в каждом народе, великом ли, малом ли, живет вместе с его кровью чувство определенной национальной принадлежности, самосознания этого народа, что уничтожить это самосознание можно лишь физически – или растворив этот народ в каком-то другом или истребив всех до единого человека, что пока жив хоть один из этого народа, народ существует и ему органично присуще стремление к свободе, к своей жизни – своему укладу, своей вере, своим критериям добра и зла, ощущению своей истории в прошлом и в будущем тоже. Что же касается той страны, в которую полезли теперь немцы, того народа, который они теперь хотели победить, и страна и народ эти были огромны, и немцы должны были, неизбежно должны были потеряться в них, утонуть. Чувствуя, как всякий русский, за собой, спиной эту огромность, Ардатов, после того, как прошло удивление от ограниченности пленных немцев, стал смотреть на гитлеровцев как на часть зла, которая не поддавалась никаким другим действиям – разговорам, объяснениям, а подлежала либо строжайшей изоляции, либо истреблению.
Так вот, немцы слишком редко переходите сами. Их, конечно, агитировали, – по радио и листовками, но они пока наступали, значит, побеждали. А победителям зачем же сдаваться? Конечно, одиночки переходили, Ардатов слышал о них, но это были, как правило, немецкие коммунисты или какой-нибудь немец, которому за что-то – подрался с офицером, например, – грозил полевой суд и для него сдача в плен была в этом случае единственным выходом спасти жизнь. Наоборот, в ответ на наши листовки сдаваться, они бросали свои, в которых издевались, говоря, что рады бы сдаться, да вот никак не могут догнать нас, что все гонятся от самой границы – через Украину, Белоруссию, Западную Россию, подходят, бегут к Москве, да все равно не могут застать Красную Армию, чтобы сдаться. Ардатов сам читал такие листовки, последние уже где-то около Москвы, в каком-то дачном поселке.
И то, что Ширмер пришел сам, когда немцы опять наступали с Украины и подходили к Волге, было очень серьезным фактором. Но за уголовника его нельзя было принять. Его руки в заживших ссадинах, со многими шрамами, темные от въевшейся металлической пыли, жилистые, с деформированными суставами, подтверждали, что он рабочий металлист и подкрепляли его слова, что он в армии служил ружмастером. Было в Ширмере и то достоинство, которое Ардатов до войны не раз видел у мастеровых людей. Ежедневно, своими руками, создавая из ничего бы кажется, из сырья – болванок ли, досок ли, глины ли, нужную людям вещь, которая долго и верно будет служить им, мастеровой человек знает себе цену. И с уважением, с высокой тоже ценой, он относится к другому человеку, если только этот человек не был лентяем, пьяницей, дармоедом. Таким вот мастеровым и выглядел Ширмер.
Нет, Ширмер не походил на уголовника, которому надо было спасаться в плену у отступающего, терпящего поражения противника.
Правда, у Ардатова было мелькнула мысль: а вдруг этот Ширмер всего лишь хитрая сволочь, шпион, которого таким вот образом забрасывают к ним в тыл, но Ардатов сразу же отмахнулся от нее – и сдавшийся в плен будет сидеть в лагере, а если шпион и выдает себя за коммуниста-перебежчика, который принес какие-то важнейшие сведения, то ведь и его будут проверять. Версия насчет шпионства сразу же показалась Ардатову делом глупейшим.
– Разрешите? – Ширмер показал на винтовку на бруствере, как раз там, где под ней лежал убитый красноармеец. – Разрешите? – повторил он.
Во время перестрелки пуля попала этому красноармейцу куда-то в лицо, и он умер, опустившись сначала на колени, а потом лег на бок, свернувшись калачиком и закрыв простреленное лицо грязными руками. Винтовка, как он стрелял, так и осталась на бруствере. Около нее, на солдатском застиранном полотенце, была еще большая горка патронов.
– Разрешите, геноссе капитан? Я хорошо стреляю. Я… пристреливал оружие.
– Да? – переспросит Щеголев. – Пристреливали оружие? – Он накрыл красноармейца его шинелью. – Хорошо пристреливали? Чтоб било точно и кучно? – Щеголев выплюнул окурок сигареты. – Это очень мило с вашей стороны, Ширмер. Что вы его пристреливали. «Шмайссеры?» Карабины? МГ-34? Тем более мило, что вы от души делитесь этими заслугами с нами. А что, у вас, в вермахте, станки для пристрелки? Чтобы оружие не прыгало? Тоже есть мишени с электропоказателями? Как у нас, в РККА? Да? Их бин!.. Ду бист!.. Анна унд Марта фарен нах Анапа![2]2
Спряжение немецкого глагола «быть». Анна и Марта едут в Анапу. (Фраза из школьного учебника).
[Закрыть] – закончит он, и Ардатов услышал в «Их бин!.. Ду бист!.. Нах Анапа!..» и бога, и трех святителей, и вообще все, что есть в этом пласте русского языка.
«На кой черт он говорил про пристрелку?! – подумал он. – Ружмастер есть, конечно, ружмастер. Сбил кто-то мушку или еще что-то случилось с оружием – ружмастер поправит, починит, заменит негодную деталь и сам же пристреляет оружие. Наверное, так во всех армиях мира. Все это ясно. Как дважды два. Но на кой об этом говорить? Помалкивал бы…»
– Нет! – резко сказал он. – Никакого оружия! Тихо! – приказал он Щеголеву. – Ширмер, вы не знаете русского! Понятно? Понятно? Ни слова ни с кем по-русски! Это приказ! Ни слова! Щеголев!
Щеголев смотрел на него непонимающе, но он не стал ему объяснять. «Потом!», – решил он, – он не стал ему объяснять, что если их раздавит разведбат, да еще батальон танков, то, попади кто-нибудь из уцелевших в плен и проговорись про Ширмера, Ширмеру – конец. И пропали тогда его сведения. Ардатов не мог позволить, чтобы эти сведения пропали, сообразив, что они, видимо, крайне важные, иначе бы Ширмер не пошел через фронт. Поэтому Ширмера следовало беречь. «Если они нас раздавят, он, может, отговорится, что попал, мол, в плен случайно, заблудился или еще как, пусть сам думает, что говорить, а потом, быть может, попытается еще раз перейти. Может, на этот раз удачней» – решил он.
– Ни слова Ширмеру по-русски! – приказал он Щеголеву. – Ширмер просто пленный. Фриц и только! Понятно?
Щеголев кивнул.
– Ладно. Если ты так считаешь…
– Пошли, – не дал ему досказать Ардатов. – Потом… Ни слова по-русски! – еще раз приказал он и Ширмеру. – Никаких винтовок и прочего. Вы – только пленный. Ясно? Пошли.
– Пошли… – усмехнулся Щеголев. – Яволь, капитан. Яволь! Форвертс, дойтчише швайн! – гаркнул он на Ширмера и ткнул автоматом ему в бок.
«Нет, Ширмера вы не получите, – подумал Ардатов о немцах из разведбата и батальона танков. – Мы его сбережем, а вам, сволочи, не раскопать такого конспиратора. Я позабочусь, позабочусь, чтобы его сведения не умерли с ним. Даже если вы всех нас тут передавите!..»
Белоконь был явно доволен – довольством светилась каждая черточка его веснушчатого лица; больше того, он по-клоунски сломил свои рыжие брови, как бы говоря: «Ну как? Как представление?» – пряча под рыжими же, тараканьими усишками ухмылку.
Что ж, он и правда мог посмеиваться – за его спиной, теснясь друг к другу, стояла живописнейшая группа – девушка в серой куртке, лыжных брюках и растоптанных босоножках, здоровенная собака и старик. На голове девушки, схваченная под подбородком в узел, который прикрывал высокую шею, была зеленая косынка. Девушка выглядела никак не старше семнадцати лет – с ее смуглого, обветренного лица на Ардатова смотрели глаза старшеклассницы, хотя на куртке девушки, слева, над приподнимавшей куртку грудью, были приколоты под комсомольским три в ряд значка – «Готов к ПВО», «Готов к труду и обороне» и «Ворошиловский стрелок».
Намотав на руку поводок, девушка удерживала у ноги кудлатого, всего в репьях, колючках, пыльного, хоть выбивай палкой, пса. Пес отжимал уши назад, приподнимал губы и показывал всем какие у него страшные клыки. Клыки – белые на фоне черной пасти и розового языка, величиной с чесночины – и правда были страшные.
– Рядом! Рядом, Кубик! Свои! Спокойно! Свои, Кубик! – говорила девушка псу, пока все, на кого пес начинал смотреть, суетливо отодвигались.
За этой парой, возвышаясь над ней как колокольня, высовываясь из траншеи почти по пояс, важно стоял белобрысый, белобородый сухой старик в кепочке и черной косоворотке с двумя, наверное, десятками белых пуговиц на ней. Поверх этой косоворотки на старике было распахнутое сейчас, хорошее, но очень тоже пыльное, в пятнах осеннее пальто с мехом по воротнику и бортам. Брюки на старике были летние, из чертовой кожи, и обут старик был тоже по-летнему – в разбитые донельзя сандалии, казавшиеся из-за этого просто чудовищных, не менее 46, размеров.
– Разрешите должить? – Белоконь с разведческим шиком приложил ладонь к виску и щелкнул каблуками: – Найдены в левом крайнем фасе. Говорят, ночевали там. Говорят, не собираются уходить. Говорят, были беженцы, а теперь считают себя партизанами.
Тон Белоконя псу не понравился, он глухо, предупреждающе зарычал, и Белоконь сразу же сделал два шага вперед.
– С таким зверем только на тигра ходить, а жрет сколько! – сказал кто-то за Ардатовым. На этот раз Ардатов узнал голос пекаря.
– А вот и нет, а вот и нет, – запальчиво возразила девушка. – Кубик добрый, да, добрый! И не жрет, а ест! Как вам не стыдно!
Голос у девушки был высоким, чистым, прекрасным, но в нем звенели нотки дерзости.
– Да! И не смейтесь! Мы – партизаны! Мы так решили! Дедушка и я. Мы имеем право быть партизанами, каждый имеет право быть партизаном! И если кто-то не признает нас…
– Кто вы? Откуда? Почему оказались здесь? – хмуро спросил Ардатов старика, который, как если бы он и не заметил этой хмурости, ответил с неторопливым достоинством:
– Старобельский. Глеб Васильевич Старобельский. Бывший инженер-путеец… Гм… – назвался он приятным совсем не старческим баритоном.
В Старобельском, несмотря на седину и бороду лопатой, было еще очень много жизненной силы, эта сила угадывалась в сухом длинном теле, в жилистой шее, в голубых открытых глазах, которыми старик смотрел на него прямо – доброжелательно.
«Ай да дед! – подумал Ардатов. – Только все это, дед, не ко времени».
– А это, – Старобельский положил на плечо девушки сухую ладонь, – моя внучка, Надежда Старобельская. – И она права: угодно ли это признать или неугодно – мы считаем себя партизанами!
– Да! – подхватила Надя, отважно глядя на Ардатова и как бы призывая его присоединиться к этой отваге. – Мы – советские люди. Да! Советские!
Она порывисто обернулась к деду:
– Им надо показать документы. Вдруг они нас считают диверсантами? Конечно же!
Удерживая Кубика коленом, прижимая его к стенке, она лихорадочно расстегнула куртку, лихорадочно же вырвала из внутреннего кармана пачечку бумажек и лихорадочно же протянула их Ардатову.
– Здесь все – комсомольский билет, билет учащегося, что я учусь, то есть училась в техникуме, удостоверение на значки. Здесь все-все!
Старобельский тоже протянул: Ардатову свои бумаги, сказав:
– Извольте. Пенсионная книжка, паспорт, профсоюзный билет. Паспорт прописан в Старобельске – мы искони из Старобельска, еще от прадедов. Прописан по улице Приречной, дом 36. Что еще? Ах да! Вероисповедания православного, беспартийный, состоял в масонах, вдов, за границей родственников имею, но связь с ними не поддерживаю. Не судим. В белой армии не служил. В оппозициях не участвовал. Прошу записать в вашу часть.
Ардатов механически взял документы, но не стал их ни смотреть, ни открывать.
– Минутку.
Солнце поднялось над горизонтом, косо освещая землю, еще не грея ее, и тени от кустов полыни и от островков ковыля лежали на земле длинными темными пятнами, на которых чуть поблескивали редкие капли росы.
Еще когда бежал Стадничук, еще когда он упал, в том молчании, наступившем после его смерти, и когда Ардатов разговаривал с Ширмером, Ардатов, то и дело поглядывал на Малую Россошку и в стороны от нее, надеясь увидеть какое-то движение людей, запоздавшие уйти в тылы машины или повозки, хоть что-нибудь, что сказало бы ему, что у Малой Россошки есть какая-то часть, есть свои… Но он ничего этого не заметил – Малая Россошка казалась безлюдной, хотя над несколькими дворами и над несколькими домами в бинокль можно было различить дымки – оставшиеся жители что-то стряпали в печках или на таганках.
От этих дымков на душе становилось грустно.
– Белоконь! Продолжать разведку: на фланги и насколько возможно вперед, – приказал Ардатов. – Собрать все боеприпасы – до патрона. Все, что найдете – несите сюда. Ясно? Выполняйте. Лейтенант Тырнов, ваша задача – следить, чтобы у каждого была хорошая ячейка, в полный рост. Объясните людям, что от танка спасает только глубина окопа. Ясно? Выполняйте! Всем остальным – по местам!
Так и не полистав документов, он вернул их Старобельскому.
– А с вами я не знаю что и делать. Ах ты, Кубик, Кубик! Да какой же ты Кубик? Ты не кубик, ты целый куб!.. Так что же делать с вами? – повторил он Наде. – Почему не ушли дальше в тыл? Пока было можно? Теперь отсюда до ночи не выбраться, а до ночи… («До ночи разведбатальон и батальон танков!» – напомнил он себе). Слышите?
Все прислушались, обернувшись в сторону немцев, в сторону низкого, все усиливающегося гула, и так и стояли молча, пока самолеты немцев не стали различимы и пока Надя не начала их считать.
– Три, семь, двенадцать, двадцать четыре, тридцать, еще семь, еще девять, так… И там… Сколько же? Одиннадцать, еще четыре… Так… Еще… Семьдесят шесть! И откуда у них их столько? Все дни, что мы шли, мы их только и считали. Наши попадались редко. Я злилась ужасно… Эти летят на Сталинград? Прямо на Сталинград?
– Да. Видимо, на Сталинград, – ответил хмуро Ардатов.
Самолеты летели в тройках, тройки составляли девятки, и хотя самолетов не было и сотни, казалось, они занимали всю ту часть неба, которая была северней их траншеи. Ардатов знал, что никто сейчас не копает, вообще никто ничего не делает, все только зло смотрят на эти самолеты да озираются, ища в небе свои. Но своих не было.
«Может, встретят поближе. У города? – подумал Ардатов. – Есть же там ПВО?»
– Товарищ капитан! Товарищ капитан!
Надя порывисто подошла к Ардатову вплотную и тронула его руку, которой он держал бинокль у глаз.
– Разрешите мне! Разрешите мне пробраться в тыл! Я видела – он не прошел! Мы все видели! Но я пройду! Я маленькая, они в меня и не попадут… – пылко говорила она. – Может, они и стрелять не будут в штатского. Они же увидят, что я не военный, что я… что я не красноармеец. Ведь может же так быть? А? А если может то… то… Разрешите мне, вы только расскажите, куда идти. Куда и зачем!..
– Отставить! – приказал ей Ардатов.
Он приказал так, потому что вовремя не пришли гражданские слова, он просто растерялся от этого нелепого предложения. «„Не будут стрелять в штатского!“ Глупости какие-то! Еще как будут. Откуда им видно с такого расстояния, штатский ты или нет? Ты только цель, ты вообще для них не человек, ни штатский, ни военный, ты только цель! „Не попадут!“ Дурочка, еще как попадут. И будешь ты лежать, как Стадничук, недвижимо, как страшная кукла, с неловко подвернутой ногой. Нет, нет, нет, Надя!»
– Отставить! – повторил он сердито.
– Но почему, почему, почему! – не соглашалась Надя. «Отставить» на нее не подействовало. – Я пройду! Я же пройду. Я пройду. Честное слово, пройду!
Она уговаривала Ардатова все так же пылко, блестя глазами, душа ее загорелась желанием помочь им и, может быть, совершить подвиг. Ее ведь в школе, в кинотеатрах, по радио готовили к подвигам.
– Прекратить! – как красноармейцу, жестко оборвал ее Ардатов.
– Ах так! – Надя отвернулась от него и сделала два шага назад. – Тогда я пойду сама. С Кубиком. Я вам не подчиняюсь, я не военный. Я пойду. Я имею право пойти куда хочу и когда хочу! Вы же не приняли нас в свой… в свою роту, – нашла она нужное слово.
Это было совсем глупо, но и совсем по-детски, и Ардатов не мог сердиться.
– Ты – комсомолка. Значит, не имеешь права мне не подчиняться. Ясно? Все мои приказания для тебя – закон. Поэтому делай то, что тебе говорят. И не мешай. Старайся не мешать, – объяснил он добрее, а когда она было открыла опять рот, он не дал ей ничего сказать:
– Все! Ясно? Все!
Он снова подумал: «Только до ночи! А там мы тебя вытолкаем в тыл, а если будешь ерепениться, получишь ремнем!» – Это было, конечно, фантастика – «получишь ремнем», но Ардатов считал, что было бы неплохо разик-другой ощутимо перетянуть Надю ремнем пониже спины. «Чтобы быстрей бежала! До Волги! До переправы!» – усмехнулся он.
Ардатов привычным движением отстегнул клапан на левом кармане гимнастерки, почти вынул серебряный, с отцовской монограммой портсигар, но вспомнил, что папиросы кончились, уронил портсигар в карман и застегнул клапан.
– Все! – еще раз, уже для себя сказал он, собираясь с мыслями. Старобельский и Надя как-то сбили его, выбили из колеи, одним своим видом напомнив ненужное; не общая – защитно-зеленая для всех одежда, а кто что хочет, руки без оружия – усталые руки стариков, нежные руки девушек, беспомощные детские руки, книги, музыка, тепло близкой тебе, родной, совсем родной, совсем, совсем, совсем твоей – до последней клеточки ее тела – женщины, гул школьной перемены, реки, в которых можно купаться и которые не нужно форсировать или защищать, небо с птицами, а не с самолетами, земля, на которой можно просто лежать или сидеть и в которую совсем не к чему зарываться. Но он знал, чтобы это все было, сейчас нужно было от всего этого отказаться из-за проклятых гитлеровцев. Между той, прошлой человеческой жизнью, и той, которой он жил сейчас, стояли они, гитлеровцы, в человеческую жизнь можно было вернуться только через их смерти.
Но Старобельского он спросил мягко:
– Так как же, Глеб Васильевич?.. Так чем могу быть полезным?
Заботы давили Ардатова – он чувствовал их плечами, спиной, сердцем, но эта милая, живописная троица так напряженно-ожидающе смотрела на него, как будто он мог дать им что-то большое, что-то великое, что-нибудь вроде пропуска в вечный мир красоты и тишины.
До возможного боя, то есть до времени, когда немцы отзавтракают, получат приказ, в котором есть, как во всех военных приказах, «задача дня», изготовятся к движению, начнут движение, то есть до того времени, когда их остановившаяся на ночь машина наступления заработает, осталось мало времени. Это время Ардатову надо было употребить с максимальным толком – сделать хоть примитивную рекогносцировочку – осмотреться, прикинуть, чем они располагают, и получше использовать все. Ему следовало попытаться хоть чем-то накормить людей, поесть самому, прикинуть, где и как лучше встретить немцев, попробовать разгадать, где у них боевое охранение, с тем, чтобы и попытаться угадать, как они пойдут, потолковать с людьми, подбодрить их – да мало ли еще что надо было сделать, и Ардатов должен был как-то закончить разговор с этими милейшими, но сейчас совершенно ненужными ему людьми, ставшими для него обузой.
– Примите к сведению, Сталинград и прилегающий к нему участок Волги – прифронтовой район. Вы были под бомбежкой? – сказал он.
– Сто раз! – запальчиво от обиды заявила Надя, не дав ответить деду. – Сто раз! Дедушка может подтвердить, хотя вы ничему и не верите. Даже Кубик, даже Кубик теперь знает, что под бомбежкой надо лежать, а не бегать, потому что в лежащего человека – и в собаку тоже – осколки не попадают.
– Ну не сто, а раз восемь были, – уточнил Старобельский. – Но дело не в этом. Странно то, что… Простите, как ваше имя-отчество?
Ардатов назвался, и Старобельский продолжал:
– Странно то, Константин Константинович, странно, что вы отказываетесь от наших услуг. Вот что я никак не приму в ум. Мы готовы воевать, мы это решили твердо, говорим вам об этом, а вы, с позволения сказать… Потрудитесь объяснить, Константин Константинович. Осветите, так сказать, ситуацию…
– Минутку! – Ардатов посмотрел, что приволокли на плащ-палатке разведчики – десятка два противотанковых гранат, чуть поменьше противопехотных, штук триста патронов в обоймах и россыпью к винтовкам, но автоматных патронов было мало, магазина на два.
– В ходе сообщения, метров сто отсюда, два ящика с КС[3]3
КС – самовоспламеняющаяся жидкость.
[Закрыть],– доложил Белоконь. – И штук сорок противотанковых мин.
– КС? – обрадовался Ардатов. – Мины? Очень хорошо! КС не раздавать. Только тем, кто был в боях. Только тем! Чтоб ни одна бутылка мимо! Ясно, Белоконь? Обойдите всех и расспросите. Три бутылки мне. Три – старшему лейтенанту Щеголеву. Тырнову… Нет, Тырнову не надо. Передайте Тырнову – пусть обойдет всех, узнает, у кого нет продуктов. Вообще нет. Если есть хоть что-то, хоть на раз поесть, не считать. Пусть узнает, нет ли саперов. А взрыватели есть? Отлично! Если саперов нет, мины и взрыватели сюда. И чтобы все твои люди с тобой. Выполняй! Бегом!
– Так вот… – Ардатов посмотрел на Старобельского.
Старобельский, Надя и Кубик, прижавшись к стенке траншеи, теснясь так, чтобы занимать как можно меньше места и не мешать красноармейцам, молча и скромно следили, как все торопятся, подхлестнутые жестким голосом Ардатова.
– Так вот, я объясняю, что вы хотели…
Ардатов поднял бинокль, вглядываясь в сторону немцев, полагая, что ему удастся хоть разбросать эти мины перед траншеей. Он знал, что не может быть и речи о том, чтобы их зарыть – невозможно было работать на виду у немцев, но даже растащить их метров на сорок – пятьдесят от траншеи, спрятав в полынь, хоть чуть-чуть замаскировав, и то было великим делом. Из двигающегося танка четко различить через смотровую щель серый деревянный ящик под полынью практически невозможно, и эти сорок мин, не то оставленных, потому что их нельзя было увезти, не то забытых теми, кто вчера занимал здесь оборону, эти сорок мин, установленных «в наброс», хоть как-то, хоть жиденько, могли прикрыть их позицию. Вообще-то он хотел сам побежать с Белоконем к минам, но надо было ответить этому деду.
– До вечера я разрешаю вам – всем вам – пробыть здесь. Но как только стемнеет, прошу, приказываю, – поправился Ардатов, – приказываю отходить в тыл. – Кубик зарычал на него, но он не обратил на это внимания. – Не могу, не считаю ни нужным, ни возможным зачислить вас в свою группу. Ясно, Глеб Васильевич? Найдите лопату, заройтесь поглубже и – до вечера…
«Постарайтесь дожить – все вы трое – вы, Надя, Кубик, постарайтесь дожить до вечера. Это не шуточка, разведбат и батальон танков! Не игрушки!» – подумал он, но не сказал.
По мере того, как он говорил, подбородок Нади поднимался все выше и выше, пока она, стоя спиной к деду, не коснулась его груди. Старобельский же, положив руку на плечо Нади – сохранял невозмутимое достоинство.
Свободной рукой Старобельский провел по пуговицам косоворотки, как бы проверяя – все ли они на месте, все ли застегнуты, и лишь чуть-чуть озабоченней сказал:
– Позвольте спросить вас, Константин Константинович, почему вы не находите ни возможным, ни нужным принять нас в свои ряды? Я утруждаю вас, но…
– Потому что не вы и не Надя должны воевать! – вырвалось у Ардатова.
– Совершенно верно, Константин Константинович. Это – занятие армии, так сказать, специалистов, – неожиданно согласился Старобельский. – Мы же…
– В чем же дело? – Ардатов собрался пойти к минам, ему казалось, что Белоконь медлит. – Все ведь ясно, а коль ясно, то…
– Да, ясно. Но ясно и то, что армия, к превеликому нашему сожалению, не может пока остановить нашествия немцев, – возразил Старобельский и поднял тонкий, как карандаш, палец. – Смею вас заверить, Константин Константинович, я и в мыслях не имею бросить тень на вас лично или на всех, здесь присутствующих. Глубоко убежден, что каждый из вас, и вы тоже, не щадили себя. Но однако же, как это и ни прискорбно, немцы почти на Волге.
– Восемнадцать человек. Восемнадцать без продуктов, – доложил подошедший Тырнов. – Говорят, последнее съели вчера.
Старобельский вежливо прервался, ожидая продолжения разговора Ардатова и Тырнова, но так как этого продолжения не последовало, закончил:
– И постольку, поскольку армия не выполнила этой своей святой обязанности, во всяком случае – по сей день – не сумела уберечь ни землю, ни народ от тевтонского нашествия, объявлена война всенародная. Я и Надя – мы тоже народ. Потрудитесь, Константин Константинович, принять это во внимание…
– Как, как вы сказали? – возмутился Тырнов. – Как? Не сумела, не выполнила своей задачи? Вы, отец, говорить говорите, но не заговаривайтесь!
– Мы вам поверили, а вы… А вы… А… – вмешался было из-за спины Ардатова Чесноков, но Надя перебила его:
– Вот вам и «а». Вот вам и «а»! И будет еще б, в, г, д, е, и, ж, з!.. – и Ардатов даже подумал, что она сейчас покажет Чеснокову язык.
– Надежда! – Старобельский укоризненно остановил Надю. – Неприлично! Изволь, пожалуйста…
– Хорошо! – быстро согласилась Надя. – Но зачем они нас пугают? Угрожают зачем?..
– И, к, л, м, н, о, п, ре… – подхватил за Надей, не обидевшись, Чесноков, но Ардатов повел в его сторону головой, и он умолк, как выключился.
Ардатов хмурился и молчал. Что ж, по-своему Старобельский был прав. Но ведь прав был и Тырнов – армия делала все, что было в ее силах, чтобы остановить немцев – красноармейцы и командиры своим телом, костьми, кровью старались удержать немцев и у границы летом, и зимой в Подмосковье, и этой весной на Дону, и сейчас в сожженных беспощадным солнцем приволжских степях. И если им пока не удавалось остановить немцев, так вина в этом была не их, не Щеголева, не Чеснокова, не его, Ардатова.
«Но деду от этого не легче, – подумал Ардатов. – И что ты ему ответишь, здесь, у Волги?»
– Нас, – Старобельский положил теперь обе руки на плечи Нади, и она, опять вздернув подбородок, прижалась затылком к его груди, – нас, – Старобельский посмотрел сурово всем в глаза, – не устраивает, как все получается. Посему, после того, как немцы взяли Старобельск и… А до этого… А до этого…








