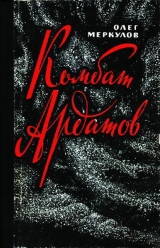
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
В дни прежних боев, в их кровавой сутолоке – под бомбежками, во время поспешных отходов (все восточней! восточней! восточней! – сначала к Киеву, потом к Смоленску, потом к Вязьме, потом к Москве), в минуты торопливых похорон (для одного – могилка глубиной в метр, для многих – кусок противотанкового рва), при атаках немцев (идущих на них так дьявольски спокойно – деловито, будто они – командиры и красноармейцы Красной Армии – совершенно не умеют стрелять, ни в кого из этих немцев никогда не попадут, а значит, не убьют), во время наших отчаянных контратак (подпустив на два броска гранаты, надо по крику командира выскочить из окопа, для легкости оставив в нем и полевую сумку, и бинокль, и шинель, и вещмешок, и, обгоняя друг друга, подбадривая себя и соседей хриплым «ура», надо бежать навстречу немцам, чтобы сшибиться с ними, видя сначала, как они все ближе и ближе, как ярче вспыхивают ножевые штыки на их винтовках, как желтее становится пламя от выстрелов из этих винтовок, слыша все громче не только очереди их автоматов, но и топот сапог, и сшибившись с ними, надо стрелять в них в упор, судорожно перезаряжая винтовку, отпрыгивая от их выстрелов, от их штыков, ловча ткнуть своим штыком кого-то из них, когда уже нет времени сунуть в винтовку новую обойму, и так то ли секунды, то ли минуты надо метаться в рукопашной, замечая все-таки, как падают немцы и как падают свои, слыша хриплую ругань по-русски и по-немецки, и так метаться, метаться, метаться в рукопашной, чтобы потом, когда не остается уже сил, даже чтобы схватить сухим горлом воздуха, вдруг радостно увидеть, как дрогнет ломанная линия, на которой сшиблись наши и немцы, увидеть, как вдруг немцы начинают отрываться от нее, поворачивают к тебе спиной, как бегут к своим окопам, как пытаются отойти, отползти с ними их раненые, и, увидев все это, надо, упав на колени, судорожно и радостно дыша, надо тебе и тем, кто с тобой остался жив и цел, торопливо стрелять по убегающим, целясь для верности не в головы, а в эти спины, во все уменьшающиеся спины, замечая, как после твоего выстрела эти спины вдруг сгибаются, как от удара ломом, тебе надо беспощадно и торопливо стрелять, стрелять и стрелять, пока не стукнет в мозгу, что последнюю обойму следует оставить на всякий случай), так вот, в эти дни, часы, минуты боев его люди – его подчиненные – Ардатову раскрывались (то мельком, как в оторванных кинокадрах, то подолгу, как в чьем-то неторопливом пересказе) и в неожиданных качествах: скромники, тихони оказывались отчаянными смельчаками, забубенными головушками, а всякие там говоруны, исполнительные, передовые, скисали тем более, чем острее становилась опасность.
Посылая с донесением Стадничука, он помнил и его решительность на мосту, и молчаливость у костерка в овраге, и то, что винтовки всех их стояли в козлах, а не лежали кое-как на земле. Конечно, из числа всех, кто был в его подчинении, Ардатов, если бы послужил-повоевал с ними подольше, мог бы найти и человека более сообразительного, более спокойного, но сейчас он пока мог полагаться на Стадничука, на его надежность.
– Оба наши фланга открыты, тыл не обеспечен, – продолжал Ардатов. – Но тактически позиция выгодная, она позволяет иметь круговую оборону, так как мы на доминирующей высоте.
– Фланги открыты… Тыл не обеспечен… Круговую оборону, – повторял Стадничук, все так же сосредоточенно глядя Ардатову в глаза.
– Ясно все? – закончив, спросил Ардатов. – Когда доберетесь до своих, скажите, что я приказал вам немедленно вернуться. Ясно? Повторите название этого населенного пункта.
Ардатов показал в тыл, на небольшой поселок, который находился как раз у них за спиной.
– Ясно, товарищ капитан.
Стадничук поглубже натянул пилотку, поправил скатку и приподнял от земли винтовку.
– Населенный пункт Малая Россошка. Мы западнее его один километр.
Ардатов отдал ему честь и протянул руку.
– Выполняйте.
Та тишина и то внимание, которые соблюдали все, когда Ардатов отдавал приказ, сейчас сломались – Тырнов из-за спины Ардатова тоже протянул Стадничуку руку, говоря:
– Ждем! Все время помните – ждем! Так что…
– Будет помнить! – ответил за Стадничука Белоконь и легко стукнул его кулаком по плечу, как бы для одобрения.
– Да он одна нога здесь, другая – там, – сказал Тягилев. – Это он может, раз вся надежда на него! Раз на тебе смотрит столько люду – тут уж в лепешку распластайсь, а сделай. Так аль не так? Так аль не так?
– Так! Так! Так, – подтвердил Стадничук, пожимая тянувшиеся к нему руки. – Вы тут сами-то, не того… В общем… Я постараюсь…
Торопливо, как если бы он опаздывал куда-то, Стадничук пошел по траншее к ходу сообщения, прорытому в сторону Малой Россошки, пробежал по этому ходу и, согнувшись, выскочил из него, держа в правой руке винтовку и раскачивая ее в ритм бегу.
«Правильно бежит», – отметил Ардатов, бежать именно так он и учил до войны красноармейцев.
– Ишь как несется, ишь как! – одобряюще говорил и Тягилев. – Глядишь и проскочит. А чего ему тут не проскочить? Осталось всего ничего. И проскочит себе, и наших найдет, а то мы как сиротинки! Чего мы тут можем без людей-то, без мира-то? Ишь как наддал! Ишь как сигает. Как этот, хвостатый, – как генкуру какой! Ишь как он!.. Ну, помогай ему…
Немцы не видели Стадничука пока он спускался за высотой, но как только Стадничук выбежал из мертвого пространства, немцы начали стрелять. Они стреляли не очень дружно, от них до Стадничука было уже метров пятьсот, и Ардатов, наблюдая в бинокль, как Стадничук бежит, пригнувшись и петляя, мысленно подбадривая его: «Давай! Давай! Давай! Давай! Ну еще! Ну еще! Давай! Давай! Давай!», думая, что хорошо, что он отобрал именно Стадничука, уже готов был вздохнуть облегченно, когда откуда-то слева ударил одиночный выстрел, и Стадничук упал.
– Хитрит! Это он хитрит! – возбужденно, с надеждой для всех и для себя крикнул Чесноков и подбежал к Ардатову и стал так близко, как если бы он тоже хотел вместе с ним смотреть в бинокль.
– Жив? Жив? Он жив? – возбуждение спрашивал он. – Товарищ капитан, он жив? Стадничук жив? Разрешите посмотреть! Разрешите.
– Не надо.
Ардатов и Щеголев переглянулись.
Если бы Стадничук упал не так – не на спину, если бы он потом перевернулся или хоть пошевелился, можно было бы надеяться, что он упал нарочно, заметив, что к нему пристрелялись, упал, чтобы обмануть немцев, но он упал на спину, вяло вскинув руки, и даже с такого расстояния Ардатову в бинокль было видно, что он лежит неподвижно. И он лежал лицом вверх, в положении, из которого потом неудобно вскочить и побежать дальше.
Несколько минут все молча следили за Стадничуком, ожидая, что вот он сейчас резко вскочит и побежит, побежит, побежит, но Стадничук не вскакивал, не шевелился, и все как-то вдруг (но каждый внутри себя, как если бы каждый линией зрения ощупал Стадничука) почувствовали, что он убит, а потом и поняли это.
– И вся недолга! – сказал кто-то. – Есть – нет. Есть – нет! И вся недолга.
– Не повезло, – уронил Белоконь. – Не повезло мужику.
– Пухом земля ему будет, – прошептал сокрушенно Тягилев. – Эхма!..
Ардатов посмотрел на часы. С той минуты, когда он их собрал, когда объяснял, что требуется, и спросил: «Добровольцы есть?» – и Стадничук тоже вызвался добровольцем, и он отобрал его, с той минуты прошло всего лишь четверть часа. Последние четверть часа жизни Стадничука.
«Мы похороним тебя ночью, когда они ничего не будут видеть. Так что до ночи там полежи. Тебе ведь, друг, теперь все равно», – сказал он про себя Стадничуку. Он еще раз поглядел в бинокль и опустил его.
– Передать по цепи – беречься снайпера! Больше посылать никого не будем, – сказал он Щеголеву.
– Да, – кивнул Щеголев. – Нет смысла.
Это было очень плохо, что против них где то устроился снайпер. Ардатов и Щеголев хорошо знали, как одиночка-снайпер терроризирует – ни поднять головы, ни перебежать, целый день не высовывать носа над окопом, потому что в любое мгновение снайпер может послать точную пулю. Никто ведь не знает, кроме самого этого снайпера, когда он дремлет, устав следить через прицел, не появится ли цель, когда ест, когда готов нажать на спуск.
«Так! – подумал Ардатов. – Дела! – Он стал смотреть вперед и прикидывая, как лучше расположить свое воинство. – Вот и начинается этот день! Ну-ну…»
После смерти Стадничука, которая, конечно, подействовала плохо на всех, все копали торопливо и ожесточенно, углубляя траншею, но Ардатов не слышал ни громкого разговора, ни шуток, за которыми многие люди, попав на передний край, прячут взволнованность, и поэтому радостный голос Чеснокова зазвенел над их позицией неожиданно громко и чуждо, ломая установившуюся тишину, отдаляя их всех от Стадничука, как отсекая их, живых, от него – мертвого.
– Фрица! Фрица поймали! – сообщая всем, бежал к Ардатову Чесноков. Он еще издали доложил: – Товарищ капитан, захвачен пленный! Фриц! Настоящий! Вон его ведут! Вот это да! – Чесноков был рад, почти по-щенячьи ему рад. Он так и сиял улыбкой и глазами. Можно было подумать, что кончилась война. – Вот это да! А, товарищ капитан?..
И правда, по траншее в цепочке красноармейцев, которые были и впереди и позади него, выделяясь своей серо-зеленой шинелью, шел, держа чуть растопыренные, поднятые на уровне плеч руки, немолодой – лет сорока – немец, которого чуть не подталкивал в зад штыком Тягилев. Он вместе со своими слепыми и захватил его.
– Мне, значит, слепыри говорят: «Шумит чего-то в полыни». Вот, значит, Авдеев, он первый услышал, а потом Никонов, он тож услышал…
Тягилев, объясняя, как оно было, показал на Авдеева и Никонова, и оба они закивали, подтверждая, что было именно так, что Тягилев говорит по справедливости.
– А я не чую, малость глуховат, кузнецы, они все, товарищ капитан, глуховаты…
Тягилев говорил торжественно, потому что, полагал он, захватить пленного дело не простое, не каждому дается, тут нужна и сообразительность и отвага и все остальное, что, звучало в тоне Тягилева, у него, не в пример другим, имелось.
Конечно, возле пленного сгрудились все, кто мог. Вытягивая шеи, красноармейцы старались рассмотреть его получше, теснились так, что пленный через минуту оказался плотно прижатым к Тягилеву и, нависая у него над головой, слушал, чуть улыбаясь, Тягилева.
Что ж, для Тягилева это были дорогие мгновения.
Маленькому ростом, щуплому, хотя и по-рабочему жилистому, пожилому, ему, конечно, уже не раз, за недолгую его службу запасника, не раз пришлось слышать насмешечки молодых и здоровых, и хотя все эти насмешечки, все это традиционное в армии подшучивание было беззлобным и делалось лишь ради того, чтобы как-то скрасить однообразие военной службы, чтобы потешить честной народ, все таки роль предмета насмешек была обидной. И теперь Тягилев брал реванш за все те смешки и шуточки.
– Потом глядю – полынь то заколыхалась, глядю, а там голова! Эна! Я было на вскидку, а он как заорет: «Нет! Сдаюсь! Гитлер капут!»
Тягилев переживал вновь это событие.
– Ну, думаю, вот те на! Тута слепыри подоспели, я ему: «Иди! Иди!» И чего-то вроде как бы пса какого-то звал, приблудного, – признался он, что именно так почему-то позвал перебежчика. – А ведь вроде тоже человек хотя и немец, а? Все как надо: руки, ноги, глаза человечьи… Ну, значит, он поднялся, пошел… Ишь, – Тягилев обернулся к немцу, – смеется, смеется, фрицка! Надо же!..
– Молодец! – сказал ему Ардатов, соображая, что перебежчик – это, конечно, и хорошо, и плохо – хорошо, потому что от него можно кое-что узнать, а плохо, потому что возле него теперь придется постоянно держать часового, да не какую-нибудь тюхтю-матюхтю, а толкового, чтобы, вздумай немец удрать – черт его знает, что у него может быть в башке! – чтобы, вздумай немец удрать назад, к своим, часовой мог бы с ним справиться. Пристрелить или заколоть.
Он отдал честь Тягилеву.
– Объявляю благодарность!
– Служу… Служу Советскому Союзу! – поперхнувшись от радости, ответил Тягилев и принял бравый вид.
– Вам, красноармейцы Авдеев и Никонов, также объявляется благодарность!
Он им тоже отдал честь, и они вразнобой, пряча смущение, стараясь выполнить получше в этой толкотне стойку «Смирно», тоже ответили, что служат Советскому Союзу, а потом, опустив глаза, некоторое время рассматривали свои обмотки и ботинки.
«Ах, старики! Ах, вы мои старики! Что-то будет со всеми нами? – подумал тепло Ардатов. – Если бы мы вышли к своим!..»
Что ж, они имели право на это тепло. Ардатов давно убедился, что солдаты из пожилых – отличные солдаты. Они, конечно, не могут ни быстро, ни долго бекать, перебежки делают тяжело, слабы в рукопашной, в рукопашной их много погибает, но уж кто-кто, a они, скомандуй только, всегда поднимаются для этих перебежек, всегда готовы идти в рукопашную. Они уважают начальство, делают, что приказывается, в трудные дни ропщут тихонько и робко, тянут, покряхтывая, солдатскую лямку и верят, что делают нужное дело. За спиной у них семьи, родные гнезда, в которые они вложили нелегкий свой труд, и та жизнь – их семьи, их работа, что у них были до мобилизации – для них единственная, последняя, и, так как ее надлежит беречь, они, во избежание осложнений, слушаются начальство, считая, коль уж пришлось попасть на службу, так надо служить добросовестно.
– Какой части? – спросил Ардатов перебежчика, вспоминая фразы из разговорника. Немец, опустив руки, свел каблуки вместе, прижал руки к бедрам и слегка оттопырил локти.
– 23-й танковой дивизии. Обер-ефрейтор, ружмастер разведбатальона Густав Ширмер. Дивизия передана из группы «А» с кавказского направления в 6-ю армию генерала Паулюса.
С готовностью отвечая, перебежчик смотрел на Ардатова без страха, больше того, с какой-то затаенной радостью.
И дальше он отвечал подробно и медленно, четко выговаривая каждое слово, как бы давая возможность лучше понять его. Тех не очень богатых знании школьного и университетского немецкого плюс вызубренный военный разговорник было достаточно, чтобы Ардатов понимал его ответы.
– Задача дивизии?
– Мне неизвестна, – Ширмер наклонил голову вбок, как бы сожалея, что задача дивизии ему неизвестна. – Задача разведбатальона – двигаться в авангарде полка в направлении Малые и Большие Россошки с последующим выходом к Гумраку и далее к западной окраине Сталинграда.
При этих русских названиях Тягилев, который стоял с открытым от удивления ртом с той самой секунды, как пленный заговорил, словно это было так же удивительно, как если бы заговорила корова, при этих русских словах Тягилев вмешался:
– Эва, как чешет! Россошка, Гумрак! Сталинград!.. – Удивление на его лице сменилось сердитым выражением. Он осмотрел немца сверху вниз и снизу вверх и ловчее поставил у ноги винтовку. – Ишь, Россошка!.. Гумрак тебе!.. Ишь он какой! А кабы я пальнул тебе в физию? Кабы пальнул? Раз – и квас! Кабы так? Был бы тебе Гумрак!..
– Отставить! – приказал ему Ардатов. – Есть ли в разведбатальоне танки? Сколько? Какого типа?
«Нда!» – подумал он, когда Ширмер сказал, что разведбатальону придан батальон танков, что вообще 23-я дивизия, хотя и понесла потери на кавказском направлении, перед переброской к Сталинграду была пополнена и техникой и людьми, так что представляет из себя весьма боеспособное соединение. Далее Ширмер сообщил, хотя Ардатов его и не спрашивал об этом, приблизительный состав дивизии – ее полки и приданные средства усиления, фамилии командиров, которых он знал, где, когда, с каким полком разгружался разведбатальон, предположительные пункты разгрузки остальных частей дивизии и другие сведения. Эти сведения были очень важны для Нечаева и бесполезны для Ардатова.
Он узнал главное для себя: против них за высотками – разведбатальон и батальон танков. Этот разведбатальон, видимо, острие немецкой стрелы, в которую был построен авангардный полк 23-й дивизии, вот-вот должен был начать движение и вот-вот должны были завести моторы танки. И хотя он, Ардатов, со своими людьми удачно отбился от пешей разведки, щупавшей ночью предполье батальона, он знал, что днем ему и его плохо вооруженным людям будет кисло, так кисло, что кислее и не придумаешь.
«А Нечаев прав, они действительно перебрасывают части с Кавказского направления, – все же хотя и не к месту, подумал Ардатов. – Не хватает на все задачи. Но сегодня они дадут нам прикурить. Раздавят, сволочи!..»
Его интерес к пленному упал, все, что надо, он получил от него, он уже прикидывал, где его держать, кого поставить охранять, причем, вспомнил о контрразведчиках, считая, что это их хлеб, но и сразу же отодвинул эту мысль соображением, что контрразведчиков, особенно Жихарева, надо оставить в цепи, что один Жихарев будет стоить в ней пяти, а, пожалуй, и больше необстрелянных красноармейцев, сапожников или пекарей. Он вспомнил Васильева, Талича, и стал искать их глазами, переводя взгляд с лица на лицо Тягилева, Чеснокова, Жихарева и Просвирина, других красноармейцев, когда немец вдруг сказал:
– Прошу доставить меня к старшему начальнику. Прошу, как можно быстрее, – Ардатов понял это – «как можно быстрее». Немец сказал это твердо, глядя прямо на Ардатова, и в интонации просьбы Ардатов услышал и ноту требовательности.
– Чего это он? Чего? А, товарищ капитан? – уловил перемену в разговоре Тягилев. – Чего ему надо?
– Я старший начальник, – отрезал Ардатов.
Еще когда немца вели к нему, Ардатов заметил, что немец не то тревожно, не то озабоченно оглядывает попадавшихся ему навстречу красноармейцев, их оружие, снаряжение, вертит головой по сторонам, рассматривая окопы и ходы сообщения, что он несколько раз, вытягивая шею, посмотрел в тыл. Можно было предположить, что пленный делает все это, просто нервничая, опасаясь, не пристрелят ли его, не начнут ли мучить. Но сейчас Ширмер, вновь вытянув шею, посмотрел в тыл.
– Чего он говорил? Чего говорил-то? А, товарищ капитан, – не отставал Тягилев.
– Давал сведения.
– Сведения? Это хорошо! Это знатно! – обрадовался Тягилев, поворачиваясь ко всем. – Значит, толк есть. Есть ведь, землячки? Оно, конечно, не генерал попался, но…
– А если врет? Так тебе он и раскололся, держи карман шире! – бросил презрительно ему Жихарев. – А ты хлебало раскрыл и…
– Да брешет он, брешет, собака! Шкуру спасает. Трясется, как бы не шлепнули тута! – врезался в разговор Просвирин. Он выбросил вперед руку наподобие семафора. – Гад! Травит свою легенду! Да такого надо!..
Отталкивая других, он было рванулся к Ширмеру, ко Жихарев с силой дернул его за ворот, а Ардатов как хлестнул по лицу командой:
– Назад!!!
– А может, и врет, правда, товарищ капитан, – вмешался Авдеев. – Вы ему не больно-то верьте. Вдруг подослан?
– Ну и что же? – крикнул звонко Чесноков. – Ну и что же? Мы же не дураки! Мы ему и верим и не верим!..
Ширмер с полуулыбкой смотрел на все это, но потом снова твердо не сказал, а как потребовал у Ардатова:
– Если вы старший, прошу выслушать меня наедине. Имею сведения особой важности.
«Что за черт! Какие там особые сведения», – подумал Ардатов.
– Чего ему надо, капитан? – спросил Щеголев. – Хоть что то дельное сообщил? Или так – обычное: «Арбайтер, мобилизован… Прощай, Москва! Гитлер капут?». Песенки, которые они поют, пока их не уведут с переднего края. Это?
– Да нет, не только это. Есть и дельное. – «Разведбат и батальон танков! – повторил он про себя. – Куда уж как дельней!» – Пошли. – Ардатов расстегнул кобуру. – Пошли, – повторил он Щеголеву, который, не понимая, посмотрел на него и на кобуру. – Пошли, пошли!
Щеголев взял автомат за шейку приклада так, что его ствол был направлен вперед и вниз.
– Ну, что ж, но, может…
– Комм! – приказал Ардатов Ширмеру, но тут Чесноков, золотая мальчишеская душа, отчаянно закричал:
– Этого нельзя! Товарищ капитан, нельзя! Он же пленный! Он сам перешел! Товарищи!..
– Отставить! – бросил через плечо Ардатов. – Отставить! По местам! Лейтенант Тырнов – разведите людей.
– Правильно, – выкрикнул, перебивая Чеснокова, Просвирин. – На распыл его!
– Дурак! Дурак ты! И сам – гад! – Чесноков крикнул это, задыхаясь, отчего его голос сорвался на громкий шепот. Вдруг, изловчившись, он увернулся от Тырнова и подбежал к Ардатову. – Товарищ капитан… Это же не эсэсовец… Он же…
Чеснокову показалось, что сейчас будет совершено гнуснейшее дело – два командира Красной Армии заведут в тупичок траншей безоружного пленного и расстреляют, пустят, как предложил Просвирин, «на распыл». При мысли об этом, еще не ожесточившееся, не заматеревшее сердце Чеснокова переполнилось таким возмущением, что он забыт, что он – на войне, забыл, что он подчиненный и не имеет права ни возражать, ни протестовать против действий командира, тем более в боевых условиях.
– Назад! – Щеголев стал между Ардатовым и Чесноковым, но Ардатов отвел Щеголева.
– К ноге! Автомат к ноге! Спокойно! Никто не собирается стрелять его. Стой здесь. Никого к нам не пускать. Ясно? Выполняй. Комм! – повторил он немцу.
Немец улыбнулся Чеснокову и кивнул: «Данке! Данке, камерад!»
Шагов через десять, как бы оправдываясь, Ардатов бросил Щеголеву:
– Видал? Этот Чесноков… Все еще…
– Привыкнет. – хмуро ответил Щеголев. – Так чего он хочет, капитан? Или – чего ты хочешь?
Они и правда завернули в тупичок и здесь, в пулеметном окопе для отсечного огня, остановились.
– Слушаю! – Ардатов в упор смотрел на немца. – Быстрей.
Немец кивнул и вдруг сказал по-русски:
– Прошу доставить к офицеру разведки. Имею особое сообщение. Это все, что я могу сказать. Не имею права добавить ничего. Товарищ капитан, – Ширмер так и сказал – «Товарищ капитан», – прошу отправить меня в штаб.
Щеголев от удивления свистнул:
– Фюи-и-ить! Вот так сюрприз! Вот так подарочек! И говоришь, ничего не имеешь права добавить? Так-таки и ничего? А где эти сведения? Где они? Ну?!
Ширмер показал пальцем на лоб и постучал по нему.
– Там, там. Только там!
– Да? Да? Там? – усомнился Щеголев, но сразу же и смирился: – Вообще логично. Не таскать же через фронт засургученные пакеты. – Он посмотрел на Ардатова. – Что будем делать? Держать его, конечно, нельзя, надо побыстрей отправить, но, с другой стороны, только они высунутся, а послать с ним надо минимум пару человек…
«Не этих, – подумал Ардатов о контрразведчиках, уж больно ненадежным показался ему Просвирин. – Не доведут!»
– …Только они высунутся, и их всех перестреляют. Или вы рискнете? Хотя… Если он действительно такая важная птица, рисковать нельзя, нельзя, капитан. Надо ждать… Хотя что там будет впереди?
«Впереди будет, – мыслено ответил ему Ардатов, – разведбат и батальон танков».
Пока они обговаривали, что делать дальше с Ширмером, Ширмер стоял слушая, и на его лице не было ни тени страха, ни заискивания, он держался как равный и как свой, как будто разность их армейской одежды то ли была так, мелкая деталь, то ли вообще ее не существовало.
– Нет, рисковать нельзя, – согласился Ардатов. – Но пост к нему выставим. Посменный пост. Не помешает.
– Ты ему веришь вообще-то? – Сам Щеголев судя по его тону, не очень верил. – Веришь?
Ардатов пожал плечами.
– И да, и нет.
Они не отошли, они говорили, как если бы Ширмер не понимал их.
Расспрашивать Ширмера дальше, задавать вопросы вроде: «Почему раньше не перешел фронт? Почему именно тут решил перейти?» – расспрашивать об этом Ардатов считал бессмысленным. Ширмер мог ответить, как угодно, и поди проверь его! Определяющим являлось, однако, то, что Ширмер действительно сам сблизился с ними, сам незаметно подполз, сам обнаружил себя, сам сдался, то есть был перебежчиком чистейшей воды, а не плененным в бою, подобранным раненым или взятым в других обстоятельствах. Ширмер был натуральным перебежчиком, и это было неоспоримо. И, второе, Ширмер сделал такое заявление, которое или надо было принимать как достоверное, или следовало отвергать начисто, во всяком случае, перепроверить хоть крошку его Ардатову было не по силам. Поэтому все дополнительные вопросы оказывались ненужными, а так как Ардатова ждали дела, куча дел, он, кивнув, объяснил Ширмеру, что при первой же возможности он отправит его в ближайший штаб, и что, пока такой возможности нет. Он только заметил:
– Вы хорошо говорите… Откуда такой русский язык?
– Я говорю по-русски, потому что родился в России. В Саратовской области. Там жило много немцев, – с готовностью ответил Ширмер. – Я уехал с родителями в Германию в двадцать втором году. Отец получил маленькое наследство – домик и слесарную мастерскую. Я русский язык помню – половина нашей деревни была русской. Это где-то там, – Ширмер показал на северо-восток. – Близко. Я прошу вас, товарищи, верьте мне.
Ему очень хотелось, чтобы ему верили. Он прижал руки к груди, как бы подчеркивая этим жестом свою искренность.
– Здесь моя родина. Здесь. Близко!
– Да-а-а, сейчас близко, – хмуро подтвердил Щеголев, и Ширмер сразу поправился:
– Я хотел, я мечтал увидеть мою родину, по не так! – Он с чувством покачал готовой. – Не так! – Он с силой дернул за борт мундира, как будто срывая мундир. – Не так! Как гость. По… – он вспомнил: – по-людски. По-людски! – с грустью и обидой повторил он. – Приехать, ходить по домам, разговаривать, смотреть, что есть как, кушать, немножко водка, петь песни. Говорить про жизнь!
Ардатов и Щеголев молчали – все-таки проклятый фрицевский мундир как будто затыкал им рот, не позволяя говорить с этим Ширмером так, как он хотел бы, и так, как они, может, и должны бы были говорить с ним – «по-людски». Но на мундире Ширмера, над правым карманом, всего в каком-то метре от них – протяни руку и потрогай! – был все тот же ненавистный им фашистский знак – орел с распластанными крыльями, державший в когтях круг со свастикой. На погоны, на петлицы можно было бы наплевать, сами по себе они их не очень-то трогали, не очень-то задевали, но этот фашистский значок как будто все время звонил, что ли, как будто кричал, что ли, про фашизм, все время напоминая о лете, осени, зиме прошлого года, о трудностях этого. Тщательно сотканный из шелковых нитей в два цвета – серо-черный и светлый, этот фашистский орел ставил между ними и Ширмером невидимую стену отчуждения и заставлял верить холодно, даже если они и верили. Сдерни Ширмер мундир, останься в человеческой майке или там рубахе, и разговор бы, наверное, пошел лучше.
Когда Ширмер сказал «говорить про жизнь, петь песню», Щеголев снова недобро усмехнулся, глядя на этот значок.
– О, это ужас! Это грех! Это плохо! Это фашизм! – Зацепляя за край крыла, Ширмер старался его отковырять. – Это только маскировка, для меня – маскировка. Я – коммунист! Я коммунист с тридцатого года! – Он вздернул к плечу сжатый кулак:
– Рот фронт! Рот фронт, камерады! Но пассаран! Фашизм не пройдет!
– А потом? Вы уехали с родителями, а потом? Что потом? – спросил Ардатов.
Ширмер вздохнул, улыбнулся, как бы извиняясь, что не сдержал своих чувств.
– Мастерская была маленькая. Плохая. – Он свел выцветшие, соломенные брови к переносице, вспоминая:
– Инфляция, марка падала. Голод. Разруха. У нас это тоже было. Контрибуция победителям. Отец разорился. Капиталист не получился. – Ширмер опять извинительно улыбнулся, улыбнулся вспоминая несбывшиеся мечты отца, если не разбогатеть в Германии, то хотя бы иметь пусть маленькое, но свое дело. – Голод, – повторил он. – Классовые бои. Тельман. Спартаковцы. – Он похлопал себя по карманам, достал сигареты.
Ардатов успел прочесть на пачке «Болгария».
«И там они!» – отметил он.
Ширмер, стукнув пачку о ладонь так, что несколько сигарет выдвинулось, товарищеским жестом протянул пачку им.
Они закурили.
– Потом? – Ардатов выпустил дым. Табак был хотя и слаб, но хорош, ароматен, и здесь, в сожженной солнцем степи, его запах казался странным, неуместным. – Потом?
– Я работал на заводе. «Симонсверке». Рур. Токарь. Там стал функционером.
– Потом? С тридцать третьего?
Лицо Ширмера потемнело, он насупился, его небольшой тонкогубый рот сжался. Он посмотрел между ними, на запад, где за две тысячи верст от них была Германия.
– С тридцать четвертого на конспирации. Партия потеряла много функционеров. Ушла в подполье. Гестапо умело работать – много, очень много провалов! После Испании на свободе осталось мало. Считанные, наверное, сотни. Я только функционер. Я знаю мало. Несколько человек. Но я знаю, что такое фашизм.
– Мы тоже, – процедил Щеголев. – Познакомились. На своей шкуре.
Ширмеру, видимо, очень хотелось сломать отчужденность. Он, наверное, считал, что для этого должен им объяснить свое понимание фашизма.
– Фашизм – это когда нет человека. Есть Рейх. Фюрер. Фатерланд. Фольк. Народ – фольк – вообще. Человека, одного человека – нет. Он есть лишь как часть фолька. И нужен как эта часть. Только. Сам по себе – нет. Его сердце, голова, мысли – нет. Они не нужны фюреру, рейху, фольку. Вредные. Их следует коренить. М… М… м… – Ширмер сделал жест, показывая, как что-то надо отрубить в самом низу.
– Искоренять, – помог Ардатов.
– Да! Да! Искоренять! – подхватит Ширмер и показал опять как будто что-то рубит, а потом, что как будто что-то выдергивает из земли. – Поэтому все, что не есть из фюрера, рейха – плохо. Вредно. Хорошо – немец над всеми другими, – он поднял высоко руку, – а среди немцев – немец над немцем. Хорошо – рейх – дисциплина. Думай, говори, делай, как приказано. Не рассуждать. Не обсуждать. Выполнять! За всех думает фюрер. Он знает, что хорошо, что плохо. Ты – не знаешь. Хорошо то, что хорошо рейху, а что тебе нехорошо – мелочь. Глупость. Рейхдисциплина, – повторил он. – Дисциплина рейха. Выполнять! Тебе приказывают – ты выполнять! Ты приказываешь – он выполнять.
Щеголев понял все это по-своему. Он хмыкнул:
– Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак! И не тот прав, кто прав, а тот прав, у кого больше прав.
– Не совсем так! – возразил было Ширмер, но, подумав, согласился: – Но, может, есть и так.
– Так! – подтвердил Щеголев. – Гражданская жизнь – не армия, и если на гражданке заводят военную дисциплину, – он махнул рукой, – тогда жизнь пропала!..
Ардатов посмотрел на часы. Казалось, этот разговор должен был бы занять много времени, и Ардатов хотел бы, чтобы он занял много времени, осталось бы меньше до вечера, до ночи – меньше для разведбата и батальона танков – но прошло лишь пятнадцать минут.
– Ну и что? – механически спросил он, думая, что же ему надо сейчас будет делать, но, затягивая разговор, как будто это могло затянуть и действия разведбатальона и батальона танков. – Чем все это кончится? Этот рейх… Этот фатерланд… Фольк?
Ширмер отрицательно покачал головой.
– Не знаю. Но страшным.
Ширмер уже не пытался убедить их верить ему. Он заговорил торопясь, как бы освобождаясь от всех тех мыслей, которые приходили к нему не раз и не раз мучили, потому что он все не находил главного ответа на главный вопрос: «Чем все это кончится для Германии?». Видимо, он понимал, что так, как началось в тридцать третьем году, вечно в Германии продолжаться не может, что все эти штучки насчет тысячелетнего рейха, господства все эти тысячи лет над другими народами – лишь абсурд, гигантский пропагандистский обман. А раз так, значит, весь этот фашизм должен кончиться. Но вот когда? И как?







