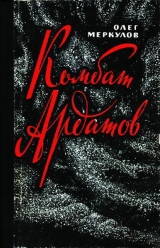
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Их отношения приобрели странные очертания – ни он, ни Валентина не говорили о завтра. Все их слова касались или конкретных дел, связанных с приготовлением ужина, или госпитальных событий, или школьных забот, или сводок с фронта и вообще разговоров о войне.
– У тебя есть семья? – лишь однажды спросила Валентина.
– Есть, – ответил он.
Вот и все, что они сказали на эту тему.
Он мучался потом, думая, что все-таки это, видимо, плохо – не быть верным жене. Его не трогали шуточки ребят, когда он на рассвете лез через окно в солдатскую палату, чтобы, пройдя через нее, подняться на второй этаж в свою. За две недели до выписки он вообще приходил утром, когда госпитальная дверь открывалась. Никто ничего не мог ему сделать – госпиталь был наркомздравовский, из военных в нем служил лишь контуженный комиссар, который понимал фронтовиков. Ардатова ждал резерв, за ним – дорога в часть, в конце этой дороги – фронт. Чем же его могли испугать?
– Это не очень красиво, – как-то сказал ему начальник госпиталя, тонкогубый маленький горбун. – Конечно, многие это делают, но тем не менее это не очень красиво.
– А год не видеть жену – это красиво? – спросил его Ардатов. Горбун был женат на громадной зубной врачихе, известной в госпитале под именем «Торпеда». – Подайте рапорт по начальству, чтобы выздоравливающим делали уколы от любви, уколы от всего, что в них есть человеческого, – добавил Ардатов презрительно. Горбуна-начальника не любили за способность бесшумно появляться в укромных местах, где раненые очаровывали сестер и санитарочек. Горбун, появившись вот так бесшумно, обычно не делал замечания, а здоровался, кривя губы в улыбке, и справлялся, все ли у сестры или нянечки на работе благополучно. После такой заинтересованности девушки пулей летели на свои места.
Для Ардатова дело было не в официальной морали. Он должен был решить для себя: худо это или не худо? Он как-то любил Валентину и видел, что она любит его, их отношения были отношениями возлюбленных, но ведь, в конечном итоге, считал Ардатов, отношения мужа и жены это тоже отношения возлюбленных, лишь узаконенные.
Ардатов готов был дать голому на отсечение, что Валентина могла бы быть его женой, если бы они встретились до войны, до того, как он стал семейным. Что же аморального было в их отношениях? Ардатов не находил ничего, кроме неверности жене. Но в этом была повинна война. Противоестественная по своей сути, она сломила, исковеркала естественную жизнь миллионов, но была неспособна изменить, исковеркать человеческую природу, жажду человека жить по-людски.
Война расшвыряла семьи по разным концам страны, отгородила супругов сотнями, тысячами километров, месяцами, годами разлуки, и тем самым истончила нити, связывающие жену и мужа, рвала эти нити, подставляя взамен соблазны.
Как же было грешному человеку, человеку, а не фанатику, устоять против них? Ведь длинный вечер в чистой тихой комнате, немного спиртного, скромный ужин, ночь, женщина, которой ты дорог и которая поэтому нежна с тобой, чистая постель, стук крови в висках от того, что рядом с твоим плечом, рядом с твоим бедром ее бедро, плечо, объятия, от которых хрустят ее косточки, шепот: «Ты мой, ты мой, люблю тебя всего, люби меня…» – долгий сон рядом, – ее руки заброшены тебе на грудь, лицом она уткнулась тебе в шею, и доверчиво спит, растворенная тобой, твоим телом, твоей силой, и лишь слабо пытается тебя удержать, когда ты пошевелишься, – как можно было отказаться от всего этого, как можно было лишать себя всего этого, если впереди Ардатов видел только войну, не зная, когда и как она кончится для него.
Эти вечера для него могли быть последними. Эти ночи могли быть тоже последними. Эта женщина могла быть для него последней.
Он был виноват перед женой, но невиновен перед жизнью, которую вот-вот у него могли отнять.
Иногда он думал, а как бы он отнесся, если бы поменялся местами с женой, и как бы ни было ему горько, он решил, что не осудил бы ее.
Поменяться местами с ней означало, что и она, его жена, мать его дочери, должна была попасть в число всех их – фронтовиков. В число приговоренных к смерти. Ведь все они – фронтовики были приговорены к смерти, хотя приведение в исполнение приговора зависело от случая. Случай решал, кому и когда надлежало быть застреленным, разорванным снарядом, раздавленным танком, кому остаться жить искалеченному, кому посчастливится выйти из войны целым. Включив жену в число фронтовиков, мог бы он судить ее за какие-то крохи радости, за какие-то щепотки человеческой жизни, даже если бы эти крохи, эти щепотки давал бы ей кто-то другой, в то время как смерть висела бы над ней, как сейчас над ним, над его товарищами, над миллионами, живущими во фронтовой полосе?..
Нет, он не осудил бы жену.
Он считал, что кто-то, может, многие, наверное, смотрят на все это иначе – осуждающе, что многие видят в этом его понимании жизни слабость, но он не был таким сильным, как они.
«Не все же могут быть одинаково сильными, – говорил он себе. – Может, я слабее их. Конечно же, слабее. Что ж, куда теперь денешься?»
Думая над всем этим, он, ненавидя войну, ненавидел немцев еще глубже. Но ненависть была чувством, а рассудок говорил ему, что только смерть немцев может изменить его жизнь, жизнь его семьи, жизнь людей, с которыми он был рядом и которых он и в глаза не видел, и потому он должен воевать, воевать, воевать, пока последнего немца не застрелит он или его товарищ по армии или не выбьют у этого последнего немца из рук оружие. В этом был смысл войны вообще. А смысл войны здесь, у Малой Россошки, сводился для него сейчас к приказу, который он отдал себе и всем, кто был с ним: «Продержаться до ночи! Удержать эту высоту!»
Она ведь тоже составляла часть его земли, отдавать ее было нельзя. Везде, куда лезли немцы в его стране, в Африке, в Европе – везде надо было удерживать каждый клочок земли, потому что из этих клочков и слагались страны, на каждом этом клочке надо было убивать немцев, чтобы потом идти и отбивать у них, опять же истребляя их, все то, что немцы успели захватить, подмять под себя, что они топтали своими сапогами, угрожая каждому пулей или виселицей. И хотя и его, Ардатова, могли убить, он гнал мысль о своей смерти, отодвигая ее необходимостью делать что-то конкретное в каждую конкретную минуту его войны.
– Да нет, все это, с Валентиной, не так просто, – пробормотал он.
– Что не просто? – переспросил его Чесноков. – Что не просто, товарищ капитан?
Загудел зуммер, и Рюмин поднял трубку.
– Да? Да! Гавриков? – Он поморгал, соображая. – Гавриков? Боеспособных?
– Пятьдесят шесть! – подсказал Ардатов.
– Пятьдесят шесть! – передал Рюмин. – Всего четыре. Два раненых. Я немного. – Он посмотрел на Ардатова. – Вообще-то немного все ранены. Ничего. Отрезок метров четыреста и столько же вперед фронтом и, может, столько в глубину.
– Кто это? – Ардатов понял, что Рюмина расспрашивают об их положении.
Рюмин протянул ему трубку.
– Капитан Белобородов.
Ардатов, назвавшись, спросил у Белобородова:
– Кроме БК у тебя что-то есть? Неучтенное? – Он знал, что артиллеристы всегда занижают количество имеющихся снарядов, выставляя в строевках всегда чуть завышенный расход. – Ладно, ладно, будем считать, что ничего, кроме какого-то десятка-другого нет. Но обещай, обещай, что все, что есть лишнее, пустишь в дело. Обещаешь? Хорошо. Нам тут кисло.
Белобородов на это сказал ему, что «наверху» интересовались ими, что рубеж надо удержать, и что поэтому он, Ардатов, может на него, Белобородова, положиться, что главное, чтобы сами они, Ардатов и его люди, не дали себя выбить.
– Счастливо! – сказал Белобородов на том конце провода. И вдруг спросил:
– Как ты считаешь, фриц нас слышит?
– Вряд ли, – усомнился Ардатов. – Они всю эту снасть, – он имел в виду оборудование для подслушивания, – еще не подтянули. Наверняка не подтянули. Это тебе не оборона.
– Вообще, да! – согласился Белобородов. – А даже если и слышит, то… то хрен с ними!
– Вот именно! – поддержал Ардатов.
– Мы им, с-с-сукиным детям, всыпем, – заверил его Белобородов.
– Вот именно. Как «костыль»? – вспомнил Ардатов. – Был?
– Был!
Новое питание в телефонах давало хорошую связь, и Ардатов слышал, как дышит Белобородов, как он затягивается дымом папиросы.
– У нас один солдат ему голый зад показывал, и то не заметил. Они думают, что умеют все только они. Ишь, сволочи! Ничего, у нас все впереди.
Белобородов сделал новую затяжку. Ардатов слышал, как хлюпнули его прокуренные легкие.
– Ты держись там. Я им дам, как под Тулой! Мы там Гудериану зубы выбили? Выбили?! И тут они получат по первое число! Главное – не уходи. Не давай ты им, сволочам, ни метра. Ладно? А я тебе обещаю – как под Тулой. Ладно?
– Ладно, – согласился Ардатов, хотя смутно представлял, как это Белобородов сделает то, что он делал под Тулой. Там он, наверно, жег и колол танки прямой наводкой, но здесь-то все было по-другому! Здесь попадать в танки Белобородов мог лишь случайно, потому что стрелял с закрытой позиции, но пехоту отсечь он мог, а у Ардатова на душе полегчало.
– Не уйду! – пообещал он.
– Правильно! – пробасил Белобородов. – Пока, друг! Тут у меня такие бомбардиры-канониры, что закачаешься. Считай, что тебе повезло, считай что ты счастливчик, раз я с тобой.
Ардатов невесело усмехнулся – счастливчик! – но ему было все-таки приятно слышать эти добрые слова, да и подбадривали они хорошо – без оснований этот Белобородов ими не разбрасывался бы.
– Пока, друг.
– Ну, будь жив!..
– И ты.
– Клади трубку.
– Кладу.
Ардатов почувствовал, что что-то теплое, мохнатое тычется ему сзади в ладонь, догадался, что это Кубик, потрепал его голову, погладил за ушами, сказал: «Ах, ты, Кубик, Кубик! Такой большой, добрый пес!», – приказал Рюмину: «От телефона – никуда!» – и пошел, пропустив Кубика вперед…
Ардатов, сидя на корточках, пил и пил холодную сладкую воду из котелка, который ему подала сестра, а майорша докладывала:
– Всего прошло через пункт, включая и вас, тридцать шесть человек. Из них сейчас здесь безнадежных два, тяжелых семь, средней тяжести шесть. Боеспособных нет. Кроме ездового. Оружие, кроме личного, две винтовки. Боеприпасов, кроме как в подсумках, нет. Медикаменты на исходе, осталось на десяток перевязок. Продуктов тоже нет. С кило сухарей и все… Чем порадуете вы, напитан? На что надеетесь? Только честно: чем порадуете? Мы ведь на вас как на бога…
Ардатов, поставив возле себя котелок, придерживал его рукой, как бы показывая, что будет еще пить.
– Всех средней тяжести – в цепь! Разместить так, чтобы могли лежать, но, когда надо, стрелять. Вас прошу тоже в цепь. Сестра, помогите майору. – Он пояснил: – Осталось очень мало людей.
– Но они перестреляют раненых! Без нас… – возразила было майорша.
– А с вами они их не перестреляют? Вы их уговорите не делать этого? – не дал ей больше ничего сказать Ардатов. – Сделайте для них все, что можете, и в цепь.
– Да что мы для них можем сделать? Что? – уже без запала, но с отчаянием спросила его майорша. – Скажите, что?
– Стрелять! В цепи! – Ардатов встал, собираясь уходить, но его позвали, его, конечно, позвали:
– Товарищ капитан! А, товарищ капитан!
И под Уманью, и под Вязьмой, и в других местах он насмотрелся таких вот тяжелых и безнадежных, которых вывезти было нельзя. Прямо ли в спелой пшенице, под прошлогодним ли стожком, в овраге ли, на опушке или поляне такие тяжелые, очень мало зная об обстановке, но как-то чувствуя ее, спрашивали каждого, кого могли, не бросят ли их. И, конечно же, тут его тоже об этом спросили:
– Не кидайте нас! Вы уж не кидайте нас. За ради Христа, – говорил ему рыжий, крупный красноармеец. Он лежал на спине и из-под гимнастерки виднелись полосы бинтов, которыми были замотаны его грудь и живот. Он дышал тяжело, хрипло, в груди у него булькало простреленное легкое. – Пропадем ведь, коль кинете. Пропадем, – убеждал он Ардатова. – А у меня дома пятеро, а старшему и шашнадцати нет. К зиме только будеть. Нужон я им, товарищ капитан. Ведь когда позвали в армию, пошел же я, дня лишнего не потерял. Как же теперь нас кидать! Не за ради себя мы изнегодились, так что…
– Брось! Брось плакаться! – перебил его один из тех четверых, кого Ардатов не подбирал по дороге от мостика, кто был ранен еще накануне, кого докторша не довезла ночью.
– Жмет? Жмет он, товарищ капитан? Как думаете, удержимся? – спросил еще кто-то.
– Остались считанные часы. Ночью отойдем. Вывезем всех. Спокойней. Сдайте патроны сестре, – сказал всем Ардатов, в том числе все еще спавшему по-младенчески после укола Тягилеву.
«Как пчела творит мед», – бормотал он, возвращаясь от раненых и рассеянно натыкаясь на углы ходов сообщения.
Ах, дед-дед! Да ведь не так все, хотя и сказано красиво. Не человек вообще, а конкретный персонаж. Потому что зло и добро не существуют вообще. Они конкретны, как… как истина конкретна. «Что есть истина?» Хотя бы то, что ты понимаешь под добром и злом. Кому хочешь добра. Кому несешь зло. Вот для этих гитлеровцев – он смотрел на серо-зеленые тела убитых немцев – было добро дойти сюда, а для тебя, дед, – и для меня – это – зло. А ты абстрактничаешь. Эх, дед – дед! Прожил столько, и все во святом младенчестве. Нет, дед, что добро для нас – это не добро для них. Они сейчас творят, как змея творит яд!
«Но я им сотворю! – ожесточенно подумал он о немцах. – Только бы не убило сегодня, – подумал он. – Только бы добраться до полка да получить батальон… Как пчела творит мед!.. Но если они прорвутся в траншею, они, гады, перестреляют раненых…»
У него в голове мелькнули всякие разговоры тех, кто был у немцев в плену и вырвался, как они, эти пленные, рассказывали о том, что делали немцы с ранеными. Одни говорили, что немцы пристреливали раненых, другие, что когда были здоровые пленные, немцы заставляли здоровых забирать раненых с собой. Но что-то он не вспомнил, чтобы кто-то из бывших пленных рассказывал, что немцы сами заботились о раненых пленных.
– Только бы добраться до полка! – пробормотал он вслух, отчего Чесноков, который шел за ним, спросил:
– Вы это мне? Не понял, товарищ капитан.
Чесноков покраснел от стеснения.
– Не понял? А что ты вообще понимаешь? Что? – Чесноков смотрел на него так растерянно, то у Ардатова оттаяла душа. – Ладно, не сердись. Это я так. Собери всех людей. Раненых тоже – кто может. Туда, где телефон. Быстро! Бегом!
Он пошел дальше и выругался, услышав опять нелепости Талича.
– Ванятка! Ванятка! Ваня-я-ятка? – тонко, по-козлиному, блеял Талич. – И где это ты запропастился? Ванятка!
– Ась? – ответил за Ванятку сам же Талич. – Я здеся, маменька.
– Иде здеся? Иде здеся? Нигде тебя не видать.
– А вы на антресоли гляньте! Я тама. Тамочки. С Машенькой. Уж коль ее сегодня к венцу повезут, уж коль все так сложилось, хоть напоследок с сестрицей посижу.
– Чай наревелись там, на антресолях, – недовольно сказал басом за папеньку Талич. – В церковь с зареванными глазами разве гоже? Чего люди-то скажут? Не по воле, мол, идет! У, дура стоеросовая!
Когда Ардатов, еще в овраге, у моста первый раз услышал, как разговаривают Талич и Васильев, и понял, что Талич – актер, что он все время играет в какую-то другую жизнь, в жизнь своих персонажей, тех людей, в которых он перевоплощается, говоря театральным языком, он почувствовал раздражение; все эти диалоги, весь этот театр показались ему явно не к месту и не ко времени, но, подумав, он в душе махнул рукой. «Пусть себе! Не мешает же это ему делать все, что он обязан делать – идти с ним к переднему краю, то есть быть солдатом на войне, а то, что он остается еще и актером, в какие-то минуты живет не солдатской жизнью, это его личное дело, на которое он, как и каждый человек, имеет право».
«Пусть! – подумал тогда он. – Даже как-то веселее. Нельзя же только и думать о немцах. Так с ума сойдешь. Нет, пусть он играет, пусть оба играют. С ними смешнее жить».
Он тогда подумал еще, что вообще все актеры просто не живут, что профессия актера заставляет их играть и в жизни – они и к ней вроде бы на большой сцене, они и в ней то и дело видят и слышат себя со стороны и поэтому то и дело подправляют себя, чтобы сыграть лучше.
«Как для летчика жизнь – это небо, на земле он или только слетел с нею, или должен лететь в него, так для артиста жизнь – сцена, и он все время должен играть на ней», – решил он.
Но то было в овраге, поздним вечером, вдали от немцев, поэтому было как-то объяснимо, а игра в Ванятку здесь, в траншее, перед убитыми немцами и своими, ну никак не оправдывалась.
– Так и так не по воле, – возразил Талич. – А за денежки, за копеечки, за бумажечки… Бу! Бу! Бу! – заревел он за Машеньку. – Не хочу жениться, а хочу учиться!..
– Кончайте! – сказал Ардатов, еще не доходя до Талича. – Кончайте! – Он подошел к Таличу вплотную. – Балаган какой-то! – Он вглядывался в лицо Талича, но Талич выдержал его взгляд.
– В уставе это не записано – «балаган». И вы бы, товарищ капитан, – Талич усмехнулся, – вы бы повежливей все-таки. А то от «балагана» до мата одни шаг, а от мата до кулака тоже один. Вы что, хотите, чтобы я отвечал вам: «Виноват, ваше благородие?»
Ардатов смигнул, посмотрел в сторону, и Талич совсем по-другому попросил:
– Закурить не угостите?
Талич был молод – ему только-только минуло двадцать, он не был злопамятен, и, почувствовав, что Ардатов не хвалит себя за этот «балаган», беря у него папиросу, он, наверное, чтобы исправить неловкость, проиграл Ардатову еще одну сценку:
– Наливай!
– Что угодно-с?
– Пару пива!
– Сей секунд-с!
– Наливай!
– Чего угодно-с?
– Раков!
– Сей секунд-с!
– Наливай!
– Чего угодно-с?
– Моченого гороху!
– Горошку нет-с. Поиздержались. Не угодно-с ли семужки-с?
– Как нет гороху! – загрохотал Талич. – Трактир это аль нет? Хозяин! Да от вашей семужки одна изжога!..
– Ну ладно, ладно, – остановил его Ардатов. – Тебе бы в ансамбль. А здесь, понимаешь, все-таки не к месту все это.
– Понимаю, – вдруг согласился Талич. – Это я от страха. Ведь жуть! – Он показал на сгоревшие танки и убитых немцев. – Все эти декорации! Тут, брат, тут товарищ капитан, не шекспировские драмы. Тут они покрупней!..
Видимо, и правда Талич трусил. Но трусил пристойно, не теряя лица, как не теряли лица многие, почти все – один сосал погасший окурок, другой углублял окоп, чтобы чем-то занять себя, третий наводил ненужный порядок в вещмешке, перекладывая там мыло, портянки, полотенце, запасную пару белья, четвертый ни к чему перетирал патроны – каждый прятал страх, загонял его подальше в себя, стыдился его, старался сдержать дрожь пальцев, сжимал зубы, чтобы не тряслась челюсть, стискивал в кулаке саму душу, и в этом-то и было настоящее мужество – подавить в себе ужас, который рождало все то, что было перед глазами каждого, «перед смертоубийством», как определил войну Просвирин.
– Ничего… – протянул Ардатов.
– Как думаете, продержимся? – спросил Талич, разглядывая носки своих ботинок. Голос у него задрожал, и он, сразу же откашлявшись, поправил голос и повторил тверже: – Продержимся?
– Это будет зависеть от нас. От всех нас. – Ничего другого Ардатов сказать не мог.
– И от них, – уточнил Талич, кивнув на подбитые танки, как на представителей всех тех, кого он назвал, сказав, «от них».
– Тоже верно, – согласился Ардатов. – Но главное, не недооценивай себя. Ведь стоят же! – Ардатов повторил жест Талича, кивнув на танки.
Всего в каких-то пяти шагах от Талича и Васильева в лисьей норе, не помещаясь в ней, так что ноги до его колеи были наруже, лежал убитый. Кто-то, может быть, даже сам Талич, прикрыл его шинелью.
Талич посмотрел на этого убитого.
– Стоят. Это верно. И лежат. – Он сложил руки на груди. – Не так ли?
Ардатов оперся спиной о бруствер, пососал погасшую папиросу и, прикуривая ее от папиросы Талича, предложил:
– Есть другой вариант.
– Какой? – быстро спросил Талич, а Васильев, переступив два шага, придвинулся поближе.
– Отойти.
– Куда? Куда отойти? Когда? Правда, есть такой вариант? Куда отойти?
Ардатов пожал плечами.
– Сначала за Волгу. Потом к Уралу. Потом к Лене. Потом к Охотскому морю. Если раньше японцы не загонят к Верхоянску.
Талич отодвинулся и отодвинул Васильева.
– Этот вариант не подходит. И так – «заманили» куда!
В этом «заманили» звучало не только то, что Талич слышал ночью, но и пренебрежение к тем, кто «заманивал».
– Тогда о чем разговор!
Ардатов тяжело посмотрел поочередно на каждого из них. Они молчали. Ардатов должен был что-то добавить. Он, повторив усмешку Талича, приподнял подол своей гимнастерки, так что задрался и ремень и над брюками открылась майка.
– Здесь тоже нет пуленепробиваемого жилета. Моченый горох, раки!.. Ты покажешь, как не надо «заманивать»?
Он пошел, и Талич и Васильев потеснились, пропуская его. Но, передумав, Ардатов остановился.
– Как гобой? – спросил он Васильева. – Цел?
– Цел. – Васильев пожал плечами. – Гобою что…
– Поиграли бы, – предложил Ардатов. – Так, не очень громко, но все же… Надо подбодрить людей. Устали все…
– Но что? – Васильев повторил его слова. – К месту ли все это – музыка?..
– К месту, к месту, – подтвердил Ардатов. – Так что прошу, поиграйте.
– Но что? Что? Марши? Бодрые песни? – не знал Васильев.
– Решайте сами. Подумайте, что вы можете сделать для людей – для всех нас…
Возле Старобельских его встретил Кубик. Он ткнулся в ноги и замер, требуя, чтобы его потрепали.
– Ну, ну, ну! – гладил его Ардатов. – Нам бы с тобой в лес! Ну, ну, ну! Эх, Кубик, Кубик. Кто ж виноват, что все так получилось!..
– Она не ела, она почти ничего не ела! – сказал ему Старобельский. – Как я ни уговаривал, вот, – он показал на Надину еду, которая лежала на бруствере, прикрытая тряпочкой от пыли. Тряпочку, чтобы не отдувало, прижимали две обоймы с патронами. – Повлияйте на нее, Константин Константинович, – попросил Старобельский. – Нужны силы, как же без пищи. Я тоже кое-как проглотил, но все-таки…
– Зря, Надя, зря. Надо поесть, – поддержал Старобельского Ардатов. – Впереди еще много чего. Поешь.
Надя покачала готовой.
– Нет.
– Может попозже?
– Может.
– Кубик небось все слопал!
Надя улыбнулась.
– То Кубик!..
– Ты молодец. Ты хорошо воюешь. Спасибо. И дальше так, только так! А если можешь, лучше! – сказал он ей.
За этот неполный день Надя как будто выросла, как будто в минуты и секунды этого дня она пережила сразу несколько лет – лицо ее осунулось, глаза запали, в углах скорбно сжатого рта легли складки. Она рассеянно крутила кончик косынки.
– Пожалуйста, – автоматически ответила она. – Как все-таки это все ужасно!
– Нда!.. – протянул он. – Что ж, война есть война. И добро не должно быть пассивным. Как вы считаете, Глеб Васильевич?
Старобельский шевелил бровями, то поднимая их вверх, отчего ого лицо сразу приобретало выражение нерешительности, безвольности, скорби, то сдвигал их к переносице, и тогда на лбу у него прорезалась поперечная складка, на виске надувалась вена, и лицо приобретало волю, сосредоточенность, силу. Но он тоже основательно сдал за этот день. Он весь как-то обвис – голова была опущена, плечи тоже опустились, глаза полузакрылись, а борода как-то странно, как-то наискось, растрепалась, и все он делал медленно: поднимал ли голову, руку ли, открывал ли глаза. К тому же у него на одной сандалии верх оторвался от подошвы и из-под ремней торчали старческие пальцы с желтыми ногтями.
– Как христианин, гм, гм, я, извините, Константин Константинович, против убийства. Да!.. – твердо сказал Старобельский. – Но эта война, на мой взгляд, святая. Мы, Надя, обороняемся как от татарского нашествия, как наши прадеды, мы же говорили об этом. Посему… Посему от меча и погибнут…
– Все равно все это ужасно!
Мысли, заложенные в словах и деда и его, Ардатова, сейчас как будто облетали Надю, ее ум не воспринимал их, потому что был отодвинут, загорожен чувствами. Эти чувства следовало смять, выбить.
Ардатов обнял Надю за плечи, сильно прижал к своему боку, к груди, почувствовал, как все в Наде бьется, и жестко сказал:
– Не раскисать! Ты сказала, что пришла защищать Родину. Сказала? – Он приподнял, взяв Надю за подбородок, ее голову. – Будь же достойна своих слов! Никто тебя сюда не посылал, не звал. Но раз пришла, раз с нами – будь как все! Как все! И чтоб никаких жалоб! Вот так! Ты для нас – только снайпер. И спрос с тебя будет, как со снайпера. Помни, ты защищаешь не какую-то отвлеченную Родину, а вот это, – он взял в горсть землю с бруствера. – Их! – он показал на красноармейцев, потом постучал себя пальцем в грудь. – Меня. А эти, – он кивнул в сторону убитых немцев, – получили то, что им положено. Или тебе теперь и их жалко? Нет? Что ж, может, и жалко, может, среди них были хорошие, добрые люди – рабочие, крестьяне, учителя. Но с той минуты, когда они стали гитлеровцами – они наши враги. Насмерть! Насмерть! Надя! Вспомни мать! Вспомни Кирилла!.. Вспомнила?
Она кивнула, подтверждая, что все понимает, что полностью с ним согласна, что вспомнила мать и брата, но, освободившись от его руки, все ниже опускала голову, и слезы капали ей на тапочки и на глину.
– Ладно, друг! – сказал он ей так же, как Белобородову, и, потрепав по плечу, повернувшись уходить, приказал:
– Товарищ снайпер! Приготовиться к бою!
– Товарищи! – начал Ардатов, посмотрев в обе стороны по траншее и в ход сообщения, где сидели вплотную все, кто остался. Их осталось, как доложил Чесноков, сорок шесть душ.
– Товарищи!..
У этих сорока шести душ были усталые, грязные от пота, пыли, порогового газа лица, почти равнодушные ко всему глаза. Они сидели молча, многие, уронив головы, опустив руки на колени, на окопную глину. В перепачканном, раздерганном обмундировании, многие без пилоток, а кое-кто и без ремней, они не очень-то, на первый взгляд, были похожи на красноармейцев-орлов и совсем уж не напоминали тех плакатных, сильных, чистых, подтянутых воинов, которых дети и женщины призывали: «Спаси!». Но все они пришли с оружием, которое или стояло рядом с каждым или лежало на коленях, и для Ардатова это был главный показатель. На все остальное сейчас можно было наплевать.
– До заката, до захода солнца осталось часа два, может, чуть больше. Но может, и всего два часа. Как только стемнеет, мы берем раненых и отходим. Направление движения – на северо-восток. Туда, – Ардатов показал, куда. – Всем меня слышно?
Он подтолкнул под ноги пустой патронный ящик и встал на него, покосившись на бруствер. Бруствер не закрывал половину головы, и он наклонил ее. Но и так ему было лучше видно их всех. Красноармейцев: Щеголева, Васильева, Белоконя, Талича, сестру, которая стояла на коленях рядом с майоршей, Рюмина, неловко вытянувшего ноги, Старобельского и Надю, смотревших на него с каким-то особым вниманием, старавшихся не пропустить ни одного его слова.
– Слышно!
– Чего там! Слышно, – ответили ему.
– В темноте отойдем к своим. На соединение к своим. За ночь мы обязательно к ним выйдем. Да что там за ночь! – поправился он. – За какие-то два-три часа. Как говорит лейтенант, – он показал на Рюмина, – километрах в десяти за Малой Россошкой много наших частей. Так что если считать от сейчас, от этих минут, часа через три, самое позднее, четыре, будем у наших.
В траншее, в ходе сообщения пошевелились, прошло какое-то общее движение – кто удобнее сел, кто поправил оружие, и Ардатов в паузе, которую он сделал, услышал то, что знал, что услышит.
– До заката он еще сто раз… Надо дожить до заката-то…
Он подождал, давая возможность им высказаться, вытолкнуть из себя, как опростать душу от того зловещего, что было у каждого в душе – что до заката им не продержаться.
– А у кого есть другие предложения! – вдруг выкрикнул Белоконь. – Говори! Может, дельное что скажешь? Нету? Тогда сдохни, а держись! Вон, видите?
Над ними, на бреющем, прошла четверка Ил-2. Защитного цвета, с круглым туловищем и горбатой от кабины стрелка-радиста спиной, они проревели над траншеей, и воздух, отброшенный их винтами, сбивал на ее дно комочки подсохшей глины.
– Музыка – туш!
Ошалело, во все легкие, сбиваясь с такта, Васильев повторил два раза туш, но потом выравнялся и, лишь грустно всхлипнув гобоем, заиграл «На сопках Манчжурии».
«Ну, родные! – сказал мысленно Ардатов самолетам, глядя, как сжимаются они, удаляясь, – всыпьте им! Мы уж как-нибудь, а вы им – дайте! Вот так!» – похвалил он чуть позже, когда Илы, заложив вираж, начали бить по чему-то, что было за высотой, из-за которой и лезли на них немцы и танки, и что не было видно ему. Но по черному дыму, поднявшемуся из-за гребня сразу в нескольких местах, каждый мог догадаться, что Илы не мазали.
– Еще! – подбадривал Ардатов летчиков. Еще заходик! Хорошо! Еще один! Так! Ага, и там загорелось! То-то! – Он обернулся к Васильеву. – Играйте! Играйте, Васильев! Отличная музыка! Талич! Ты тут? Хорошо. Играйте, Играйте, Васильев, играйте. Ах, дьявол!
– Товарищи! – крикнул он всем. – Вы видите, нас прикрывают! Нас поддерживают! И помните, за спиной у нас артдивизион – десяток пушек, которые не подпустят к нам немцев. Помните, каждый на своем месте – до последнего патрона! Мы должны продержаться до ночи!
С ящика он видел, как его люди, стоя вплотную у передней стенки траншеи, напряженно следили за тем, что делали Илы, и никто ему на все его слова ничего не ответил, да он и не ждал ответа, не в ответах было дело.
Конечно, чем дольше бы висели Илы над немцами, тем было бы лучше, – тем меньше бы у немцев осталось бы времени, чтобы атаковать. Но каждая лишняя минута, что Илы были над целями, могла стоить летчикам жизни: немцы наверняка сообщили на свои аэродромы, и, может быть, к этому месту уже жали их истребители. Четверка тихоходных штурмовиков, которые могли отбиваться всего лишь четырьмя же пулеметами, потому что пушка стреляла только вперед, была бы для них легкой целью. Но и судя по тому, что штурмовики все летали над небольшим участком за высотой, они, наверное, тоже нашли лакомый кусок, и они работали там на бреющем, летая друг за другом, и Ардатов слышал, как далекие хлопки, выстрелы их пушек.
За высотой горело в десятке мест, и Ардатов, радуясь этому, тревожно оглядывая горизонт, не подходят ли немецкие истребители, начал уже говорить про себя летчикам:
«Все! Все, ребята! Ходу, ходу, домой!»
Будто послушавшись его, штурмовики все вдруг сделали разворот на восток, сблизившись, стали в две пары и двумя парами пролетели чуть правее их.
«Счастливо добраться, – пробормотал им вслед Ардатов. – Спасибо вам, ребята! Час? Полтора? – подумал он о том, на сколько Илы задержали атаку немцев. Было без двенадцати шесть. – Черта с два они дадут тебе полтора часа! – сказал он сам себе. – Они вот-вот полезут. Что их там, мало осталось?»







