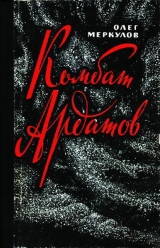
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Как можно громче кричать свои политические лозунги, – ответил Малюгин и стал обуваться.
Он обувался не торопясь и посапывая.
– Нда!.. Нда! – радостно протянул Ардатов. – Нда… Если смотреть именно так…
– Только так и надлежит смотреть! – резко, как бы приказывая, прервал его Нечаев. – Что же им остается? – переспросил он и сам же ответил: – Ничего, кроме как маневрировать тем, что у них есть. Латать тришкин кафтан – резать отсюда, чтобы зашивать там. Но ведь долго не наманеврируешь! Когда-то да запоздаешь, и вот тебе и удар в жиденький фланг. Мы ведь тоже насчет Канн обучены. Знаем и обход, и двусторонний охват, и теорию глубоких операций. Придет время…
На улице загудела, завыла сирена воздушной тревоги.
– Нас утро встречает прохладой, веселою песнью гудка! – пропел слегка фальшивя полковник Малюгин, надевая китель, поданный адъютантом, и застегивая пуговицы на выпуклой, как сегмент бочонка, груди. – Литературный вечер считаю законченным, – объявил он торжественно. – Ну, братцы! – он подал Нечаеву руку. – Спасибо за кров. И всего одна просьба, Михалыч, всего одна! Передай нач-арту, что если будет досыта давать снарядов, у меня он не пройдет. Сам понимаешь, пехоту мы можем держать штыком, прикладом, руками, от самолетов зароемся, но против танков нужны снаряды. Замолви насчет этого словечко, добро?
Нечаев приподнялся, не выпуская руки Малюгина.
– Добро. Замолвлю. Ну, а если не будет снарядов досыта? – Он строго блестел стеклышками на Малюгина. – Если не будет, если не сможем обеспечить, что тогда? Пропустишь танки? Чтобы они и тут вышли в наши тылы? И заставили опять оттягиваться восточней?
Малюгин крякнул, повел шеей, воротничок явно жал ему, сбычился, отчего маленькие глаза загорелись свирепо, а на щеках заходили желваки.
– Тогда и их будем держать руками! Ляжем под гусеницы костьми! – буркнул он и зашагал, скрипя половицами, к двери.
– Вот именно, – сказал ему в спину Нечаев. – До встречи. Ждем хороших вестей… Подведем итоги. Первое, немцы в прошлом году наступали пять месяцев и дошли до Москвы, в этом наступают пока два. Второе, их фронт наступления в пять раз меньше прошлогоднего, Третье, этим летом они продвинулись на восток в два раза меньше. Вдумайтесь в эти пропорции.
– Да! Да! Да! – радостно задакал Ардатов. – Скисают, извините за это слово, скисают, Варсонофий Михайлович.
Нечаеву все равно не поправился глагол «скисают».
– Не надо так, не надо так, Константин Константинович. Скисают щи, скисает молоко, еще что-то может скисать. А здесь ведь кровь, смерть, горе наших людей, горе страны. Прошу вас, не надо так. Школьникам бы вы так не сказали, – укорил он.
– Простите. – Ардатову стало стыдно. – Как-то вырвалось. Простите. Я вам очень благодарен за этот разговор. Поверьте, я…
Нечаев устало махнул ладонью.
– Это тоже лишнее – не будем тратить времени на благодарности. Лучше закончим. Малюгин прав не только насчет «уйди-уйди», хотя сравнение очень точное. Он прав и в том, что им не удалось уничтожить нашу группировку, они лишь основательно потрепали нас. Но оттесняя нас к Волге, они сжимали нас как пружину, но чем дальше они давят эту пружину, тем их усилие становится слабей, а сопротивление пружины нарастает, и рано или поздно пружина сорвется, ударит.
Опять положив руку ему на плечо, Нечаев теперь не сжимал его, а лишь несильно давил, как будто для того, чтобы контакт между ними был лучше.
– Видите, если вдуматься, то победы немцев меркнут. И у нас, и в Африке, выигрывая сражения, немцы проигрывают войну. Это неизбежно – Гитлер ради политических целей – мирового господства – бросил свою маленькую Германию против мира, и половина мира уже воюет против Германии. Разве не ясно, что разгром немцев неизбежен? Поэтому их прорыв к Волге – для нас трагедия, для них – катастрофа. Их победы здесь – не победа в войне. Понятно? Мы – страна – устояли и устоим, а значит, рано или поздно и победим. А сейчас – спать!
Нечаев зашевелился, нажал кнопку фонарика.
– Не хотите ли еще рюмочку? Что-то не действует, сон как будто приходит, но сразу же и отлетает. И опять мысли, мысли, мысли. Скачут, отталкивают друг друга, торопятся. Если бы можно было выключить их.
Нечаев без пенсне близоруко щурился.
– Налейте, будьте добры.
Ардатов налил.
– Переутомление. Вам бы надо хорошенько отоспаться. Может, все-таки примете снотворное? Половину дозы?
– Пожалуй, голубчик, надо. Дайте водички. – Нечаев откусил половину таблетки. – Какая гадость! Вот так. Минимум отдыха, максимум работы, кофе, кофе, кофе – живем на износ. Иного выхода нет. Нет, голубчик, пока нет.
– Тормози! Тормози! Стой! – скомандовал Ардатов. – Сейчас он нас!.. Прыгать!
Шофер, удерживая правой рукой руль, левой распахнул дверцу, высунулся из кабины, чтобы увидеть, что там – сзади, прохрипел «Господи!», рванул ключ зажигания, ткнул что есть силы педаль тормоза, отчего полуторку занесло, и выпрыгнул на дорогу.
Одновременно с ним, сдернув с сидения вещмешок, спрыгнул и Ардатов. Ему это было сделать легче – он стоял на подножке и, держась за борт и кабину, следил, как «юнкере» снижается из виража на дорогу и как, догоняя их, все увеличивается и увеличивается в размерах, как будто бы растет на глазах.
Видимо, «юнкерс» начал бить в ту же секунду, – падая в ковыль, Ардатов услышал, как зачпокали по полуторке пули. Несколько осколков от бортов пролетело перед ним, а несколько щепок ударило и по нему: по ногам и спине. Но это было мелочью – «юнкерс», накрыв их гулом, мелькнул над ними, а полуторка все катилась к обочине.
«Пронесло! – подумал вслух Ардатов. – Вот дьявол! – Он приподнялся и посмотрел туда, куда улетел „юнкерс“. – Нет, не вернется, – решил он. – Это они так, по пути: машина на степной дороге – цель заманчивая, а патроны остались, вот они… Жмут, сволочи, к аэродрому, чтобы перезаправиться и перезарядиться, да переговариваются – „Попали или не попали?“», – подумал он о летчиках, представляя их себе в кабине.
Разыскав мешок и подхватив его под лямки, он пошел к машине.
– Все! – всплеснул руками шофер, давая ему заглянуть под капот. – Попал в трамблер. Отъездились. Если бы по резине, я бы поставил запаски, а трамблеров… Да еще и в карбюратор! Видите? Не повезло нам, товарищ капитан!
Ардатов, постукивая сапогом по скату, раздумывал – идти ли дальше пешком или заночевать у машины. «Идти, – решил он. – Дотемна еще часа полтора».
С кабины было видно далеко, и, разглядывая в бинокль все, что лежало не только перед ним, но и глубоко назад на флангах, Ардатов видел, что спереди – справа, и очень далеко, идет, затихая, бой – над этим куском земли еще летали самолеты. В бинокль с такого расстояния самолеты казались рыбками-мальками – их серые, веретенообразные тельца то двигались по небу, то падали с него, пикируя. Так как ветер дул в ту сторону, взрывов не было слышно, но пыль и дым от них поднимались высоко и были заметны и без бинокля.
«По второму эшелону, – подумал Ардатов. – Для сегодняшней атаки поздновато. Готовят рывок на завтра? А может, хотят сделать последний рывок сейчас?»
– Ишь, врезал! – бормотал у него за спиной шофер, осматривая в кузове повреждения. – Не брезент, а сито. Куда он теперь годится? Поглядите, товарищ капитан.
– Я видел, – не оборачиваясь, ответил Ардатов. – Может, можно починить? Да и до дождей еще… еще далеко. – Он мог бы сказать «Да и до дождей надо дожить», но не сказал.
– Что у тебя под ним? Боеприпасы?
– Э, нет! – возразил шофер. – Гранат всего два ящика, остальное – харч. Хлебушко, консервы, сахар и концентрат. Нукося, как они?
Шофер зашумел брезентом, отвязывая его от бортов и откидывая с груза.
– Консерву да хлебушко и с дырками съедят, а вот сахарок он, сволочь, мне просыпал. В чего бы его собрать? И чем заторкать дырки?
– Дашь немного? – спросил Ардатов, разглядывая в бинокль небольшие группки людей далеко перед собой. Люди с такого расстояния были просто палочками, едва заметно перемещающимися по дороге. Различить, немцы ли это, наши ли, Ардатов не мог, но, подумав, что немцы не будут ходить такими группками, оторвавшись от своих, а разведку здесь, в степи, днем они послали бы на мотоциклах, Ардатов уверился, что это наши, и, прикинув дорогу по угловым делениям бинокля, сказал себе: «Я их встречу примерно там…»
– Так дашь немного своего харча? – спросил он еще раз, слезая с машины. – Или не можешь?
Запыленное худое лицо этого пожилого шофера было растерянным, он смущенно смотрел вбок, стараясь не встречаться своими выцветшими, почти водянистыми глазами с глазами Ардатова, и разглаживал в руках чистую майку, в которую он собирался собрать просыпавшийся сахар.
– Не могу, товарищ капитан. Вот… Вроде бы и много, так ведь не мое же? Кабы мое! А так… По весу ведь принял! Все записано. Как я потом? Скажут: а по квитанции больше!..
Ветер переменился, и оба они вдруг услышали, как далеко впереди, справа от них, глухо рвутся бомбы. Они посмотрели туда, послушали, и шофер, перестав, наконец, разглаживать майку, начал завязывать ее подол в узел.
Ардатов вскинул на плечо вещмешок.
– Ясно. Ты в машине не спи. – Он не дал ничего возразить шоферу, который посмотрел на него с удивлением. – Утащат. Немцы утащат. Сплошного фронта здесь нет – они и мы маневрируем. Разрывы между частями – километры: для разведчиков благодать! Ты что, думаешь, у них нет разведчиков? Или их разведчики дураки? А слева наших вообще не видно.
– Да нет! Чего ж так думать? – возразил шофер приглушенно, как если бы эти немецкие разведчики-недураки уже шастали где-то поблизости. – Я…
– Как стемнеет, возьми карабин, побольше патронов, расположись там. – Ардатов показал место сзади – справа от машины метрах в двадцати, в невысоком, но густом ковыле. – Ночью от машины будет вонять за версту, и они могут выйти на нее.
– И сожгут? – открыл рот шофер и не закрывал его долго.
Ардатов покачал головой.
– Вряд ли. Зачем себя демаскировать! Машина им не нужна. Им нужен ты – язык. – На этом месте шофер и закрыл рот, как бы пряча свой, очень нужный немцам, язык. – Но бензин слей в ведро. Залить обратно недолго. Главное, чтобы завтра твой харч не попал немцам: наши отходят. Так что если придется, решение принимай сам. Спички есть? Хорошо. Жги – не жалей. Если не сможешь раздать, – уточнил он. – Нельзя, чтобы немцы набивали кишки нашей едой, а мы… а наш солдат воевал на сухаре да водичке. В общем – действуй.
Ардатов не стал досматривать, как, соображая, мигает шофер, и пошагал, усмехнувшись, вспоминая, как испугался шофер, что его, сонного, утащат из кабины.
Он прошел метров сто, когда услышал, что шофер его зовет: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Шофер бежал, прижимая к груди банки консервов и хлеб.
– Нате! Семь бед – один ответ. В крайности скажу: сам съел. Чего уж тут жилиться! Правда ведь, товарищ капитан? Правда? – с радостью и отчаянием допытывался шофер.
Видимо, шоферу нужно было его одобрение, и Ардатов, развязывая горловину мешка, кивнул:
– Правда. Правда. Сермяжная, брат, правда. Минутку! – Он достал из вещмешка три пачечки патронов к «ТТ», сунул две в задний карман брюк и одну в правый гимнастерки и скомандовал: – Сначала консервы. Чтоб не помять хлеб. Спасибо. Спасибо, что и подвез. Ну, – он протянул шоферу руку, – будем живы.
– Будем. Будем, товарищ капитан! – восторженно и приглушенно опять, как при разговоре о немцах-разведчиках, откликнулся шофер.
– Главное – не лезь на рожон, им только это и надо. Но и не трусь.
Махнув еще раз рукой шоферу, Ардатов пошел у края дороги – там было меньше пыли, – пошел сначала медленно, разогреваясь, потом прибавляя ходу, пока не набрал нужный, спокойный и в то же время хороший, ритм.
Вот эта пыльная дорога, одиночество на ней, садящееся солнце, треск кузнечиков в бурой, усохшей, жесткой даже на взгляд траве, и этот его пеший марш составляли последний отрезок пути: госпиталь – часть.
В полку, в батальоне должна была начаться новая жизнь, жизнь комбата на фронте, но пока – еще несколько часов – он принадлежал себе, был свободен.
Он мог идти, но мог и сесть передохнуть – перекусить, он мог даже, отойдя с дороги на сотню-другую метров в ковыль повыше, завалиться и подремать. Кто упрекнул бы его в этом? Разве что солнышко? Но оно, скатываясь к горизонту, уже даже не жгло, а лишь приятно бы грело, если бы он и правда завалился на песок.
– Давай, давай! – сказал он солнышку. – Грей. Впереди сентябрь, октябрь, ноябрь и тэдэ! Брр, – представил он себе эту степь в январе – морозище, стылая, как кирпич, земля да ледяные ветры. – Брр! В спину дует, а через грудь выходит. Давай, солнышко, грей!
Он мог петь, свистеть, покуривать. Он мог все – еще несколько часов мог все! В том числе и думать о чем угодно. Необязательно же он был обязан думать только о своем назначении и вообще о войне и обо всем, что с ней связано! Он мог думать о чем угодно! Хоть о папуасах! Или о китах! Или о красивых женщинах! Или о сушеной вобле к пиву! Или о том, что вся эта плоская, несмотря на увалы и высотки – все-таки плоская степь, лишь часть поверхности шара!
Еще когда он был подростком, отец научил его видеть землю не плоскостно, но шаром, так что каждая часть земли была лишь большим или маленьким куском этого шара. Они с отцом бывали в горах и ночевали там, и Ардатов в подзорную трубу рассматривал звезды и луну, и если звезды в трубе не менялись – они смотрелись только чуть крупней, чуть ярче, – то Луна виделась громадным, щербатым от кратеров шаром, висевшим, чуть покачиваясь, в черной бездне. Смотреть на такую луну так, чтобы не замирало сердце, было нельзя: казалось, что на ней тоже кто-то есть, кто, может быть, в свою очередь смотрит и на них, на землю, на землян. Так вот, отец, разговаривая с ним на все эти темы, спрашивал: «Но, предположим, кто-то и правда смотрит на нас. Что он увидит? Тоже шар, на котором в океанах лежат материки: Евразийский, Африка, обе Америки, Австралия»…
Днем они с гор смотрели в степь. Из-под пика Чкалова, – они выходили к нему через Талгарский перевал, – были видны прибалхашские степи. Иногда казалось, что у отодвинутого горизонта и синеет Балхаш, который, он знал точно, лежит в этой части степи и в которой там-то и там-то текут Или, Каратал, Аксу, Лепса. Дальше за Балхашом и в стороны от него лежала его страна, а в стороны от нее в свою очередь лежали – на запад – Европа, а на восток – Тихий океан.
Прижимаясь к теплой скале, чувствуя, как нависает над ним громада пика Чкалова, он ощущал спиной этот пик лишь как часть Заилийского Алатау, который суть лишь часть Тянь-Шаня, а Тянь-Шань, в свою очередь – ветвь Памира. Он представлял, как от Памира в четыре стороны – в Тибет, Индию, в Афганистан отходят Гималаи, Гиндукуш, Куэньлунь. Пик Чкалова стал в его жизни той точкой отсчета, от которой, начинаясь здесь, расходилась вся земля, образуя шар. Именно от пика Чкалова он и научился видеть ее шаром.
Потом, в армии, полетав несколько раз на военных У-2 и Р-5 над Украиной и над западной Россией, где не было больших, загораживающих гор, он еще дальше увидел, как под небом расходится на триста шестьдесят градусов земля, загибаясь вниз у горизонтов. После этих полетов он научился, он мог уже, лежа на траве, в любом месте видеть всю землю как шар, со всем, что, он знал, есть на нем.
Когда Нечаев заговорил о немцах в Африке и Европе и здесь, в сталинградских степях, Ардатов увидел Африку – континент в виде щита, сколотого на юго-востоке, что возле этого скола, как лодка, на якоре, стоит Мадагаскар, как по Африке текут поперек нее Конго, а вдоль Нил, где в Африке леса, а где Килиманджаро, где саванна переходит в пустыню, как там, и там, и там, и там – в разных местах – живут негры – высокие, стройные, и пигмеи, совсем черные и посветлей.
Он увидел все это, как если бы вдруг взлетел над Африкой так высоко, что мог видеть сразу всю ее – от океана до океана – и в то же время любой метр ее площади, будто через тысячекратный телескоп или своим, неимоверно обострившимся зрением. Он как бы провел глазами по Африке, замечая все, и вздрогнул, когда увидел, как вдоль ее северного побережья, от Средиземного моря на какую-то ширину вглубь, от Триполи, через Ливийскую пустыню к Египту вытянулась темная немецкая стрела, широкая у основания, сужающаяся к наконечнику, как рисуют эти стрелы на военных оперативных картах.
То ли спустившись ниже, то ли увидев лучше, он различил под стрелой людей и армейскую технику – танки, машины, пушки, минометы, находящиеся в движении, и что над всем этим летают, как стрекозы – поодиночке и стайками, самолетики. Немцы на светлом песке увиделись ему темными, и вся их техника тоже темной, а англичане светло-зелеными, хотя все там, в Африке – и люди и техника – были, конечно, песчаного, маскировочного цвета.
Он увидел, как англичане удерживают наступающих немцев, и перенесся через Средиземное море, как пролетел над ним, оставив позади сапожок Италии и изрезанные берега Греции, к Франции. Видя их географические контуры, не теряя эти контуры и на мгновенье, он вновь различил и во Франции, и в Дании, и в Голландии, и в Польше, и на Скандинавском полуострове жизнь – людей, поезда, машины, города, засеянные поля.
«И всюду немцы! – мелькнуло у него. – И всюду их ненавидят! Да разве они долго удержатся! Конечно, нет! Да нет же! Да нет! Что их победы, что, по сравнению с целым миром?»
Потом Ардатов перенесся через Ла-Манш и увидел занимающуюся войной сосредоточенную Англию. Дымили заводы, на верфях клепали корабли, дежурили в истребителях летчики, висели, покачиваясь, аэростаты заграждения над городами, все было здесь хотя и как-то хмуро, но спокойно и деловито. Листнув назад всю Атлантику, он мысленно пролетел над Америкой и Канадой, – над этими гигантскими странами, вовсю работавшими на войну. «Да где же им, этим немцам!» – подумал радостно Ардатов, мысленно пролетая над Австрией, где тоже, хоть и меньше, но готовились воевать против немцев. Он развернулся к северу, мелькнул над Индией, там тоже формировались части, и для войны с японцами и для отправки на запад, и очень быстро, как по хорошо знакомому маршруту, полетел над своей страной, метнувшись сначала к Дальнему Востоку, а оттуда, пролетая над Сибирью к Уралу и от него еще дальше на запад, сразу вдоль двух железных дорог – через Свердловск на Пермь, Киров и через Свердловск, Казань, Куйбышев – к Москве.
Секунды он покружился над Средней Азией – от Каспия до Усть-Каменогорска, увидел Ташкент, Фрунзе, какие-то другие зелено-желтые, знойные города и, повиснув над Алма-Атой, упал вниз к Весновке, так что различил свой дом – отца во дворе, жену и Леночку: они что-то делали возле дома – не то складывали дрова, не то еще что-то делали по хозяйству.
Он различил даже щеколду на калитке, и у него дрогнуло и сжалось сердце, и защемило в глазах, и стал ком в горле, но он метнулся опять вверх, а потом через степь – к Уралу и Волге, и по ней к Сталинграду, думая о немцах: «Скоро их просто задавят!»
– Тоже мне!.. Тоже мне! Барбизонцы! – повторил Ардатов ругательство Малюгина, хотя оно, конечно, не было, как заверил их Нечаев, ни на грамм ругательством. – И этот Гитлер! Рождает же земля ублюдков! Фюрер! Вождь! Полководец! Новый Наполеон!
Он сплюнул и, наклонив голову, шел так, не глядя вперед, а глядя под ноги, не замечал, конечно, ни пыли на сапогах, ни самой дороги, он шел, моргая, как бы просматривая внутренним зрением комнату, где он был с Нечаевым, Малюгиным, капитаном, вестовым, прослушивая вновь, что в ней говорилось.
Когда Малюгин ушел, они остались одни и некоторое время прислушивались к бомбежке – немцы бомбили далеко от них, взрывы слышались глухо.
– По переправам, – пояснил Нечаев, доставая из тумбочки бутылку коньяка. – Выпьем по рюмочке – затормозим мысли, иначе не уснем. Хорошо бы снотворного, но нельзя – до обеда будешь сонный, а включаться надо через два часа. Хорошо бы бокал сухого вина, но его нет, так что прибегнем к коньяку. Благословенны ветвь и лоза виноградныя…
Зашел вестовой с листком, записал, что подъем Нечаеву в 23.45, а Ардатову в 6.00, погасил лампочку и, отвернув одеяло, открыл окно. Взрывы стали явственней, слышались зенитки, пахло настурциями, табаками, пересохшей пылью.
Две рюмки коньяку и правда начали тормозить мысли, и Ардатов вытянулся под простынью, упираясь ступнями в холодные прутья и закинув за голову руки.
– Кстати, о Наполеоне, – вдруг изменил тему Нечаев. – Не лишне вспомнить о нем. Так вот… Так вот, французы тридцать четыре дня были в Москве. Но ведь ни на Поклонной горе, ни в Кремле Наполеон ключей от Москвы не дождался! Не принесли ему ключей, не поклонились! – Нечаев посмотрел на них, на всех так, как будто это он не принес Наполеону ключи от Москвы, это он не поклонился или, по крайней мере, не разрешил сделать этого другим. Глаза, лоб, сжатый рот – все лицо Нечаева, наверное, светилось гордостью за Россию 1812 года, за то, что он тоже был сын этой России.
Нечаев сел, загоревшись от того, что сам говорил. Голос его взволнованно дрожал, но это была дрожь радости, а не горя.
– Французы ели дохлую конину. Когда Кутузов повернул их с Калужской на Смоленскую дорогу, великая армия Наполеона была обречена. Вот увидите, немцы не только будут есть дохлятину, они будут радоваться ей. Вот увидите! – повторял он с жаром, вглядываясь в Ардатова.
– Да, да, голубчик. Да-да! Наполеон прошел Египет, но под Сен-Жан д’Аккром, под жалкой крепостцой, которую когда-то брали крестоносцы, понял, что ему не удастся пройти дорогой Македонского – от Дамаска к Евфрату, потом к Багдаду, потом – в Индию. А ведь с ним были его лучшие генералы – Клебер, Жюно, Ланн, Мюрат. Шестьдесят два дня осады Сен-Жан д’Аккра – впустую. Что из того, что за спиной, кроме Тулона, были победы у Газы, Яффы, Хайфы. Что из того? Нельсон сжег в Абукирском заливе весь его флот, и Наполеон с горсткой оставшихся двадцать пять дней пешком добирался к Каиру, оставляя грифам раненых, которые умирали в дороге. А потом?
– А потом? – как эхо, подхватил Ардатов. – А потом?
– А потом, – вторым эхом откликнулся Нечаев. – А потом на «Мюироне», на маленьком корвете, который английские патрульные суда принимали за рыбацкую фелюгу, он полтора месяца плыл ночами вдоль африканского берега, плыл, пробирался во Францию. А под утро забивался в первую попавшуюся бухточку, таился там, как преступник… И резался… – Ардатов удивился, что Нечаеву подвернулся такой точный, хотя и вульгарный глагол, но ведь и игра была куда как не вульгарной, вульгарней и не бывает. – И резался в очко!
– Не может быть! – вырвалось у Ардатова. – В очко? Четыре сбоку ваших нет? Ведь Наполеон же!..
– Вот именно – и ваших нет! – подтвердил Нечаев. – От великого до смешного один шаг. А до преступного и того меньше!
Они оба замолчали как два человека, обдумывающих одно, что-то новое для одного, странное, не очень то сразу поддающееся пониманию и вере, старое, для другого, обычное, но все-таки столь глубокое и большое, что каждый раз, когда оно опять приходило на память, оно требовало повторного осмысливания и рождало все те же яркие чувства.
– Но потом… Потом же столько побед! – Ардатов взмахнул рукой. – Италия! Иена! Аустерлиц!..
– Сорок. Сорок побед, – подтвердил Нечаев. – Аркольский мост, Прейсиш Эйлау, Шенграбен… И – поход в Россию. Из которой он потом бежал! Бежал! – почти выкрикнул Нечаев. – Как из Египта. В Египте он бросил армию на Клебера, в Смоленске на Мюрата! – Нечаев даже покачался, как какой-нибудь Будда, мудрый, всезнающий. – На острове Святой Елены, диктуя воспоминания, пересматривая всю жизнь, пересматривая тогда, когда рядом не было ни жены, ни сына, ни друзей, когда и впереди была только могила, Наполеон не раз возвращался к фразе: «Главной моей ошибкой был поход на Россию». После России он носил с собой яд…
– Вот как! – опять поразился Ардатов. – Яд?
Нечаев стряхнул пепел в пепельницу.
– Да. Тот яд, который он принял на острове Эльба, еще до ста дней, но яд выдохся, и Наполеон только помучился ночь, но не умер. Дело не в Ватерлоо, не в том, что Груши потерял главные силы Блюхера. Предположим даже, что Наполеон выиграл бы Ватерлоо, но вся Европа и Россия были уже против него, и рано или поздно он, – а это значит, его армия, его империя, – были бы разгромлены. Тираны всегда обречены. И этот нынешний тиран – Гитлер, он тоже обречен. Мир против него. Человек, человечество против него, потому что человек, человечество против тирании. Начало конца Наполеона – 1812 год, начало конца гитлеризма – 1941-й.
Еще с машины Ардатов видел две далекие фигуры, эти люди шли к фронту, попутно ему. Скорее всего, они были военнослужащими, и Ардатов, стараясь их догнать, шел ходко, поправляя, подкидывая мешок, чтобы он висел на плече удобней. Он догнал их, красноармейца и сержанта, у мостика через узкий овраг, в котором тек ручей. Став у перил у входа на мостик, сержант и красноармеец отдали ему честь, он ответил им и, переведя дыхание, повесил вещмешок на конец перила.
– Перекур?
– Так точно, – кивнул сержант и взял в правую руку цигарку, которую он держал до этого в левой, пряча в горсти за бедром. – Да вот напарник не курит, так что, может, вы… Ежели желаете… – Он вынул кисет. – Прошу! Все хорошие дела начинаются с перекура.
Сержант был плотный, коротконогий, и чувствовалось, что он очень силен, силой так и веяло от его плеч и рук. Он, чуть опустив веки, смотрел на Ардатова выжидающе, неторопливо потягивая самокрутку, выпуская дым изо рта струей вниз, как бы отдувая его, чтобы не мешал видеть. У сержанта было по-своему приятное лицо – с чуть тяжеловатым подбородком, чуть выдающимися скулами и небольшим полногубым ртом. Пилотка, сбитая слегка назад, открывала широкий лоб и часть бритой загорелой головы. Ладный был этот сержант, только портили впечатление спрятанные глубоко в подбровье глаза. Уж очень они казались холодными, фарфоровыми.
А вот красноармеец был нескладный – худой, пропыленный, какой-то весь развинченный, заполошный. Он и несколько секунд не мог устоять на месте – отходил то вбок, то назад, то на месте переставлял ноги, дергал длинными изломанными руками, хватал пальцами воздух. В те редкие мгновенья, когда он затихал, у него по-куриному, толчками, двигалась голова. На его сморщенном, с грязным ртом лице играла хитрая и в то же время жалкая улыбка, а огромные карие глаза смотрели почти безумно.
Оба они были одеты и снаряжены добротно – в крепкое, хотя и измазанное не то нефтью, не то мазутом обмундирование и яловые сапоги, их кожаные ремни оттягивали подсумки и, что удивило Ардатова, – у каждого в гранатных сумках было по паре РГД-33. Обычно гранаты выдавались красноармейцам уже в боевой обстановке, когда вот-вот можно было столкнуться с противником, и, хотя здесь до фронта оставались считанные километры, арсенал этих двоих казался необычным: шли-то они с ним из тыла. Судя по тому, как оттягивали лямки полупустые вещмешки этих двоих, в вещмешках, видимо, было тоже порядочно боеприпасов.
– Спасибо. У меня есть. – Ардатов прислонился к перилам, заглядывая в овраг. Там, возле ручья, было десятка два красноармейцев, которые на костерках кипятили себе чай. – В часть?
– Так точно! – ответил сержант.
– Не на гулянку же! Какая там, – красноармеец махнул в сторону фронта, – гулянка? Смертоубийство одно. Сатана там правит… этот, как его… По радио до войны все пел, как дьяк на клиросе, артист Михайлов. Сатана там правит… праздник, что ли, правит?.. – Красноармеец задергал головой, стараясь вспомнить, переступал, притопывал, удерживая карабин у бедра как какую-то палку. – Праздник, что ли, правит, сатана-то?
– Бал, – должен был ответить Ардатов, чтобы закончить этот никчемный сейчас разговор насчет Михайлова, Фауста и прочем. – В какую часть?
– Военная тайна! – вдруг без перехода сердито ответил красноармеец. – Ходют всякие! Военная тайна.
– И где были, тоже тайна? Сержант! – Ардатов повернулся к нему.
– И где… – хотел было ответить красноармеец, но тут же умолк, как подавился, потому что сержант не сказал, а как прорычал на него:
– Прохор!
– Да я… – цапнул воздух свободной рукой Прохор, но сержант повторил:
– Пр-р-рохор-р!!!
Сержант достал из кармана гимнастерки бумажник, а из него красноармейскую книжку, продаттестат и командировочное предписание.
В командировочном предписании говорилось, что сержант Жихарев и краспоармеец Просвирин выполняют спецзадание отдела контрразведки 82-й дивизии, для чего направляются в Сталинград, и что должны вернуться в часть не позднее 25 августа 1942 года. На бумажке было все – печать дивизии, подпись начконтрразведки, отметка комендатуры Сталинграда. Бумажка уже слегка потерлась, на углах, где ее держали, были следы пальцев.
– Нда, – все, что мог сказать Ардатов и возвратил бумажку Жихареву, думая, что черт их знает, этих контрразведчиков, черт их знает, за каким бесом они посылают в тыл младший комсостав и красноармейцев, вооруженных до зубов. Хотя, решил Ардатов, такой Жихарев стоит кучи молоденьких лейтенантов.
– Конвоировали кого-то? – предположил он.
– Нет. – Жихарев убрал документы. – Искали одну сволочь. Дезертира. Бежал из дивизии. Предатель Родины…
– Вот как!
– Хи-хи-хи! – засмеялся Просвирин. – По составам искали. Еще место там у него было – Садовая, 26. Да только и ждал он нас на Садовой. Только и выглядывал из-под ручки – не идут ли, родимыя?! Не торопятся ли, сердешные?
– Прохор! Угомонись, – оборвал его Жихарев. – Беда мне с ним, с таким напарником, товарищ капитан, – пожаловался Жихарев. – Как только доберемся до… до места…
– Вот именно, до места! – затанцевал, держа карабин как палку, Просвирин, дергаясь развинченно, словно все у него – голова, руки, ноги, куски туловища были наживлены на хлипкие шарниры. – Вот доберемся до места… Тут уж теперь недалеко! Тут уж всего ничего! Даст бог!
– Свободны! – сказал им обоим Ардатов и прошел через мост к тропке, которая наискось склона оврага вела к родничку, где ужинали три красноармейца.
Различив его звание, они встали. Все трое были разутые, но их винтовки не лежали кое-как, а стояли в козлах, и ремни с подсумками висели на стволах.
– Какой части? – спросил Ардатов, скользнув взглядом по лицам всех. – Отстали?
– Отстали, товарищ командир, – ответил короткошеий, круглолицый ефрейтор, прижимая ладони к бедрам.
«Из запаса, – подумал Ардатов. – Второй тоже». Он обернулся к самому младшему из них с комсомольским значком на гимнастерке.
– Что ж так плохо догоняем?
– Так и они же тоже идут, товарищ капитан, – ответил комсомолец. – Вот я и говорю: в ночь надо идти. Передохнули, поели – чего же еще?








