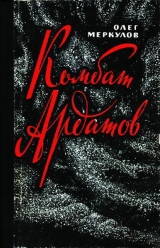
Текст книги "Комбат Ардатов"
Автор книги: Олег Меркулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
– Говорят, на захваченной территории немцы открыли театры. Кафе, рестораны, где играет и музыка, – сказал Ардатов. – Не слышали?
– Да? Интересно. Не слышал. Вот как?
– Играют наши музыканты, – уточнил Ардатов.
– Вот как! – по-иному, протяжно удивился Васильев и повторил так, что в его голосе одновременно слышалось и возмущение и презрение к нему, к Ардатову.
– Вот как! Я, товарищ капитан, мог бы эти слова понять как намек, как оскорбительный намек. Но я их так не пойму. Интересно другое – а что, на заводах, которые немцы пустили, там же, на захваченной территории, на этик заводах работают только немцы? На железных дорогах? В шахтах? Скажем, даже на трамвае? Или в бане? Или все, кто остался там, должны не работать, а значит умереть с голоду? Но сначала отравить детей, чтоб не мучились, перебить стариков, старух. Даже если уйти в партизаны, то как же быть со всеми, кто не может туда уйти? Хотя бы с грудными? Со старушками? Куда их деть-то? Всех, кто не годен в партизаны? Утопить предварительно? Загодя перестрелять? Вы молчите, товарищ капитан? Что же вы молчите?
Васильев, забежав на шаг, старался в темноте заглянуть ему в лицо.
– Так как же, товарищ капитан? Как же насчет этих музыкантов, которые, чтобы не сдохнуть с голоду, идут играть фрицам? Или им приятнее играть фрицам, чем играть нам? Предположим, в какой-то Одессе? Или Киеве? Или Минске? Или Риге? Зачем же вы ушли из этих городов? Почему уступили немцам кресла в театрах и столики в кафе, ресторанах?
– Ладно, – сказал примирительно Ардатов. – Я не хотел вас оскорбить. Извините. А этот, второй, ну, ваш приятель… Глинтвейн и прочее… Он тоже музыкант?
– Талич? – переспросил Васильев. – Он студент театрального училища. – Васильев засмеялся. – Веселый парень. Я с ним знаком неделю, а как будто знаком год. – Если бы не было темно, Ардатов бы увидел, что Васильев тепло улыбается, но он слышал это тепло в его голосе, тепло и нежность.
– Талич – будущий гениальный актер! – с жаром заявил Васильев, как будто кто-то собирался ему возражать. – Да, да – будущий гениальный актер. Поверьте, я не преувеличиваю – я сорок лет, считайте с пеленок, – я родился в семье циркового артиста – я сорок лет рядом с искусством. Встречал всяких – знаменитостей действительно талантливых, знаменитостей бездарных – бывают и такие, – таланты, которые умерли в нищете, от чахотки или от запоев, я встречал всяких. Но этот Талич так входит в образ! И такой диапазон! Он как будто видел того, кого играет, как будто был знаком с ним и просто копирует его.
– Вот как! – удивился Ардатов. – А это важно – видеть?
– Очень. Определяюще важно, – подтвердил Васильев. – Для актера-профессионала повторить что-то – семечки. Сначала надо увидеть! Талич видит образ мгновенно. Нет, это – талант! Если судьба будет милостива к нему, если он останется жив и цел и если после войны не сопьется, не разменяется на провинциальную знаменитость – знаете, слава кружит голову: деньги, доступность женщин – все это портит творческого человека, – если сия чаша минет его, он будет гордостью, да, да, гордостью русской сцены.
– Да… да… – говорил тише Васильев, как бы прислушиваясь к тому, что он говорил, или как будто заглядывая в далекую блистательную жизнь Талича.
«Так, так. Можно устраивать самодеятельность, – усмехнулся про себя Ардатов. – Будущий гениальный актер! Музыкант! Чесноков прочтет стихи Маяковского про молоткастый-серпастый, а Белоконь, наверно, умеет делать фокусы с картами. Но гвоздь программы – Талич и Васильев, профессионалы… Что ж, это тоже ничего. Во всяком случае, они, если надо, поддержат настроение. Нельзя же, чтобы все были мрачными вроде меня; получится похоронная команда. Надо только за ними приглядывать».
Они прошли немного молча, но вдруг Васильев попросил:
– Товарищ капитан! А, товарищ капитан! – Он подошел совсем вплотную, плечо к плечу и, понизив голос, сказал:
– Поберегите Талича! Я прошу вас. Нельзя, чтобы такой талант погиб. Так, знаете, как… Я понимаю, каждая жизнь – целая вселенная, каждый человек – мир, но все-таки… Такие, как Талич, рождаются один на миллион! Что я? Что многие? – Он в темноте махнул рукой – Ардатов видел ее тень. – Так, посредственности!.. Человеческая икра! А мы, быть может, говорим сейчас о гении… О гении! Поэтому-то я и прошу вас, поберегите Талича. Явите божескую милость…
Ардатов тронул Васильева за плечо.
– Ладно. Постараюсь. Но вот что – до утра на вашей трубе ни звука. Песня, конечно, строить и жить помогает, но… но всему свое время. Договорились? Хорошо. Свободны…
«Поберегите! – подумал Ардатов. – Поберегите Талича! Как будто тут можно кого-то поберечь!»
Их, конечно, было слышно далеко: они сошли с дороги и шли степью – под сотней пар ног хрустела полынь, и топот сапог и ботинок о сухую землю, хотя все старались идти потише, сливался в гул.
Новолунная ночь была в самом разгаре, дымка с неба исчезла, вызвездило так, что проступили очень маленькие звезды, и в неверном, холодном свете звезд иногда угадывались впереди тени разведчиков, которые шли, чуть пригнувшись, держа оружие наготове. Пахло полынной пылью, еще какими-то травами. Пересвистывались суслики. Несколько раз перед ними испуганно взлетала разбуженная птица, она черным стремительным комком пересекала звезды и исчезала в темноте.
Мерно шагая, мерно дыша, мерно махая в такт одной рукой – другой он придерживал лямку, чтобы вещмешок не съезжал, – Ардатов думал:
«Если найду батальон, возьму всех в него. Потрепанные роты солью, а из этих сделаю роту. Будет очень неплохо. Хорошо бы, что в тех ротах остались пулеметы, можно было бы разделить. Или нет, наоборот, слить их всех в кулак, в пульроту. Что-то от пульроты должно остаться… Но там посмотрим. Пулеметчиков надо проверить – если есть случайные – заменить. Из этой сотни сколько-то найдется. Тырнова на взвод, кого-то из взводных – на эту роту. Щеголева… Но посмотрим, что Щеголев стоит в деле… Или сделать наоборот – всех этих поделить по ротам? Посмотрим. А Чеснокова – отделенным или помкомвзвода? Нет, помкомвзвода рано, а отделенным в самый раз. А если его по комсомольской линии?.. Да! – сказал он себе. – Утром узнать, сколько членов партии. Но лишь бы найти батальон. А до утра прибиться к кому угодно! Обстановка покажет. Главное – успеть до света найти своих и хорошо бы хоть немного закопаться – он, мерзавец, с зари начнет бомбежку, и если не закопаться!.. Зароемся», – подбодрил он себя.
По вспышкам ракет он приблизительно определял расстояние до немцев. По этим же вспышкам он убедился, что был прав, считая, что строго на запад и южнее слева – не то открытый фланг какой-то нашей части и немцев, не то широкий стык, неприкрытый никем, в который немцы или не успели воткнуться или о котором еще не узнали.
«А если наши просто должны были загнуть этот фланг? – предположил он, вспоминая карту Нечаева. – Или втянуть его, потому что фланг жидкий и, чтобы уплотнить, надо сократить его? – На карте Нечаева не было четкой линии фронта, а были лишь овалы, красные овалы, которыми означали расположение ведущих бой наших разорванных группировок и частей, перед которыми, а также и между которыми, в синих овалах были немецкие группировки и части. – Сам леший не разберет! Но посмотрим…»
Они шли уже часа полтора, и сзади несколько раз говорили как бы между собой, но так, чтобы он слышал:
– Перекур бы!
– Привал!
– Передохнуть бы надо!
Ардатов тоже хотел курить, но он только зажал травинку в зубах, пожевывая ее горький стебель.
– Отставить! Отставить припал! – оборвал он эти разговоры и, пропуская всех, поторапливал: – Не растягиваться! Догнать! Не отставать!
Но минут через двадцать, послав сообщить охранению, он скомандовал:
– Стой! Привал! Курить под шинелью! – и, дождавшись Тырнова и Щеголева, отошел в сторону, на ветерок. – Полчаса, – сказал он им. – Потом еще один – покороче – и до рассвета. В шесть уже видно. Отставшие есть? Как Тягилев со своим воинством?
– Один только Лунько. Пекарь. Тянется. Ноги стер. Тягилев молодец, они у него, как ягнята, – объяснил Щеголев.
– Что у вас, Лунько? – спросил он, когда Щеголев привел отставшего. – А зачем брали на размер больше? Поэтому и потертости.
– Взял, думал… Тут, значит, меняли обувку, ну, я, значит, думал, возьму на размер больше, лето кончается… Чтоб зимой на шерстяной носок, да на байковую или суконную портянку, – оправдывался Лунько. – А оно, значит, получилось так… Косина получилась, товарищ капитан…
– Байковые портянки есть? – перебил его Ардатов. – Есть? Идите и переобуйтесь так, чтобы ноги не болтались. Ничего, ничего, не спарятся. Промойте сначала. Идите. И не отставайте.
– Запасливый дяденька! – усмехнулся Щеголев, укладываясь рядом. – И на байковую, и на шерстяной носок…
– На вещмешок не обратил внимания? – спросил Ардатов, залезая под шинель и прикуривая там. – Там у него продсклад.
Спичка осветила кусок подкладки, где была заштопана в госпитальной портновской дырочка от пули, которая попала ему в правую ключицу. Из-за этой пули он и пролежал два месяца в Кезе. Это была автоматная пуля, немец попал в него, когда они в апреле отбивали на Северо-западном наступление из Демьянского котла. Он тогда чуть не утонул в каком-то притоке Ловати, хорошо, что Коля Зубов, его ординарец, вовремя подхватил его, вытянул из ледяной воды, похожей на снеговую кашу, столько в ней плавало снега.
Кусочек пространства под шинелью, освещенный на миг спичкой, показался ему домом, он и пахнул домом, его теплом, его потом, его кровью. Собственно, он сейчас и был его домом, потому что никакого другого дома у Ардатова ближе, чем за две тысячи верст от Алма-Аты, не имелось, если не считать, что, конечно же, каждый клочок земли, на которой он лежал, сидел, ходил, всегда был тоже его домом.
– Да, вещмешок у него… – ответил Тырнов. – Больше чем у любого. Больше, чем оба наших с вами. Хотя у вас тоже приличный.
– Пригодится! – буркнул про свой мешок Ардатов, снова пряча голову под шинелью к руке, в которой у него была папироса. «Пригодится, – подумал он и о мешке пекаря. – Не будет же он таким жмотом, что… Хотя?!!»
– Никакой он не пекарь, а плотник. Косина слово плотницкое. Пристроился в пекарне – тепло, сыт, но, главное, безопасно, – сказал он Тырнову. – Ничего, теперь он повоюет.
Докурив, Ардатов повернулся на спину и потряс ноги, подняв их, чтобы кровь оттекла. «Это вам не госпитальные прогулочки, – подумал он о ногах. – Давайте, работайте!»
Все угомонились – никто уже не толкался в поисках закурки, не отходил в темную степь, в ту сторону, откуда они пришли, по нужде, разговоры смолкли, лишь Чесноков приглушенно внушал Просвирину:
– Ты это брось, дядя! Брось эти штучки! Ишь, вздумал: предательство, предательство. И впрямь тебе предательство! Все в вашей конторе только и думаете о предателях! А ты читал про этих предателей? Где было напечатано? Читал? То-то!
– Люди говорили… – пытался возразить ему Просвирин, но Чесноков оборвал его, презрительно заявив:
– Люди говорили! Говорили, говорили – мед варили, кинулись – брага! И не сей панику! Мало ли что отступаем? А может, не отступаем, а заманиваем? А если именно заманиваем? Если заманиваем?
– У тайгу, что ли? У тайгу заманиваем, за Урал? – зло сомневался Просвирин.
– Впрямь – за Урал! Дурак ты! И вообще – иди ты… Иди ты в пим дырявый!
– На море, на Охотское море заманиваем, – включился против Чеснокова еще кто-то, ехидный и желчный. – Аж на Камчатку! Попредавали народ, сами попрятались, а теперича…
– Да я тебе!.. – взвинтился Чесноков. – Да я тебе за эти слова…
– Чесноков, отставить! – скомандовал Ардатов.
Все затихли, спор погас, но Ардатов слышал, как пекарь Лунько пробормотал вроде никому и в тоже время всем:
– И тут – отставить! У каждого жизни, может, с обмылок осталось, может, завтра из нас лопухи пойдут, ан все равно – «Отставить!» Эх ма!..
Ардатов хотел было оборвать и эти причитания, но его опередил Тягилев.
– Да, ладно, ладно, тебе. Кабы говорили для души, а то – злоязычничаете. Не об этом думать-то надо! – сказал он так значительно, что никто ему ничего не возразил.
Разговор прекратился, но только на этот раз.
Ардатов знал, что теперь Чесноков и те оба, которые ехидно прошлись насчет тайги, Урала и Камчатки, будут вечными с ним спорщиками: отступление столкнуло эти души, и так как одна из них – Чеснокова – было полна верой, а две других – наполнены сомнением, примириться они не могли, они исключали друг друга.
– Я, товарищ капитан, хотел только… – начал было взволнованно Чесноков.
– Отставить! – повторил Ардатов. – Не мешать отдыхать людям!
Когда они уже поднимались, Тырнов, негромко, чтоб не слышали другие, спросил:
– Товарищ капитан, а что… А правда, было предательство и поэтому мы отступили в прошлом году и сейчас отступаем?
Ардатов мог ничего не ответить Тырнову; он и сам не знал почти ничего о предателях, как правильно сказал Чесноков, эта пылкая душа, насчет предателей ни в газетах, ни по радио не сообщалось.
Быть может, и существовали какие-то секретные приказы для старшего командования, но сам Ардатов их не читал, не видел, и все, что он знал, было только разговорами, чьими-то утверждениями и рассказами, да еще заявлениями немцев, которые они передавали по радио со своего переднего края или писали в листовках. Листовки Ардатов иногда читал из любопытства: «А что пишут эти сволочи?» Читал, стараясь сделать это незаметно: – чтение немецких листовок запрещалось; что же касалось радио, то немцы передавали по нему, что хотели, пока наши минометы или артиллерия не начинали садить по месту, где они развертывали свою радиоустановку.
Всякие слухи, сведения, доверительные рассказы были, конечно, предметом разговоров в палатах госпиталей, в землянках, в казармах командирских резервов. То, что об этом говорили, было естественно – нельзя же бесконечно говорить только о своей части, товарищах, семьях, женщинах, нельзя и никакими силами невозможно лишить человеческий ум любопытства, стремления знать разное – всякое: плохое, хорошее, сомнительное.
Поэтому-то, несмотря на неписанные запреты, несмотря на то, что разговоры о всяких предателях были по-своему, на первый взгляд, непатриотичны, люди время от времени вели их; он вели их не потому, что сами хотели предать, перебежать к немцам и служить им, а потому что просто хотели знать все, как что-то новое, еще не узнанное, хотели понять и это явление войны, как часть жизни. Война ведь была только частью человеческой жизни. К тому же, эти темы были по-своему запретные, и, как все запретное, интересными, притягательными, а так как никаких официальных сообщений нигде не опубликовалось, противопоставить разговорам было нечего.
С другой стороны, конечно же, разговоры о предателях были тоже вражеским оружием – они могли плохо подействовать на малограмотных красноармейцев; они хоть на капельку, но все-таки подрывали уверенность в наших силах; мысль «вот ведь – против нас воюют уже и наши» – была коварной, ядовитой. Эту мысль и все, что вело к ней, следовало пресекать сразу же, пресекать беспощадно. Это Ардатов тоже понимал.
Но Ардатов понимал также, что Тырнов хочет знать причины неудач Красной Армии и в прошлом и в этом году, что Тырнову больно от сознания, что немцы били и пока бьют наших, что эта его боль – часть общей боли миллионов советских людей и что, если ему не ответить, это будет означать, что Ардатов и не доверяет ему, и одновременно плюет на то, что он думает, и на то, что у него, Тырнова, в душе. Конечно же, Ардатов не мог плюнуть Тырнову в душу – тоже еще в мальчишескую, не очень-то защищенную разумом мальчишескую душу. Тырнов тоже был человеком, старающимся понять, что к чему, думающим. Ему – другое дело – можно было запретить что-то спрашивать, о чем-то говорить, но думать запретить ему было нельзя: во-первых, потому что он был человек, а не скот, и, отняв у него право на мысль, право думать, означало превратить его из человека в скота, во-вторых, запретить думать физически было невозможно – мысль человека неподвластна никому, кроме смерти.
– Ничего определенного ответить не могу, – сказал Ардатов, расстилая шинель, чтобы закатать ее в скатку. – Помогите-ка.
Оба они стали на колени у ворота шинели и, сжимая, начали ее скатывать к полам.
– Мало ли ходит всяких разговоров. Но ведь это… Разве они достоверны?
На шинель прилипли веточки, всякий другой мусор, они наощупь стряхивали все это, водя ладонями от середины к своему краю.
– Да, чего только не говорят, – подтвердил Тырнов. – А зачем вы ее в скатку?
– Будет удобней… – Ардатов тренчиком стянул концы скатки. – И вешается не через плечо, а на вещмешок – за горловину, на лямки. Спине тепло, но в случае чего – одно движение и вещмешок с шинелью сброшены. Знаете, если в бою ты малоподвижен, если тебя связывают эти штуки, в бою… Кстати, вы-то уже бывали в боях?
– Нет, только под бомбежкой.
– Это другое дело. В бою, повторяю, главное, – конечно, кроме судьбы, – насколько ты подвижен. И попасть в тебя трудней, и ткнуть штыком труднее, и перебежку ты делаешь быстрей, и оружием лучше – легче, точней владеешь. А это – стелите вашу, так, пошире, – а от этого зависит не что-то, а твоя жизнь. – Они снова стали на колени, теперь перед шинелью Тырнова. – Посмотрите – многие катают.
– Может, приказать всем? – спросил Тырнов.
– Нет, – не согласился Ардатов. – Тут кому как удобней. Зачем же приказывать ненужное? Но подсказать… Хотя все видят, что катают.
Тырнов, приподняв голову, всмотрелся – почти все, разбившись на кучки по два, по три человека, занимались скатками, коротко разговаривая:
– Туже надо. Так! Тренчик готовь! Бинт? Нет, не пойдет, больно белый, заметно. Да еще сгодится на это самое… Упаси бог, но кто знает… Надо веревку.
– Братцы, есть у кого веревочки клок?
– На, коль ты такой бедный, что ремешка у тебя нету.
– Бывает. С кем не бывает? От сумы да от тюрьмы не отрекайся.
– Теперича эту? Аль мою?
– Какая разница?
– Оно, конечно, разницы нету…
На фоне темного неба и слегка уже тускнеющих звезд сгорбленные над расстеленными шинелями, плохо различимые красноармейцы казались странными людьми, занятыми странным же делом – казалось, они не то что-то тайно закапывают руками, не то откапывают, не то приносят молитвы какому-то богу, стоя на коленях и касаясь ладонями пыльной, почти остывшей уже степной земли. Те, кто не катал скатки или уже закончил это делать и просто стоял, возвышаясь над катавшими, только подчеркивали необычность этой сцены, будто охраняя тех, кто стоял на коленях.
– А что же потом? Если все бросить – и шинель, и вещмешок. Ведь…
– Потом, – Ардатов пропустил условное предложение «если останешься жив», – потом найдется.
– Вообще, да, – сказал Тырнов, застеснявшись, наверное, заботы об этих вещах, когда речь шла о бое.
– А если не найдется твоя, то найдется другая шинель. – «Мало ли их после боя валяется лишних, уже ненужных». Ардатов это тоже не сказал. – Или у вас в вещмешке особое богатство, что жалко бросить?
– Да нет, что вы! – возразил торопливо Тырнов. – Как у всех. Спасибо. Сейчас я завяжу. Тут поддержите. Спасибо.
– Так вот, о предателях, – вернулся к этой теме Ардатов. – Они, конечно, есть. Были, есть и будут. Будут, наверное, долго. – Он пояснил. – Нас двести миллионов. В таком числе есть всякие люди, это неизбежно. Во всяком случае, на ближайшие лет сто, что ли. Миллионы хороших, и на каждый миллион сколько-то плохих, сколько-то очень плохих, сколько-то негодяев. Сколько – не знаю. Видимо, никто не знает, видимо, это не поддается исчислению.
– Видимо, – согласился Тырнов. – Сами категории «плохих» и «хороших» очень расплывчатые.
– Наверное, и поэтому. Но, конечно, все-таки есть. Ну как скатка? Удобно?
– Очень. Правда, тепло и легко – руки свободны.
Ардатов поправил ему лямки, вскинул свой вещмешок и подал Тырнову свою скатку:
– Наденьте мне также… Хорошо. Еще чуть дерните вниз – чтоб не соскочила. Ага. Все готовы? Нет? Ну пусть, не торопите, теперь пойдем без привала. Лишь перекурим часа через два минут пять. Так вот… Но попьем сначала.
Они попили из фляг – вода уже потеряла родниковую свежесть – переболталась на ходу, согрелась, а у Ардатова отдавала еще и алюминием трофейной фляжки. Но все-таки после табака пить ее было приятно – пить по глотку, ополаскивая рот.
– Перед войной были и уголовники, были и тюрьмы – ведь было такое, – развивал свою мысль Ардатов. – Война все усилила, обострила, подтолкнула, на поверхность и всплыла всякая гадость – в том числе и предатели. Но не в них дело, Тырнов, не в них.
Часа через два Ардатову вместе с Тырновым предстояло встретить новый день войны, новый день на фронте, быть может, последний день в жизни Тырнова или в его, Ардатова, жизни, и он хотел, чтобы Тырнов в свой первый бой вошел человеком, который смотрит и на себя самого лишь как на часть целого, чтобы Тырнов оторвался от эгоизма, свойственного любому человеку, и посмотрел на свое участие в войне, как на молекулу огромной силы, которая неизбежно победит немцев.
– Не в них, не в предателях, главное. Даже не в поражениях этих двух лет главное. Главное в том, что страна осталась, народ остался, экономика осталась, руководство всеми нами, всей жизнью страны, осталось. То есть – это как кости, а мясо нарастет. Ведь вы же выполнили мой приказ – повернуть к фронту? – спросил в упор Ардатов. – А я был один! Теперь мы ведем роту – по фронтовому девяносто человек – рота, и люди идут. На смерть, а идут. Вот что главное, Тырнов. Главное – наши люди и то, что у них за спиной. Там – наша страна. Завтра мы будем останавливать немцев, как это делали другие, как делают другие, вместе с другими, и, случись с нами что – придут другие нам на смену, и так, пока не остановим немцев, пока не погоним их, пока не разобьем, пока последний из них или не будет уничтожен, или не поднимет руки. Это главное – что мы победим, несмотря ни на что!
Они стояли друг против друга, в темноте только угадывая лица, не видя глаз, не видя выражения в них. Ардатов прикоснулся к плечу Тырнова, поворачиваясь вместе с ним к красноармейцам.
– Выбросьте из головы всю эту чушь о предателях. Надо просто хорошо воевать – вот в чем ваша и моя задача. И если были ошибки, все равно их исправлять надо. Кто их исправит, если не мы сами? Сначала надо кончить войну!
Ардатов подошел к красноармейцам.
– Приготовиться к движению! Становись! – Он подождал, пока все построятся. – Порядок движения – прежний. До рассвета, товарищи, без привала! Будет лишь короткий перекур. По команде «К бою!» – в цепь. Если ракета – ложись немедленно? Ясно? Направляющие – шагом марш! Не растягиваться!
Он повернулся к Тырнову.
– Если «В цепь!» – разворачиваетесь от центра вправо к флангу. Щеголев – к левому флангу. Если что – сжиматься к центру, только к центру – без команды ни в коем случае назад! Ясно? Товарищи командиры – по местам! Чесноков! – позвал Ардатов. – Красноармеец Чесноков!
– Я! – откликнулся из темноты Чесноков и подбежал.
– Отстань к Тягилеву. Он один, слепцов трое. Будь с ними рядом. В случае чего – поможешь. Возьми у кого-нибудь из них автомат, все патроны. Принеси мне.
Ардатов сам представлял смутно, чем можно, если они наткнутся на немцев, помочь слепым, что можно сделать тогда для слепого? Разке схватить за руку и тянуть за собой? Или кричать что то, надеясь, что за выстрелами слепец расслышит? Но Ардатов хотел, чтобы возле этих слепых был еще человек.
– Есть, товарищ капитан. В случае чего – Тягилев с одного боку, я с другого. Чтоб не побежали куда не надо, – понял Чесноков.
Чесноков еще шагал рядом и на шаг сзади. Ардатов, конечно, не видел его лица, но по голосу догадался, что Чесноков улыбается.
– Скоро рассвет, так что осталось недолго, Чесноков. Когда найдем батальон, я отправлю их в хозвзвод.
«А есть ли в батальоне он? Этот хозвзвод? – подумал Ардатов. – Хотя… Должен быть. Хозвзводы отходят первыми, так что шансов уцелеть у них больше, чем у кого угодно в батальоне. Но здесь степь, здесь днем летчикам хозвзвод виден так же, как и все остальное».
– В общем, действуй по обстановке, решай… Сам. Я на тебя надеюсь. Выполняй! Неси автомат!
Через полчаса стали попадаться воронки от бомб, помельче – от снарядов и совсем мелкие – от мин. Ардатов, наклонившись на ходу, зачерпнул из одной земли и понюхал – земля еще остро пахла сгоревшей взрывчаткой.
«Теперь близко! – сказал себе Ардатов. – Или наши, или уже немцы».
– В цепь! – скомандовал он негромко и развернул автомат стволом вперед.
– В цепь! В цепь! В цепь! – повторило за ним так же глухо несколько голосов.
Они минули артиллерийские позиции, там не было ни убитых, ни брошенного второпях имущества, лишь тускло светились гильзы, да белели исструганные доски снарядных ящиков.
«Отошли, – уверился Ардатов. – К северу. Если бы на восток, мы бы слышали».
Небо из черного стало просто темным, звезд на нем поубавилось, а те, что еще не погасли, горели тусклей, когда Белоконь громким шепотом позвал его, разыскивая.
– Немцы! Немцы, товарищ капитан! – сообщил он взволнованно и даже как бы радостно, как если бы они всю эту ночь искали немцев, а не своих. – Идут чуть правее, нам напересек. Напарники наблюдают.
– Стой! Ложись! К бою! – скомандовал Ардатов. – Много? Цепь? Группа? А если это наши отходят? Не перепутал? Точно – немцы?
– Какие там наши! Шпрехают, сам слышал. Форвейтс! Шнеллер! Шухры-мухры! – подтвердил Белоконь, лежа рядом с ним. – Идут тесной цепью, а много ли – не разглядишь. Но вроде бы – по звуку – не очень много. Чу! Слышите! Вроде собака рычит! Там! – вытянул вперед – влево руку Белоконь. – Там, где траншея. Там есть траншея, товарищ капитан, я прыгнул через нее. Может, в нее?
– Успеем? – Ардатов вскочил. – Успеем в нее?
– Успеем! Успеем! – быстро ответил Белоконь. – Если враз – тут один бросок! Метров…
– До траншеи! – громко, чтоб было слышно подальше, – до траншеи!.. Броском, вперед! – скомандовал Ардатов и, дернув затвор автомата на себя, побежал по весь дух, втянув, насколько это было возможно, голову в плечи.
Почти сейчас же не стало тишины – всего какие-то секунды Ардатов слышал, как топали по земле сапоги и ботинки его людей, а после этих секунд хлопнул первый винтовочный выстрел, как бы сигналя «Огонь!», и немцы, выполняя этот сигнал, засадили очередями из автоматов.
«Промажут! – крикнул себе Ардатов и наддал, насколько у него оставалось сил, вдруг и сам, как и Белоконь, вновь ощущая тот восторженный холодок опасности, который он уже было забыл, скитаясь по санлетучкам, госпиталям, резервам. – Не проскочить бы траншею!»
«Фить! Фить! Фить!» – свистнули над ним пули, но он снова, как заклинание, закричал себе мысленно: «Промажут! Ни хрена же не видят! Промажут! Промажут! Промажут, сволочи!» – и, чуть не пробежав ее, свалился в траншею.
Рядом с ним и дальше в обе стороны по траншее, крякая, что-то выговаривая, ругаясь, хрипло дыша, прыгали в нее красноармейцы.
– Батальон! – крикнул, едва переводя дыхание, Ардатов. – Батальон! Огонь! – и, нащупав спуск и поводя стволом на вспышки немцев, начал стрелять короткими очередями. Он забыл, вгорячах, что никакого батальона у него нет, а есть группа в девяносто человек, с бору по сосенке, но, употребив слово «батальон», он мысленно махнул рукой на ошибку, оправдавшись перед самим собой, что и по девяносто человек бывают и еще долго будут бывать батальоны на войне.
Когда стрельба утихла, Ардатов, опасаясь, как бы немцы не попробовали подползти на бросок гранаты и потом атаковать их, выдвинул парные секреты, один секрет он выдвинул и в тыл, прошел до крайних красноармейцев по траншее, осматривая ее и приказывая:
– Дозарядить оружие! Не спать! Ждать их атак! – Потом он выбрал себе место в центре цепи и присел на корточки на дне, чтобы удобнее было набивать в магазин патроны.
Траншея оказалась неважнецкой – где в полроста, где еще мельче – по колено, ходы сообщения были лишь намечены. По всей длине, что Ардатов прошел, не попалось ни блиндажа, ни земляночки, но все равно это была удача – утро заставало их не на голой степи.
– Не получилось! – сказал он Щеголеву и Тырнову, когда они пришли к нему. – Не примкнули ни к кому. Эти фрицы явно заходили нашим во фланг или изучали этот фланг. – Он, зажав магазин между колен, левой рукой крутил улитку, а правой, наощупь, ставил один за другим перед ней патроны. – Знаете, что значит просачиваться? Да? Так вот, ночью они любят просачиваться или за открытый фланг или в стыки. Мы им помешали, и то хорошо! Но утром они постараются от нас избавиться. Поэтому главное для нас – к рассвету закопаться. Пусть углубляют ячейки, хотя бы по грудь, и – круговая оборона! Тырнов, вам ясно это? В землю и – круговая оборона! Утром осмотримся, решим, что делать дальше.
А теперь – к людям. Я направо. Пусть роют. Хоть руками – но в землю. Как можно глубже в землю! Выполняйте!
– Найти наших! Найти и доложить! Командиру любой части, любого полка, любого батальона!
Ардатов вглядывался в лицо этого красноармейца, как будто заранее ища в нем ответ – найдет Стадничук своих или не найдет. Если не найдет, тогда они здесь, в этой траншее, останутся вновь до ночи одни – горстка разведчиков, чуть большая горстка автоматчиков, стрелки, портные, сапожники, пекаря, артист, музыкант, старший лейтенант Щеголев, химик-лейтенант Тырнов и он, капитан Ардатов, командир батальона без батальона. Останутся на целый длинный день, а кто-то, конечно, останется навсегда.
– Доложить, что связи нет ни с кем. Обстановка неясна – знаем только то, что видим. Нет воды, продовольствия. Почти нет боеприпасов. Вооружение только стрелковое, – ни одного пулемета.
Стоя в положении «смирно» напротив Ардатова, Стадничук смотрел ему в глаза и повторял с готовностью:
– Связи нет… Обстановка неясна… Боеприпасов почти нет…
Когда на вопрос: «Нужен связной к своим. Добровольцы есть?» – пришло человек десять, в том числе все разведчики, Ардатов выбрал Стадничука, потому что решительность Стадничука на мосту ему запомнилась, а разведчиков он посылать не хотел, сберегая их для себя. Впереди был длинный день с неизвестными делами, каждый человек, на кого он бы мог положиться, был на счету, и четверо разведчиков-фронтовиков в его разношерстной группе представляли, конечно, большую ценность.
В дни прежних боев, в их кровавой сутолоке, когда все перемешивалось так, что, казалось, ничего нельзя и запомнить и понять, Ардатов все-таки многое запоминал, а понял главное – война, в которой побед было куда меньше, чем поражений, стала тем фоном, на котором смерть, придвигаясь к каждому тем ближе, чем ближе к нему был фронт, а на фронте, повиснув над каждым, – смерть беспощадно высветляла главное в человеке, его душу – стержень, скрытый намеренно или ненамеренно раньше. Под этой, над всеми висевшей, всюду витающей чудовищно могущественной смертью душа человека на фронте проступала четко, как на рентгене просыпает его позвоночник, и Ардатов не раз думал, что фронт и есть рентген человеческой души.







