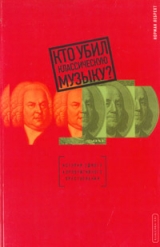
Текст книги "Кто убил классическую музыку?"
Автор книги: Норман Лебрехт
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
В Зальцбурге идет дождь. На часах – без четверти восемь утра. Ханс Ландесман, завтракающий в бывшем кабинете Караяна ветчиной и кофе, в отчаянии обзванивает всех в поисках тенора. Известный артист приехал, не выучив свою партию в кантате, и холодно заявил, что посещает фестиваль для того, чтобы сделать рекламу новой записи. Ландесман воспринимает этого певца как ярчайший симптом губительной болезни. После двух дюжин звонков замена найдена, но поведение артиста выводит наружу все, что прогнило в зальцбургском государстве. Спустя пять лет после смерти Караяна фестиваль все еще остается оплотом эгоцентризма. Ни один исполнитель не приезжает сюда во имя искусства или духовности, только за личной выгодой. Никто не ждет здесь внезапного вдохновения, всем нужно только подтверждение уже известных истин.
Ландесман, отвечающий за концерты и финансы, пытался очистить эти авгиевы конюшни и вернуться к правилам, установленным Рейнхардтом. Вместе со своим оперным администратором, бельгийцем Жераром Мортье, он вернул на фестиваль современную музыку и музыкантов, проклятых Караяном. Ландесман привез сюда Клаудио Аббадо, Пьера Булеза и Дьёрдя Лигети; Мортье хорошо знаком с такими оперными режиссерами, деконструкционистами новой волны, как Питер Селларс, перенесший действие «Дон Жуана» в нью-йоркский доходный дом. «Мы с Жераром во многом аутсайдеры, – говорит Ландесман, – но политики почувствовали, что назрела необходимость в изменениях, и стремились отдать эти места людям, способным что-то изменить»[660]660
53 Интервью с автором.
[Закрыть].
Со всех сторон поступали добрые предзнаменования – даже от владельцев гостиниц, уставших от застоя последних караяновских лет. Но возникало множество препятствий, и Зальцбургу грозила быстрая утрата лидерства. Скорый на слова Мортье созвал пресс-конференцию, где осудил Аббадо за отказ поставить «Электру». Ландесман, стойкий союзник Аббадо, в течение нескольких дней избегал показываться на публике с Мортье. «В частной обстановке мы с Хансом отлично ладим», – заявил шеф оперы. У Ландесмана не нашлось что добавить.
Хотя оба преследовали общие цели, они то и дело натыкались на противопехотные мины, расставленные Караяном при его отступлении в последний путь. Старый интриган завещал управление Пасхальным фестивалем своей вдове Элиетт, секретарше Беате Буркхард и своему швейцарскому адвокату Вернеру Купперу. Эти наследники подписали договор о сотрудничестве с летним фестивалем, но тут же решили извлечь собственную выгоду из ссоры по поводу «Электры». В то время как два директора выясняли отношения, Аббадо согласился на пасхальную «Электру». Мортье поспешно объявил, что летом с «Электрой» выступит Лорин Маазель. Однако две «Электры» затри месяца превратили бы Зальцбург в посмешище, и Мортье, оказавшемуся в крайне неловком положении, пришлось заменить одну из них неудачно поставленным «Кавалером розы».
Это унижение стало одним из последних. Мортье повел яростную кампанию против непомерно высоко оплачиваемых звезд, злоупотреблявших гостеприимством Зальцбурга. Под угрозой бойкота со стороны двух теноров и одной сопрано он выступил с противоречивым разъяснением. «Мы не хотим, чтобы правила фестивалю диктовали фирмы звукозаписи, – заявил он, – особенно те, которые прибегают к "мафиозной тактике", чтобы сыграть на своих связях с Караяном». Протесты со стороны «Дойче граммофон» и обращение наследников Караяна к адвокатам вынудили его принести извинения. Мортье требовал, чтобы владельцы магазинов в Зальцбурге больше делали для фестиваля, «вместо того чтобы постоянно доить его». Еще один пример отступления. Он подверг критике мэра Зальцбурга, контролировавшего одну пятую фондов фестиваля, но снял свои замечания из уже подготовленных к печати утренних газет. «Можете говорить что угодно про Караяна, – ворчал некий ветеран пера, – но он никогда не извинялся». «Мортье страдает из-за неистребимой потребности говорить, – объяснял один из симпатизировавших ему журналистов. – Он столько разговаривает, что у него самого в доме стекла лопаются».
Мортье удалось выиграть лишь одно сражение – с Венским филармоническим оркестром, который он успешно излечил от обычая присылать в Зальцбург музыкантов второго состава. Оркестр пригрозил было оттянуть публику в Вену, но без Караяна он уже не обладал прежней силой и становился все более безликим. В середине девяностых годов Мортье ангажировал лондонский оркестр «Филармония» для исполнения современного репертуара, который венцы играли с редким безразличием.
А тем временем Ландесман пытался уменьшить зависимость Зальцбурга от тяжелой промышленности Германии, навязанную Каранном. Триумвират нейтральных спонсоров – «Нестле», АББ и «Альянц», две швейцарские и одна баварская компании, – осуществил первое корпоративное вложение денег в Зальцбургский фестиваль: миллион фунтов в год. Эта сумма составляла ровно три процента от бюджета фестиваля, но обозначила присутствие новых лиц, помимо стальных баронов и представителей музыкальной индустрии.
Кроме того, Ландесман способствовал привлечению на фестиваль людей «попроще». Он сделал Зальцбург доступным для тех, кто мор позволить себе лишь дешевые билеты, и впервые повернулся лицом к восточным соседям. Президент Венгрии Арпад Гёнц открыл фестиваль 1993 года лирическим напоминанием о том, что значит Зальцбург для сентиментальных жителей Центральной Европы: «ангельская музыка, льющаяся из-за стен, сияние, медленно погружающееся во тьму…»[661]661
54 Речь на открытии, 23 июля 1993 г.
[Закрыть]
Увы, несмотря на все добрые намерения и прочные связи, Ландесман и Мортье повсюду наталкивались на препятствия со стороны структур, встроенных Караяном в горные склоны. Они не могли изгнать с фестиваля звукозаписывающую индустрию или снизить гонорары, не умалив тем самым притягательность фестиваля и его доходы. Они нуждались в ежегодных приездах богатой публики, чтобы хотя в какой-то мере воплотить в жизнь идею Рейнхардта о субсидировании дешевых мест за счет дорогих. Случилось так, что сразу после смерти Караяна первые ряды стали продаваться все хуже и хуже. Старая гвардия поклонников маэстро, похрапывавшая под исполняемого им Моцарта, сбежала при появлении Монтеверди, и кавалькады «мерседесов» потянулись на Шубертовский фестиваль в Хоэнемсе и Брегенце на плавучие постановки Верди. Ландесман и Мортье надеялись, что на смену им придет просвещенная верхушка еврократии и руководители частных фирм с миллионными зарплатами, но в зале по-прежнему зияли пустые места, а лучшие рестораны и отели жаловались на недостаток гостей.
Не появлялось и очевидных признаков социального обновления. Любой человек моложе сорока привык ассоциировать Зальцбург со всем, что было элитарного, бессовестного и затхлого в современной Европе. Ждать, чтобы люди внезапно поверили в чудесное преображение самой сути фестиваля, мог только самый наивный. На афишах, расклеенных по всему городу, его название искажали двумя злобными линиями, пересекавшими заглавную букву: «$alzburg». На стенах небогатых кварталов появлялись листовки, объявлявшие их «зоной, свободной от культуры» – поскольку это понятие стало настолько близким к привилегиям, что массы уже не находили в культуре ничего привлекательного. Фестиваль, оторванный от жизни обычных простых людей, казался многим горожанам извращением общепринятых норм приличия, тучным пастбищем для мировых угнетателей.
В девять часов одного прекрасного, наполненного птичьим пением утра семьдесят четвертого по счету фестиваля я увидел очередь плохо одетых и неопрятных мужчин, женщин и детей, стоявших перед запертой дверью, охраняемой вооруженными полицейскими, недалеко от ворот старого города. Дверь принадлежала германскому консульству, а изголодавшиеся просители только что сошли с ночного поезда, привезшего их сюда с боснийских полей сражения, в нескольких часах езды от Зальцбурга.
Рейнхардт задумал свой фестиваль как убежище от ужасов войны. Теперь вернувшаяся в Европу война надругалась над его мечтами, высмеяв саму идею об отделении искусства от причин конфликт та. Зальцбург не мог смягчить кошмара Сараево. Напротив, он нес свою долю ответственности. На ступеньках «Моцартеума» я наткнулся на Генерального секретаря НАТО, живо обсуждавшего что-то с известным производителем вооружений; насколько я мог услышать, Моцарт в тему их беседы не входил. Между симфониями в Зальцбурге заключались сделки, обеспечивавшие непрерывный грохот канонады в Боснии.
Рейнхардтовский идеал «целомудрия» оказался беззащитным перед террором и потрясениями рушащихся наднациональных государств. Границы находились в опасной близости, и чем больше Зальцбург игнорировал их, тем более искусственным казался сам фестиваль. Вторгавшиеся в его пространство политика, финансы, коммерция и коммуникации совместными усилиями разрушали ускользающую мечту.
Очень немногие современные фестивали оказались способны отвлечь людей от современного зла или сохранить свою невинность в условиях давления извне. За пределами своего фестиваля Эдинбург стал кокаиновой столицей Великобритании. В лето после Чернобыльской аварии из меню ресторанов Люцерна исчезла рыба. Когда я последний раз проезжал мимо школы в Доббиако, перед ней строили деревянный помост. Ему предстояло выдержать вес оркестра из ста музыкантов и телевизионного оборудования для всемирной трансляции Девятой симфонии Малера. Идиллия закончилась. Композитор, пребывающий в смятенном состоянии души, больше никогда не приедет в Доббиако в поисках мира для своего измученного сердца.
X
Загадай на звезду
Жил-был многообещающий молодой пианист. Это был очень хороший пианист, с блестящей техникой, принесшей ему первое место на международном конкурсе и восхищение всех, кто разбирался в тонкостях обращения с клавиатурой. По причинам, которые станут понятны в дальнейшем, мы не будем разглашать его имя.
В отличие от других музыкантов, пробивающих себе дорогу через многочисленные конкурсы, у нашего героя был по-отечески относившийся к нему агент, ограждавший его от всех неприятностей, противостоявший предложениям, сулившим легкие деньги, и связавший его с фирмой звукозаписи, которая могла оказаться полезной для солидной долгосрочной карьеры. Первые записи пианиста получили теплую оценку в журналах «Граммофон» и «Диапазон», и все остались вполне довольны.
В один прекрасный день фирма назначила нового директора по маркетингу, и тот, изучив продукцию, пришел к выводу, что пианист недостаточно полно реализует свои возможности. Не то чтобы он играл слишком мало или слишком тихо, но его записи продавались в меньшем количестве, чем, принимая во внимание все обстоятельства, можно было бы ожидать от артиста его масштаба. Тут требовалась рекламная кампания, игра на личностных достоинствах, которая сделала бы пианиста товаром, входящим в число тридцати с чем-то продуктов категорий А и В или быстро приближающейся к тому же уровню категории С1, и превратила бы его в музыкальный эквивалент, скажем, рыбных палочек. Пианиста привезли на Кингз-роуд, что в Челси, обеспечили шикарными рубашками и галстуками, привели в порядок до самых кончиков его редеющих волос и поместили его фотографии на разворотах журналов для мужчин и семейных газет. Он давал глубокомысленные интервью по злободневным вопросам и проблемам интимных отношений. В течение целого месяца его имя и его музыка заполоняли все средства массовой информации.
А потом – тишина. Раскрутка, на которую так рассчитывали рекламщики, не смогла вывести его в первую десятку или ускорить темпы продаж его записей по сравнению с предыдущими показателями. Нераспроданные диски скапливались в магазинах. Буквально в один день прекратилась всякая реклама, закончились все интервью. Директор по маркетингу нацелился на скрипача-малолетку, а имя пианиста больше никогда не упоминалось на уровне совета директоров.
Он мужественно перенес разочарование, продолжая играть так же убедительно, как и прежде, делал по две записи в год, много гастролировал, менял агентов и фирмы в надежде на лучшее. Но его время прошло, каждый месяц появлялись все новые и новые молодые музыканты. Он не сумел воспользоваться моментом, а следующий удачный момент представился ему только в восемьдесят лет, когда имиджмейкеры почувствовали, что могут использовать его как живущего среди нас бессмертного.
Менее уверенные в себе исполнители, потрясенные этим слишком хорошо знакомым чередованием славы и забвения, искали утешения в спиртном, наркотиках и у сомнительных дельцов, обещавших им недостижимое второе пришествие. Дорога к известности в сфере классики вымощена разочарованными соискателями, многие из которых содрогаются от ужаса и недоумения при виде гораздо менее способных музыкантов, карабкающихся по их поверженным телам к сверкающим наградам. Успех в музыке, как и в бизнесе, часто зависит от правильного выбора времени, от того, сумели ли вы оказаться нужным человеком в нужном месте и в нужное время. Впрочем, классическая музыка оказывается более жестокой, чем бизнес, – она дает вам право только на один выстрел.
Кири Те Канава сумела поймать удачу, когда, получив приглашение петь на свадьбе принца Уэльского в 1981 году, она предстала перед собравшимися настолько привлекательной, что затмила блеск церемонии и обеспечила себе славу, оказавшуюся более продолжительной, чем сам брак. Воспользовавшись шансом, который, по ее словам, «дается раз в жизни», она появилась в ярко-желтом платье и экстравагантной шляпке, немедленно привлекших внимание операторов. Принц Чарлз, ставивший свою подпись в Книге записей актов на другом конце собора Св. Павла, пришел в восторг от «чудесных… бесплотных»[662]662
1 Fingleton D. Kiri. London, 1982. P. 179.
[Закрыть] звуков и стал ее самым преданным поклонником. Свадьба, за которой по телевизору наблюдала половина населения земного шара, сделала Кири звездой всех выпусков новостей. Имена большинства певцов, выступавших на королевских праздниках, забывали прежде, чем архиепископ заканчивал свое благословение.
Скрипачка Анне-Софи Муттер в возрасте тринадцати лет сумела извлечь максимальную выгоду из непостоянного покровительства Герберта фон Караяна и покорила сердца немцев точностью своей техники и зрелостью исполнения. Ее превозносили как королеву немецкой музыки – надежную, непобедимую и желанную почти как новый «мерседес»; вся боль и все трудности оставались надежно укрытыми за фасадом успеха. Молодому виолончелисту, принятому Караяном примерно в то же время, предоставили молча восхищаться стремительным восхождением Муттер.
Ни одному победителю конкурса имени Шопена не удавалось произвести такую сенсацию, как Иво Погореличу. Его не пропустили на заключительный тур в 1980 году, и это стало причиной выхода из жюри Марты Аргерих, золотой лауреатки 1965 года. Широкая огласка этого инцидента, в сочетании с абсолютно наплевательским отношением к нему молодого серба, обеспечила последнему место среди исполнителей, получающих от тридцати тысяч долларов за концерт до любой суммы, которая им взбредет в голову. «Я нужен Америке не меньше, чем она нужна мне», – заявил он со страниц «Нью-Йорк таймс». «Когда я впервые встретился с Караяном, – хвалился он, – я был потрясен тем, как мало в нем было от музыканта. Я сказал ему: "Маэстро, прежде чем мы с вами пойдем к оркестру, я должен объяснить вам пару вещей…"»[663]663
2 Umbach К. Geldschein-Sonate: das Millionenspiei mit der Klassik. Frankfurt, 1990. S. 67–69.
[Закрыть] Погорелич записал си-бемоль-минорный концерт Чайковского с Аббадо в искаженном темпе и объявил свое исполнение стандартом для нового тысячелетия. Он скользил по волнам возмущенной критики, как серфингист, стремящийся достичь золотого песчаного берега. Одну враждебную рецензию он отправил в Париж на судебно-психиатрическую экспертизу. Медицинское заключение о том, что критик одержим гомосексуальной страстью к пианисту, разослали всем издателям газет и концертным менеджерам в Лондоне. «Мое истинно космополитическое сердце заставляет меня, как это было и во многих случаях в прошлом, преодолеть мою природную застенчивость, перешагнуть через собственное "я" и заняться проблемами, представляющими интерес для широкой публики», – туманно объяснял Погорелич[664]664
3 Письмо, направленное автору и другим лицам 15 мая 1987 г.
[Закрыть]. Критику-оскорбителю пианист прислал свою фотографию с рекомендацией использовать ее для самоудовлетворения.
Говорите, что вам заблагорассудится, о маэстро Иво Погореличе (так он подписывал свои письма), но никто и никогда не сможет обвинить его в том, что он не сумел правильно воспользоваться моментом. Именно этот талант, наряду со всеми остальными, принес ему солидный контракт с «Дойче граммофон» и пропуск в будущее. Играл ли он лучше, чем неназванный пианист, о котором шла речь в начале этой главы, превзошел ли его в совершенстве техники или в глубине интерпретации? Станет ли он когда-нибудь вровень с Горовицем в списке неприкосновенных? Ответ на оба вопроса, скорее всего, будет отрицательным; но если Погорелич и обладал чем-то еще, кроме фортепианного мастерства и двусмысленной харизмы, так это жаждой успеха, сделавшей его особо ценной фигурой для мастеров рынка классической музыки.
В отличие от механизма поп-музыки с его бесконечным круговоротом взаимозаменяемых звезд, в серьезной музыке не принято творить монстров. Поп-сектор руководствуется стратегией ковровых бомбардировок, ежемесячно заваливая магазины и радиоволны массой новых исполнителей и быстро направляя усилия на поддержку того из них, кто лучше продается. Стоимость раскрутки пятидесяти неудачников легко возмещается сборами от одного крупного хита. В классике цена записей настолько велика, а поле настолько узко, что даже самая солидная фирма может позволить себе выпустить в месяц лишь горсточку новинок – отсюда необычайная вера и колоссальные гонорары, связываемые с известными именами, на узнаваемость которых можно рассчитывать.
Однако что именно делает артиста звездой в классической музыке, остается загадкой. Уникумы, затмевающие своим блеском всех остальных – Хейфец, Горовиц, Карузо, Каллас, – отмечены перстом божьим. Остальные, как правило, добились всего своими силами и вознеслись на высоты благодаря тому, что сумели воспользоваться моментом. Коридоры звукозаписывающих компаний заполнены имиджмейкерами и суперагентами, утверждающими, что именно они «сделали» Паваротти, или Джесси Норман, или Найджела Кеннеди, и обещающими повторить этот подвиг. Увы, истина состоит в том, что ни один из этих магов ни разу не смог зажечь вторую звезду. Рождение звезды – это тайна, опровергающая теорию маркетинга и все волшебно-комичные усилия все более безнадежной индустрии.
ОТКОРМ БОЛЬШОГО ЛУЧИ
С высот своей славы Лучано Паваротти иногда может задаться вопросом: как случилось, что он стал таким великим. Он стал самым прославленным тенором со времен Карузо и самым богатым за всю историю музыки. Когда в 1995 году поползли слухи о том, что его жена Адуа собирается подать на развод, состояние Паваротти, по самым скромным оценкам, достигало ста пятидесяти миллионов долларов плюс двадцать миллионов ожидаемых гонораров. Ему принадлежали роскошная вилла в родной Модене, квартира в районе Центрального парка в Нью-Йорке, обязательная для облегчения налогового бремени недвижимость в Монте-Карло, собственная фирма и финансовая компания, сельскохозяйственный кооператив и всемирно знаменитая конюшня скаковых лошадей. Он стал единственным классическим музыкантом, одинаково часто оказывавшимся в центре внимания светских журналов и грязных таблоидов.
Отец Паваротти всю жизнь был скромным пекарем, и первые шаги Лучано не позволяли даже предположить, явлением какого масштаба он станет. Ему не давали ролей в театре родного города, и только в двадцать пять лет, в апреле 1961 года, он получил возможность выступить в «Богеме» в небольшом провинциальном центре Реджо-Эмилия. Заручившись этим ангажементом, он женился на Адуе, а спустя два года дебютировал в Ковент-Гарден в той же партии. Затем последовали двенадцать выступлений в моцартовском «Идоменее» в Глайндборне, где Лучано научился упорно работать в составе постоянной труппы. При этом техника его оставалась нестабильной, а будущее – неопределенным. Он без особого труда брал верхнее до, но многим казалось, что ему не хватает физической мощи и он может перегореть молодым. Он стал подрабатывать продажей страховых полисов, как бы ища себе возможное альтернативное применение, но внешне неизменно казался человеком, исполненным joie de vivre – радости бытия; со временем оказалось, что эта особенность придает ему наибольшее обаяние. Но что же – или, скорее, кто же – вознес этого беззаботного юношу над всеми оперными певцами его времени, причем до недосягаемых высот?
Паваротти, как человек, начисто лишенный ложного тщеславия, считает, что обязан успехом своим выдающимся габаритам. Действительно, при весе, превышающем сто двадцать килограммов, его нельзя не заметить. «Из-за моих размеров меня не забудет никто, кто хоть раз меня видел», – утверждает он[665]665
4 Pavarotti L. My World. London, 1995. P. 263.
[Закрыть]. До двадцати лет он играл левым нападающим в местной футбольной команде. «Я был сложен как спортсмен. Когда я бросил спорт, то стал набирать вес», – вспоминал он[666]666
5 Интервью с Хантером Дэвисом для журнала «You». Не датировано.
[Закрыть]. Придавая исключительное значение расстановке камер, он любил шутить по поводу своей тучности. «Я счастлив вопреки собственному весу»[667]667
6 Pavarotti L. Op. cit., р. 80.
[Закрыть], – приговаривал он. Но многие поклонники считали, и в их убежденности было нечто суеверное, что толщина необходима как самому Паваротти, так и его таланту. Она казалась им не только источником его неотразимого внешнего добродушия, но и основой его роскошных высоких нот. Его личный представитель Герберт Бреслин говорил: «Когда Лучано поет, люди не воспринимают его толщины. Они воспринимают только его голос и радость от его пения. Тощий Паваротти с двадцатью пятью процентами этого голоса не значил бы ровным счетом ничего»[668]668
7 «Daily Telegraph», 3 March 1992.
[Закрыть].
С ростом славы Паваротти его фотографии и сообщения об уменьшении или увеличении обхвата его талии стали излюбленной темой популярных изданий и плакатов. Один американский автор описал его как «лишь немногим уступающего по размерам Вермонту». Миланская «Коррьере делла сера», дойдя до грани неприличия, высмеивала его «толстое пузо» и жаловалась, что он превращается в глазах людей в «своего рода гротескного короля карнавала»[669]669
8 «Daily Telegraph», 13 August 1991.
[Закрыть]. При всей болезненности подобных заметок для Паваротти, они служили горючим для механизма, создававшего его грандиозный образ. Хотя Большой Лучи резко реагировал на слухи о том, что он выдвигает условия при отборе артистов в оперы, в которых поет, он ни разу не подал иск против тех, кто писал о его тучности. Он лучше других знал цену узнаваемости.
Многие люди утверждали, что своей славой Паваротти обязан именно им. Впрочем, ключевых фигур в этой истории немного, они достаточно случайны и порой враждебно настроены друг к другу. Первой и почти альтруистичной была Джоан Сазерленд. Неопытный итальянец понравился ей, потому что превосходил ее ростом; обычно она оказывалась выше всех теноров. Именно поэтому в феврале 1965 года она убедила оперные компании Большого Майами и Форт-Лодердейла ангажировать Паваротти на четыре спектакля «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, где пела сама; это стало его дебютом в Америке. Потом она взяла его с собой в шестинедельную поездку по родной Австралии. Паваротти, как благодарный щенок, прыгал вокруг местной героини в «Лючии», «Сомнамбуле», «Травиате» и «Любовном напитке».
Все сходятся в том, что пел он божественно, но его голосовой аппарат был недостаточно развит. Именно Сазерленд, встав перед ним и положив его руки на свой живот во время пения, научила его правильно управлять диафрагмой. «Каждый раз, когда я входил, он стоял, ухватив мою жену за живот, и пытался понять, как она дает опору голосу, как она дышит», – рассказывал дирижер Ричард Бонинг[670]670
9 Pavarotti L. My Own Story. London, 1981. P. 100.
[Закрыть]. Так, «задним числом», Паваротти развил свой голос настолько, что кажется, словно он исходит у него откуда-то из-под колен. Почувствовав себя более уверенно, он начал пробиваться на сцену. В июне 1966 года Сазерленд и Паваротти снова пели в Ковент-Гарден и «отлично повеселились» в «Дочери полка» Доницетти; хотя критики морщили носы от этой «сентиментальной, балаганной» оперы, впоследствии именно она стала для Паваротти пропуском в Америку.
Он пел с Караяном в Ла Скала и достиг полного сценического взаимопонимания с Миреллой Френи, как и он, уроженкой Модены, но к тридцати двум годам у него не было еще ни одной записи. Он рассылал пленки по всем крупным компаниям, однако в конце шестидесятых теноров хватало, и продюсеры не хотели рисковать и обижать своих домашних звезд, записывая вместо них самонадеянного новичка. «Когда я начинал, работали двадцать великолепных теноров – Корелли, Гедда, Раймонди, Бергонци, ДиСтефано, Дель Монако, так что я старался найти вещи, которые они не пели», – вспоминал Паваротти. Бонинг обратил внимание певца на оперы мастеров бельканто Беллини и Доницетти, в которых особенно ярко проявлялся талант его жены.
После этого чета Сазерленд – Бонинг в третий раз оказала ему огромную услугу, рекомендовав его компании «Декка», несмотря на возражения ее европейского руководителя Мориса Розенгартена, который «сам волновался, что скажет Дель Монако». По словам продюсера фирмы «Декка» Джона Калшоу, Розенгартен «не хотел Паваротти, и, казалось, ему все равно, кто из наших конкурентов его перехватит»[671]671
10 Culshaw J. Putting the Record Straight. London, 1981. P. 345–346.
[Закрыть]. Наконец он разрешил выпустить пластинку на 45 оборотов с одной арией на каждой стороне, этакий поп-сингл, за который классический отдел не знал, как и взяться. Самые большие хлопоты пришлись на долю Терри Мак-Юэна, руководителя американского отдела «Декка-Лондон» и близкого друга и почитателя Сазерленд.
Могучий канадец Мак-Юэн понимал, что в руки ему попал выдающийся тенор: об этом ему говорили Джоан и его собственные уши. Но сингл, присланный ему из Лондона, не продавался и оказался совершенно бесполезным с точки зрения американской карьеры Паваротти. Его дебют в Майами прошел незамеченным, его сан-францисская «Богема» с Френи в ноябре 1968 года также почти не имела откликов. Его выступления в Метрополитен-опере, намеченные на следующий год, сорвались из-за сильной простуды, он слег после первого же представления «Богемы». Он улетел домой, в Модену, отказался от тридцати потрясающих ангажементов и заслужил в оперных кругах США репутацию ненадежного. Мак-Юэн пришел в ужас. Он сражался с фирмой «Декка», чтобы записать Паваротти в дуэте с Сазерленд, и ему было необходимо, чтобы все прошло гладко. И тогда, следуя примеру многих бизнесменов, оказавшихся в трудном положении, Мак-Юэн нанял журналиста. Когда Паваротти вернулся в «Мет» и спел с Сазерленд в «Дочери полка» в феврале 1972 года, прессу подготовили к сенсации. На генеральной репетиции Паваротти взял девять верхних до, и оркестр аплодировал ему стоя. Журналист Мак-Юэна, проворный Герберт Бреслин, окрестил его «Королем высоких до», и с тех пор дорога певца круто пошла вверх. Старейший оперный критик Ирвинг Колодин говорил о его «безупречном чувстве линии». Харолд Шонберг в «Таймс» назвал его голос «тенором мыслящего человека»[672]672
11 Mayer M. Grandissimo Pavarotti. London, 1986. P. 93.
[Закрыть].
Он доказал, что создан для телевидения, блеснув наивным очарованием и озорным юмором в шоу Джонни Карсона «Сегодня вечером»; его приглашали в это же шоу еще более десяти раз. После трансляции «Богемы» с ним и Ренатой Скотто в главных ролях на телевидение пришло двадцать пять тысяч писем от зрителей. Его портреты появились на обложках «Тайм» и «Ньюсуик».
Для Бреслина все это было лишь началом. Этот «журналист для Паваротти», бывший школьный учитель, родившийся в 1924 году, вернулся из армии в конце Второй мировой войны страстным любителем оперы и получил стипендию для учебы в Сорбонне. Он немного работал в рекламном отделе автомобильной компании в Детройте, а потом стал мелким клерком в концертном агентстве Энн Колберт в родном Нью-Йорке. Первой артисткой, которой ему поручили заниматься, оказалась Сазерленд, и ради нее Бреслин научился распугивать наглых репортеров. «Идея состояла в том, чтобы умерить ее рекламу, потому что ей слишком много доставалось», – рассказывала мисс Колберт. Следующим проектом для Бреслина стала Элизабет Шварцкопф. «Я подумала, будет неплохо, если ею займется такой славный еврейский паренек, как Бреслин, ведь у нее была скверная нацистская репутация, – говорила агент. – Удалось ли это ему? О да!»[673]673
12 Интервью с автором.
[Закрыть] Работая со Шварцкопф, Бреслину пришлось любезничать с теми же журналистами, которых он раньше отчитывал. Шварцкопф, изгнанная из Метрополитен Рудольфом Бингом, пела в концертах и сольных вечерах, выступала по телевидению и записала Генделя в Детройте. Жизненно важная роль, сыгранная Бреслином в ее реабилитации в Америке, еще не до конца изучена биографами певицы.
Проведя шестидесятые годы под крылом Колберт, Бреслин открыл независимое агентство, и первой его клиенткой снова стала Сазерленд. «До конца своей карьеры она платила ему за то, чтобы он не подпускал к ней прессу», – рассказывал один из сотрудников[674]674
13 Мерл Хаббард в интервью с автором.
[Закрыть]. Затем он познакомился с испанской пианисткой Алисией де Ларроча. «Он считал ее замечательной артисткой, которая не полностью реализовалась и которой он мог бы помочь», – сказали мне в «Таймс»[675]675
14 Комментарий Питера Дэвиса в беседе с автором.
[Закрыть]. Бреслин сумел найти журналистов, которые привлекли внимание публики к Ларроче, но передал ведение ее дел Роналду Уилфорду в «Коламбию». Он чувствовал, что сам не может вести переговоры о гонорарах и контрактах на записи. Тем не менее он продолжал осуществлять «творческий контроль» за расцветающей карьерой пианистки. Среди тех, кто обращался к Бреслину за особой помощью, были такие любимцы Метрополитен, как Ричард Такер, Мэрилин Хорн и Леонтин Прайс.
Бреслин внес мужскую мускулистость в дамский мирок музыкальных общественных связей. Его конкурентками были опытные дамы средних лет – Дорле Сориа из «Энджел рекордс», Маргарет Карсон, отвечавшая за Бернстайна, Одри Майклз, занимавшаяся отдельными артистами Артура Джадсона, Шейла Портер, сестра критика из «Нью-Йорк таймс». Эти дамы обедали с издателями и заваливали критиков ворохами пресс-релизов. В тех ситуациях, когда они орудовали ножом для рыбы, Бреслин предпочитал пользоваться телефоном, и хотя изъяснялся он прозой, его стиль порой бывал невозможно слащавым и витиеватым. Однажды он назвал Сазерленд «величайшим сопрано столетия» и тут же дополнил свою похвалу следующим объяснением: «Она может быть самым лучшим сопрано столетия, но у нас нет способа оценить это. Мы просто знаем, что она – единственный человек в мире, кто может спеть «Эсклармонду»». В тех случаях, когда речь не шла о рекламе, предназначенной для широкой публики, Бреслин разговаривал не лучше травмированного грузчика. Он никогда не говорил, если мог кричать, никогда не любезничал, если мог оскорбить. Тем, кто имел несчастье получить бесплатную порцию его грубости, он представлялся «самым искренне ненавидимым человеком в музыкальном бизнесе»[676]676
15 Walsh М. Snakeoil and the Fat Man // «New York Magazine», 13 November 1995.
[Закрыть].








