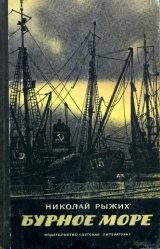
Текст книги "Бурное море"
Автор книги: Николай Рыжих
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
X
Проснулся от качки. Ставит в вертикальное положение, каюта падает в разные стороны. В такт ей болтается дождевик на вешалке, перекатываются и хотят выскочить карандаши из подстаканника. Постукивает пробка графина. Куприн зеленым переплетом разметнулся по палубе. За переборкой гудит море.
Во всем теле противная слабость, болит голова. Во рту отвратительный привкус. Поудобнее устраиваюсь, упершись ногами в переборку, натягиваю до подбородка одеяло. В каюте сыро и холодно, вставать не хочется.
Вдруг дверь с треском распахнулась, и влетел Брюсов. Он прогромыхал через всю каюту пудовыми сапогами, которые казались больше его самого, и влип в угол дивана, цепко схватившись за стол.
– На винт намотали! Штормик правильный, – тяжело дыша, сказал он.
«Намотали на винт», «штормик правильный»... «Онгудай» предоставлен воле волн – вот откуда эта беспорядочная качка. Я сразу проснулся.
С трудом попав в сапоги, балансируя и хватаясь за что возможно, выбрались на палубу. Хлестнуло холодными брызгами, полусонное тело вздрогнуло. По палубе катится грохочущая лавина. Она пенистой шубой метнулась к борту, тряхнула его, расшиблась и, прыгая, понеслась на корму, полоская все палубные надстройки и пробуя их прочность.
Выждав момент, как конькобежцы на финише, кинулись к мостику. Только успели вскочить на ботдек, как очередная волна пронеслась под ногами. Она ворчала, сожалея, – ей удалось лизнуть только каблуки наших сапог.
На мостике все ребята. Держатся за что возможно. «Онгудай» валяет с борта на борт, крен доходит до сорока пяти градусов. Мне уступили место рядом с Макуком.
– Прогноз? – спросил я его.
– Восемь, порывами десять, ветер от зюйд-оста, временами снегопад, – ответил за него Брюсов. Он стоит у окна и палит аварийные ракеты. Сын подает ему их из грязноватой наволочки.
– Перестань, – сказал ему Макук, – все одно без толку.
– Как сальник? – Мне сразу вспомнилось, что Андрей в последние дни то и дело лазил в ахтерпик подбивать сальник. В плохую погоду его могло вышибить.
– Наверно, совсем выбило, – спокойно сказал боцман.
От этого спокойствия стало не по себе... Вода заполняет ахтерпик, а там доберется и до машинного отделения – переборка между этими помещениями не герметична. На спину посыпался холодный, колючий песок.
– Двери, люки, иллюминаторы в корме задраены? – Мой голос, кажется, дрожал, хотя я пытался придать ему как можно больше обыкновенности.
– Задраены, – буркнул боцман; помолчав, добавил: – Помпа полетела, вот уже три часа механики ковыряются...
Полетела помпа! «Онгудай» заполняется водой и откачать ее нечем. Кинулся на крыло мостика – дверь так и рвануло ветром, – корма почти вся осела, нос борзо торчит из волн. Обожгло щеки, поясница стала мокрой, заныл низ живота и похолодел затылок.
Смотрю на ребят. Машинной команды – стармеха, второго механика, Андрея – нет. Боцман стоит у двери. Хмурый... Сергей обнял тумбу локатора, навалившись на нее животом. Мишка с Васькой схватились с противоположных сторон за рулевое колесо, белые, – у Васьки даже веснушки посинели и приоткрытый рот тоже синий. Брюсов держится за подоконник. Сын подпер косяк двери. Борька стоит возле штурманского стола, жалкий какой-то – видимо, он виновник аварии.
Лихорадочно стучат мысли, запоминается каждая мелочь. Надо бы рыбу из трюма вылить за борт, у «Онгудая» увеличится плавучесть, но сейчас уже поздно – смоет всех ребят и трюм захлестнет волной. И, как будто отгадав мои мысли, боцман говорит:
– Рыбу мы за борт смайнали, Александрыч велел. – Помолчав, добавил: – Вас я не хотел будить.
– Где находимся?
– Южнее Братьев, – ответил Борис, – миль на пять. Радиопеленгатор барахлит, я по глубинам определялся.
– Дак в море одинаковых глубин много, – отозвался Макук. Он стоял у окна и обводил биноклем горизонт.
– Дали радио о помощи, – сказал Борис.
– Скорей бы нас спасли, – сказал Васька.
– «СРТ-1054» идет...
– А он успеет? А, ребят? – тревожно и тихо спросил Васька.
– Цыц! – так же тихо, но твердо оборвал его боцман.
Откачать бы воду. Судя по прогнозу, шторм большим не будет, «Онгудай» даже без машины выдержит. Только бы осушить ахтерпик. Помпа... Надо же полететь в такой момент! Впрочем, всегда так: все беды приходят вместе, компанией.
– Вишь ты... как оно бывает, – задумчиво и угрюмо проговорил Макук и стал закуривать.
Наверно, в ахтерпике уже много воды, корма «Онгудая» только временами показывается из волн, над водой показывается только угол площадки. А волны непрестанно валятся сбоку и немного с кормы. Задавив корму, подкатятся к рубке, тряхнут ее и клокочут к носу. После каждой волны палуба уходит из-под ног. Холодеет спина, стучит в висках, дергается колено – каблук отбивает дробь. Пылает лицо. Открываю окно и подставляю лицо хлесткому, как цыганский кнут, ветру – так не будет заметно мое волнение. Потом яростно, до боли в колене, выпрямляю ногу и до боли в кончиках пальцев сжимаю косяки окна. Предательская дрожь исчезает. Черт возьми, неужели я трус?!
Вдруг серая стена воды встает перед «Онгудаем». Встает медленно, тихо. Ее гребень пучеглазо смотрит на «Онгудай», плюется по ветру рваной пеной и валится на всех нас. Она не спешит. Она выбирает момент, как бы посильнее ударить. Палуба уходит из-под ног, затылок сам лезет в плечи, внутри что-то вот-вот оборвется. Хочется закричать.
– Эх, дура-то какая! – с неестественным смехом говорит Брюсов, – как в кин... – и захлебнулся на полуслове.
Кажется, не я один трушу. Вот и Брюсов фальшивит. Острит – и здесь пытается быть в своей роли.
Тонны воды рухнули на «Онгудай», укутали его пеной. На ботдеке что-то загрохотало – нос шлюпки слетел с кильблоков и с ломающимся треском бьется о надстройку.
– Шлюпку-у! – гаркнул боцман и выскочил из рубки.
Мы кидаемся спасать шлюпку: крепим, заводим двойные концы, пытаемся водворить ее на место.
– Полундра! – крикнул боцман.
Я только успел обнять шлюпбалку и захлестнуть вокруг нее конец, как ледяная лапа двинула снизу, завернула полушубок и стала давить к шлюпбалке – вот-вот сломается грудная клетка. Потом отступила и хочет оторвать... вот...
– Держись!!!
– Чиф! – пронзительно закричал Брюсов.
Кто-то хватает ногу, кто-то тянет шубу...
– Убьет же... – в самое лицо дышит боцман, выплевывая из легких воду.
– Возьмите конец, – я отдаю ребятам конец, дышать и шевелиться больно. В груди покалывает.
– Навались, ребятки! Еще разок! – хрипло кричит боцман.
Ребята работают с остервенением. Вода, пена, брызги. У Брюсова тоже нет шапки.
Разгоряченные, возвращаемся в рубку, шлюпка на месте. Вода льет с нас ручьями.
– Переодеться бы.
– Сойдет.
Тут же в рубке стаскиваем мокрую одежду. Из сушилки принесли ворох сухих до треска, белых от соли, ломающихся ватных штанов, телогреек, ссохшихся сапог.
– Если бы не старпом, не видать бы нам шлюпки.
– А если бы не боцман, не видать бы и старпома.
– Это ж так нельзя, – расстроенно говорит Макук. – Куда ж это годится? Ну? Не дети ж...
– Да ладно, Александрыч, – нехотя отмахивается боцман, – все прошло уже.
Не успели натянуть сухую одежду, как страшная волна проехалась по лежащему на боку «Онгудаю», глухим ударом тряхнула рубку и с треском вырвала шлюпку. Несколько раз шлюпка мелькнула полосатым днищем в волнах и исчезла.
– Поплыла-а-а, – присвистнул Брюсов.
– Черт с ней, – прохрипел боцман.
Подхожу к Макуку. Он хмуро смотрит в окно и как будто самому себе говорит:
– И зачем эта лихость! И все одно без толку.
Мысли стучат хронометром, чего-то не хватает. Но чего? Закурить бы? Беру у Макука кисет, мастерю самокрутку.
Сколько же прошло времени? Уже наступает ночь. Горизонта теперь совсем не видно. Только снег, брызги... темь. Снежинки светятся. Они кружатся свистящим роем, хлещут по окнам рубки, тут же набухают, тают и текут жидкими хлопьями по стеклу. Спасательные пояса, аварийные плотики, шлюпка... зачем-то перед глазами встают картины Айвазовского. Там все в нежных романтических красках. Даже ураганные ночи в мягких тонах. А тут – никакой романтики...
Опять стучит каблук. Опять стискиваю зубы, напрягаю ногу и высовываюсь в окно. По глазам бьет мокрый снег, но не больно...
Прошлой зимой мы входили в Курильский пролив – Петрович и я торчали на верхнем мостике, – перед проливом камень. Авось, или, как зовут его моряки, Авоська; тоже была ночь, тоже шторм, снег. Но тогда снег был колючий, он хлестал по глазам и не давал смотреть. А этот бьет не больно. Он тает на лице и лезет в губы. «Онгудай» медленно всплывает после очередной волны. Вода клокочет по палубе, гремит чем-то – что-то выломало – и валится за борт широкими синими струями. Как из переполненного блюдечка.
Видимо, ахтерпик уже затопило – нос «Онгудая» будто больше высунулся из воды, стоять уже трудно, скатываешься назад. Шлюпки... но одной уже нет. Вторая, но она всех нас не заберет. Есть еще аварийные плотики, спасательные пояса, но сразу окоченеешь. Даже от одной этой мысли становится холодно.
Из машинной команды никого нет – значит, помпу еще не наладили. Посмотреть, что там у них творится.
Спускаюсь в машинное отделение. Ударило запахом солярки и пара. На малых оборотах, вхолостую стучит дизель. Пена и брызги летят из разбитого стекла,светового люка на подволоке – сам люк задраен, конечно, – и, падая на горячую крышку дизеля, испаряются. Под пайолами мечется вода и выскакивает из пазов вместе с маслом и соляркой.
Сапоги разъезжаются по скользкому настилу. Здесь еще хуже, чем на мостике.
– Люди, где вы?
– Здесь, – слышу в углу за дизелем голос стармеха.
Они возятся с помпой, перепачканные до неузнаваемости. Идет решительная схватка.
– Семнадцать на девятнадцать, двадцать четыре на двадцать семь, – металлическим голосом говорит Андрей, работая ключами.
Второй механик зажимает ломиком прокладку и часто посматривает на подволок, откуда летят пена и брызги. Стармех одной рукой держит переноску, другой подает Андрею нужные инструменты. Он вешает переноску, достает грязноватую ветошку, вытирает мокрую лысину. Он весь мокрый – под расстегнутой телогрейкой на красноватой пупырчатой груди светятся капельки пота. Дышит тяжело – видимо, отдувается от только что сделанной работы.
– Ну что у вас?
– Перебрали еще раз, – говорит он, – сейчас пустим. – В тусклом освещении морщины на его лице тенистые.
Поднимаюсь на мостик. Когда проходил через кают-компанию, дверь камбуза приоткрылась, высунулась Артемовна. В неизменной форме: белый халат, поверх него душегрея.
– Товарищ старший помощник! У меня какава готова и котлеты есть. Наверх отнести или ребята здесь будут кушать?
Фу ты, бог ты мой! Нашла время потчевать «какавой» Странная женщина – всегда о всех заботится. Вероятно, это у нее в крови.
– Сюда, сюда придут.
– А то я могу туда отнести, если некогда...
После моего сообщения ребята немножко повеселели. Скоро «Онгудай» освободится от воды. А может, ничего страшного и нет?
– Хочь бы поскорее откачать ее, – говорит Васька.
– А он, кажись, стихает, – доносится голос Брюсова от окна.
– Господи, и зачем такое наказание на нас? – продолжает Васька.
– Ты же денег хотел, Вась, – вставляет Брюсов.
– Да не нужны они, эти деньги. Только бы домой добраться. Бог с ними, с деньгами, совсем. И эти бы отдал, что есть. Все бы отдал. Все до копеечки.
– Ну вот, раскудахтался, – ворчит боцман.
– Как не повезло... – вздыхает Борис.
– Надо было домой идти, тебе же Александрыч говорил? – желчно, отдуваясь и вытирая руки ветошью, говорит второй механик – он поднялся вслед за мной из машины, – так ты все «последний заметик», «тринадцатую звезду», «клянусь головой акулы». Вот тебе и «акула».
– Я думал, успею до шторма, – подрагивающим голосом лепечет Борис.
– Нечего было думать, тебе капитан говорил!
– Ну ты, мотыль, не кричи, – обрывает его боцман, – мы все хотели сделать еще одно траление.
– Да перестаньте вы, – перекосив лицо, вмешивается Сергей, – нашли время...
– Да не шумите, ребята, – вставляет Макук, – тут и я-то, старый дурак, недоглядел...
На мостик поднялся радист:
– Старпома или капитана просят к микрофону.
– Сходи, – сказал мне Макук.
Капитан «СРТ-1054» просил приготовить буксирный конец. У него тоже есть буксирный, но неплохо иметь запасной. Просил не волноваться, идет аварийным ходом.
А волны все так же терзают «Онгудай», все так же «Онгудай» переваливается с борта на борт, свистящие рукава прерывисто несутся через него, пена и брызги бьют по окнам рубки. Палуба освещена прожектором. Волны падают откуда-то сверху, из темноты, мечутся по ней. Иногда, разбившись о нее, подкатываются к лебедке, укутывают ее прыгающей пеной. Тряхнут рубку. А если наваливается девятая, то от «Онгудая» остается над водой только рубка и нос. И «Онгудай» очень долго всплывает после нее. В такие моменты Брюсов тянется на носках в сторону и вверх – помогает всплыть судну.
Макук молчит, то и дело курит. Все молчат. Шторм как будто стихает. А может, и не стихает. Может, это только так кажется?
– Скоро подойдет пятьдесят четвертый, – бодрится Брюсов, – возьмет нас на буксир, поставит против волны, водичку откачаем, и Васька будет есть халву.
Никто не засмеялся.
Все та же ночь. Все тот же ветер. А вдруг помпа никогда не заработает? Впрочем, чепуха какая. А если не успеет 54-й?
Интересно, что же у нас там дома творится? Там только день кончается. Бабка хлопочет возле печки, ужин собирает, ворчит на Витьку со Славкой. Они пришли из школы и зашнуровывают коньки. А может, собираются «на халтулу лаботать». Это в отпуске я был. Они как-то лазили под кроватью, отыскивая старые штаны, ботинки, и когда я спросил, куда они собираются, Славка деловито ответил: «На халтулу... лаботать». Оказывается, рядом проводили шоссейную дорогу и предприимчивый прораб сагитировал все пацанье поселка подносить опилки. За это платил по рублю на кино... Черт возьми, все так надоело! А когда я буду подкидывать Славку вверх, он будет выкатывать глаза от восторга и кричать: «Полундла, капитан, на моле кацка»!
Из машины поднялся Андрей.
– Ну как?
– Андрюша, помпа как?
– Все нормально, – сказал он, – работает.
– Хух...
XI
– Кому «Казбек»?! – кричит Брюсов. Несколько рук тянутся к новенькой коробке с гарцующим всадником, потом разочарованно отстраняются – в красивой коробке махорка.
Василий притащил сгущенку, втиснулся в угол между переборкой и телеграфом на мое любимое место и обрабатывает банку.
– Нет, теперь уж дудки, – говорит он, прикладываясь к банке, – на море я больше не работник. И какой дурак заставил меня пойти на этот дырявый сундук?
– Сам ты сундук, – заметил Сергей.
– С клопами, – добавил боцман.
Василий, не обратив внимания на реплики, продолжает:
– И что это за море? Никакого постоянства, все одно что вертихвостка.
– .Ох и глуп же ты, братец, – сказал Андрей.
– Болван! – с отвращением подтвердил боцман.
– Погоди, он еще не то сморозит, – добавил Сергей.
– Один ноль в пользу Васьки, – констатирует Брюсов. – Ну-ка разделай их, Вася.
– Ай не правда? – наивно спрашивает Васька.
– Цыц! – коротко цыкнул боцман. Его шея краснеет, волосатый треугольник на груди возбужденно колышется. Он закипает. Кажется, затронуты сердечные струны боцмана – он вот-вот поднесет к носу Васьки свой репчатый кулак.
А Васька, нарочно не замечая смертельной обиды, нанесенной боцману, поворачивает к нему свою хитренькую мордочку и продолжает добродушным тоном. На перепачканном молоком губах блуждает самая невинная улыбка.
– Да, Егорович, да сам посуди: то шторм, то штиль, то солнышко, то метель, то туман, то буран, то еще что...
– Вообще говоря, – вмешался Андрей, – за эти слова тебя бы следовало выбросить за борт...
– Не утонет, – утвердил боцман, – эта штука не тонет.
– ...или повесить на рее. Но поскольку ты, братец, глуп, поезжай-ка в свои Васюки, купи дом с забором, злого пса заведи, замками, конечно, запасись и, как не раз уже говорил тебе боцман, ближе чем на тысячу миль к морю не приближайся.
– Вась, а Вась, – вмешивается Брюсов, – заведи Манюню в онючах. Онючи чтоб носила с красными подвязками.
– У нас давно уже онючи не носят. У нас давно уже носят капрон, баретки...
– А что это такое – баретки?
– Попробуй пойми его, – ворчит боцман. – Как оно есть мережа, так оно и есть мережа. Тьфу! – Боцман никак не может успокоиться.
– А что вы надсмехаетесь?! – притворно возмущается Василий. – «Манюню», «онючи», а у самих никогда жен не было и не будет. Болтаетесь по морям, а что толку? Вчера Камчатка, нынче Сахалин, завтра Магадан или Корея какая-нибудь. Бродящая публика: ни кола, ни двора.
– Нет уж, Вася, – уже серьезно говорит Брюсов, – это твое дело заводить колы да дворы.
– Да вон еще второго механика, – добавляет боцман.
– А я причем? – откликается второй механик, – меня государство обеспечит.
– Вот, вот, только за этим и примазался к нам, чтоб только квартиру вырулить.
– Да брось ты, боцман, слова тратить, – морщится Андрей, – они ж на одну колодку состряпаны. Давай лучше закурим.
– Нет, ребята, что вы ни говорите, – продолжает Васька, заламывая руки за голову и потягиваясь, – а на берегу лучше. Какие у нас луга... коров не видно в траве!..
Начинается обычное. Опять про берег, опять про дом, про женщин. Странные парни! Несколько часов назад, когда «Онгудай» заполнялся водой, были совсем другие: второй механик, ремонтируя помпу, смотрел на подволок, откуда летела пена и брызги; Андрей, заворачивая гайки, скрипел зубами; у Сергея было детское выражение лица; Брюсов фальшивил, а Васька был деревянный от страха. И у всех была предательская мыслишка: а вдруг не успеем откачать воду, вдруг помпа подведет? А сейчас вот беззаботно переругиваются, острят, рассуждают о береге. На берегу же и не вспомнят, что в море были какие-то неприятности, разве только Васька когда-нибудь расскажет своим землякам о каких-нибудь страхах и чудесах, увиденных на море. А сейчас будто другие ребята, только о береговых пустяках и говорят. Эх, рыбацкая доля! Подлый напиток: пьешь, морщишься, а оторваться не можешь. И чем больше пьешь его, тем сильнее жажда. На берегу ведь и месяца не выдержат.
Да разве только одни наши? Вон даже седоголовые рыбаки-пенсионеры, у которых скрюченные радикулитом спины и скрипящие колени от постоянной в прошлом работы в воде, все время торчат возле причалов, где от судов пахнет рыбой, водорослями, соляркой. А сколько было семейных драм! А горя и слез! Когда нет вестей о каком-нибудь сейнере, рыбачки дежурят на радиостанции или толпятся в конторе, тормоша начальство одним и тем же вопросом: «Как наши?» Иногда собираются вместе, ругают море, просят и молят море. Пощады просят. А рыбаки пощады не просят, по опыту знают, что море пощады не дает и тех, кто ему покоряется, совсем не любит.
И сейчас оно почти в осмысленной ярости бьет «Онгудай», хозяйничает на палубе. Терзает «Онгудай», хочет заставить покориться. «Онгудай» же только устало переваливается с борта на борт и упрямо молчит. Он даже не уклоняется от ударов.
Прошла ночь, не заметили как. Наступил рассвет. Он был мутный, мокрый. С мостика никто не уходил, никому не хотелось оставаться одному.
Макук тоже был со всеми. Он сидел на корточках возле переборки, дымил самокрутками, улыбался. В ребячьи споры не встревал.
К утру ветер стал стихать, но еще мел снегом по гребням волн, посвистывал в снастях. Пошла крутая зыбь. Она бережно, как любящая мама, поднимает «Онгудай» на самые вершины седых холмов, укутывает пеной – пеленками и, ласково качнув с бока на бок, опускает в самые ямы между волн. Снег пошел гуще, видимость ухудшилась.
– Волну сгладит, – сказал боцман.
– Да, теперь оно скоро успокоится, – сказал Макук. Он приподнялся с корточек и, с трудом разгибая спину – даже морщился от боли, направился с мостика. – Пойду, ребятки, полежу немного. – Его кривые валенки ступали медленно, тяжело, он прихрамывал. А спина узкая, худая...
– Да, – сказал Андрей.
– Да, да, – сказал Брюсов.
– Нет, ребята, – сказал Сергей, – на Камчатку с нами или в океан он не выдержит.
– Никудышный совсем... – вздохнул Васька.
– Порыбачь, медуза, лет сорок – я хотел бы тогда на тебя посмотреть, – вставил боцман.
– Дак я ж и говорю... это ж море.
– Ребятки, перекусить пора, – донесся с трапа голос Артемовны, – уж целые сутки путем не ели.
И верно ведь. Уже пролетели сутки – вчера в это время Борька намотал на винт. А тянулись они все-таки долго.
Спускаемся вниз, поглощаем котлеты, жареную колбасу, рыбу, «какаву».
– Первое я не варила ребятки, нету никакой возможности.
– Все нормально, Артемовна.
– Отлично сыграто, Людмила Артемовна, – говорит боцман.
– Миллиграммчик бы перед такой закуской! – смеется Андрей.
– Не мешало бы, – говорит боцман.
– Да у тебя ж завязано? – вставляет второй механик.
– С устатку можно и развязать, – вмешивается Василий. – Я бы сейчас и то стакашек пропустил.
– Вот на берегу, Вася, – говорит Андрей, – когда будешь стекло таскать, или мусор закапывать, или... что ты там еще собираешься делать?
– Я в колхозе.
– Он в колхозе хвосты быкам вертеть будет.
– Найдем что-нибудь, – уверенно, со смешком говорит Василий.
– Так вот, Вася, – продолжает Андрей, – там, когда захочешь, тогда и выпьешь. «Сельмаг» там у вас есть?
– А я самогоночку, Андрюша. Вот приезжай ко мне в отпуск! Хоть на недельку, а? Все время пьяные будем.
– Андрею Захаровичу при коммунизме будет лафа, – смеется второй механик, – водочка по потребности. Пей – не хочу. И боцману тоже: наливай да пей. Правда, Егорович?
Андрей болезненно сморщился и отодвинулся от механика. Хотел что-то сказать, но только безнадежно вздохнул.
– Эх, мотыль, мотыль, – закачал головой боцман, – и дрянной же ты мужик! Я бы вешал таких. Без суда и следствия, как Петр I интендантов после года службы.
По трапу грохочут сапоги, скатывается Брюсов. На нем лица нет. В первый момент он ничего не может сказать и только тяжело дышит.
– Пять Братьев! – наконец выдохнул он и опять кинулся наверх. Мы за ним.
«Онгудай» несет на скалы. В первый момент трудно прийти в себя и что-нибудь понять. В снежной мгле, серые, скользкие, укутанные пеной, стоят скалы среди ходящих холмов воды. Холмы медленно валятся на них, яростно, с глухим уханьем бьют подножия. Пена и брызги причудливыми завитушками взлетают к самым вершинам, замирают на какое-то мгновение и, взрываясь фейерверками, рушатся вниз.
– Братцы-ы-ы...
На какой-то миг наступило оцепенение, потом ужас пошевелил волосы, коже и волосам стало прохладно, а глазам больно. Что это? Сон? Кошмарное небытие?
Нет, это не сон. Это море нам дало только отсрочку, успокоило, чтобы преподнести очередной сюрприз. Через какие-то минуты «Онгудай» трахнется о скалы и лепешкой пойдет ко дну. Шлюпка... Но она всех не возьмет. Аварийные плотики, пояса... Но все равно понесет на камни. Еще хуже. Сколько шансов, что нас как-нибудь пронесет мимо скал? Десять? Сорок? Девяносто? Если бы работала машина! Носом на волну – и можно пить «какаву».
А вдруг? Нет... Нет...
Брызги из разбитого окна хлестнули Брюсова по лицу. Он не пошевелился. Капельки воды бисером уселись на вороте шубы, струйками катятся по влажным отвернутым бортам. Он стал вытирать лицо. Немного отстранился и достал пачку «Казбека». Открыл, достал из нее бумагу – пальцы прыгают. Он смял все вместе с пачкой и сунул в карман.
Вдруг где-то над снежной метелью блеснул слабый солнечный свет. Еле заметная радуга просияла над скалами, зайчики слабенько сверкнули по стеклам рубки и прыгнули на медные диски компаса. Воду откачали, 54-й на подходе... Как все просто и как невероятно.
Давать SOS незачем – раньше 54-го никто не успеет. А его нет. Да и рискнет ли капитан 54-го маневрировать среди камней, спасая нас?
Надо спускать шлюпку, плотики, нести спасательные пояса – о них каждый думал все время, только никто не говорил. Это уже всё... Брызги летят к вершинам скал, повисают плакучими ивами.
Смотрю на ребят. Грубое лицо боцмана обострилось, под скулами обозначились желваки. Борькины глаза выкатились и побелели, он вот-вот закричит. Сын бессмысленно смотрит на скалы – глаза как двугривенные: тупость, покорность. Он, видимо, ничего не соображает. Сергей что-то шепчет. Лицо Андрея презрительно осклабилось. Он понял неизбежность предстоящего и будто бросает вызов, будто смеется над кем-то. А может, он уже не в себе? У второго механика и рот и брови не на месте.
Как все невероятно! Головой о переборку – и всему конец. А может, это все-таки сон? Бывает же так: проснешься – и ничего нет. И можно радоваться, что это был сон.
– Давайте ж пояса...
– А там камни...
Нет, это не сон. Во сне так не бывает. Но что же это? Ведь все проходит. Пройдет и это. Стоит дождаться сегодняшнего вечера, и все кончится. А когда он будет? А может, не вечер... У мудрого царя Соломона на внутренней части перстня было написано: «Все проходит».
Может, «Онгудай» как-нибудь пронесет мимо скал? А может, ветер изменит направление и понесет «Онгудай» в другую сторону? Вариантов много в нашу пользу. Надежда есть. У человека всегда есть надежда. Даже если один шанс из миллиона – это уже надежда.
Подошел радист. Лицо страшно утомлено, возле губ кривые какие-то складки. С одной стороны лица они резче, и рот сдвинут набок. Мы-то здесь все вместе были, а он один сидел в своем закутке.
– Что, пятьдесят четвертый?
– А зачем он?
– Что-о-о? – прохрипел боцман. Он прохрипел не радисту, а еще кому-то... в воздух. Его волосатая грудь вздымается, и кажется, дикая сила вырвется из волосатого треугольника на груди и начнет рушить все на свете.
Радист не обратил внимания на рев боцмана, подошел ближе к окну.
– У-у-у! – рычит боцман. Бессилие в этом реве.
Как жестоко тянется время. Надо что-то делать, но что? Что? Все бесполезно...
А скалы с каждой волной все ближе. Ветер не меняет направления. Он и не думает менять. Он дунул, кажется, сильнее. Холмы валятся... Удар, брызги...
Сознание на миг темнеет, в голове лихорадочно кипит все, мелькают нелепости. И расслабляющая вялость...
Открываю глаза... Брюсов щурится от ветра. Боцман перестал рычать, придвинулся к нему. Все стоят рядом. Второй механик пролез вперед боцмана, горячо дышит.
Волна ударила о борт, остатки ее зашумели по палубе, взметнулись перед рубкой.
– Ребята-а-а!.. – закричал второй механик.
– Что-о-о? – взревел на ухо ему боцман. В этом хриплом крике столько непримиримости, силы и ужаса, что механик присел, потом с воплем – уююкающие всхлипы – нырнул назад.
– Хм! – хмыкнул Андрей. Хмыкнул спокойно. – Это подарочек... – От этого хмыканья повеяло ужасом.
Тишина... Мучительная тишина. Раскалывается голова, горит и рвется все внутри. Фу, черт! У моря нет совести... нигде нет совести...
– Распро... бога... печень... Христа... – Боцман стучит кулаком по тумбе компаса. Он страшен. Бессилие...
И вдруг внутри взрывается бешеная, разрывающая все тело злоба. Не злоба, а что-то страшнее, сумасшествие какое-то. Дикое, безрассудное. К черту все рассуждения!.. Не может быть! Мы не можем... Гляжу на ребят. Все похожи чем-то друг на друга, но чем – понять не могу. Все придвигаются ко мне, к боцману. Окаменели...
В рубку хлестнуло ветром – это Сергей открыл боковую дверь. Вода, холод, скалы... Ну и что?
Будь проклято все на свете! Все, все, все! Все оны и все Соломоны! Только бороться! Как? Не важно как. В книжках пишут, что в такие моменты люди вспоминают всю свою прошлую жизнь. Какая глупость! Досужий вымысел писателей. Прошлой жизни нет, есть настоящая, теперешняя жизнь...
– А если смойнать якоря? – предложил Сергей.
– Глубина, – сказал Борис.
– В шлюпку всех стариков...
– А где же Александрыч? – вскрикнул кто-то. – Бросили... И правда.
Прыгнул с мостика. За мной на одном поручне скатился Брюсов и еще кто-то. Влетели в капитанскую каюту – Макук лежал поверх одеяла на спине, согнув острые, худые колени и вытянув вдоль сухого тела тонкие руки с лопатистыми кистями. Бледный весь, даже зеленоватый. Горбатый нос среди заросших морщин обострился и пожелтел. Рот приоткрыт.
– Старик капут? Слабое сердце? – дышал мне в ухо Брюсов, заглядывая через плечо.
– Михаил Александрович! – тряс я его за одно колено.
– Александрыч, – тряс Брюсов за другое, – на камни несет...
– Михаил Александрович, нас несет на Пять Братьев...
– Г-ха? Што? – с легковатой хрипотой произнес он. Он никак не мог проснуться. Потом легко встал, потянулся к валенкам.
– Нас несет на Пять Братьев! – крикнул Брюсов.
Макук схватил шубу, шапку. Выскочили на мостик. Застегивая шубу, Макук подошел к окну, глянул на скалы, потом двинул шапку и повернулся ко всем нам, вытаращив глаза:
– Что ж вы стоите... вашу мать?! Парус надо! – и кинулся с мостика. – Из брезента...
Сопящим стадом бросились за ним – я съехал на чьей-то спине.
Мы буквально терзали кошельковый брезент. Макук, прихрамывая и сутулясь, носился среди нас как дух. Он был страшен: крючковатый нос жестко скрючен, морщинистое лицо перекосила твердая судорога. Полы шубы развевались, а шапка – торчащим ухом вперед. Когда мы с боцманом стали оснащать верхний угол, который должен идти на мачту, он повис над нами:
– Ня так! Уд-д-ди, зашибу! – взмахнул рукавом и, если бы мы не отстранились, видимо, ударил бы кого-нибудь из нас. Потом жвачку брезента переломил через колено и с одного маха – впервые вижу такую ловкость – захлестнул щеголь.
Нижние углы брезента ребята уже оснастили и растаскивали брезент по палубе.
Сергей с Мишкой стали крепить передний угол за кнехт.
– За ноздрю!.. За ноздрю... вашу мать! – Макук побежал к ним, показывая рукой на правый клюз. Втроем они подтащили брезент к клюзу и закрепили.
А Брюсов, Васька, Сын, Андрей уже хлопотали возле мачты. Потом на плечи Сына взгромоздился Андрей, Андрею – Васька, и вот уже Брюсов со связкой троса на плече карабкается по световым фонарям к рее. Он обнес связку троса через рею и бросил нам. Боцман, радист, я, Борис стали набивать импровизированный парус.
– Быстрее, вашу мать! – хрипел Макук за нашими спинами. Он тоже схватился за трос, прищемив мои пальцы, – и откуда силища в этих скрюченных руках с тонкими запястьями?!
А брезент подхватило ветром. Верхний угол его быстро полз к рее – мы напрягались до треска в спинах. Брезент уже забрало. Оглянулись – кривые валенки Макука уже летели на мостик. А через секунду его перекошенное жесткое лицо показалось в окне мостика – он крутил рулевую баранку.
Брезент хлопал. Один угол его, оставшись свободным, трепало ветром... «Онгудай» медленно выворачивался от скал...










