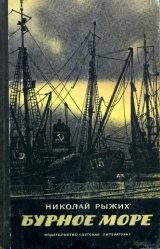
Текст книги "Бурное море"
Автор книги: Николай Рыжих
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Утром вышли на палубу. Она покрыта хрустящей пленочкой, в ватервейсах лед потолще, на железе игольчатый иней, а ветер холодный до огненности. Неуютно и холодно... и солнце какое-то красное и холодное.
Подняли первый трал, в нем центнеров пятнадцать «боцманских слез». Улов, конечно, замечательный, да и рыба чистая, без всякого прилова, даже без водорослей, но вот что с нею делать?
– Вот это «каменица»! – восторгался Полковник; ребята засмеялись: «каменушку» переделал на «каменицу». – Да вы не смейтесь, красивая жа!
Но смех был недолгим. Сам Джеламан, обойдя вокруг вороха рыбы – она так и лежала кучей, даже по палубе не растекалась, что со всякой рыбой бывает, – присел на борт, стащил шапку за одно ухо и печально улыбнулся.
– А ведь красавица, – сказал дед и тоже взял рыбину. Рассматривал, нюхал зачем-то. – Красавица, черт, хоть влюбляйся...
– Одни-и-и страдания-а от той любви... – пропел Казя Базя и стал готовить трюм.
– Правда, что страдания, – сказал Джеламан. – Ну что с нею делать? В трюм? А выгружать как? Она же слипнется своими каменистыми спинами да брюхами, не раздерешь...
Кожа у камбалы-каменушки покрыта мельчайшими – правда, два ряда, что идут от головы до хвоста, один по спинке, а другой по брюшку, довольно крупные, – даже мельче песчинок, кристалликами. Наподобие крупного наждака. Ногами двигать при сортировке ее нельзя: сапоги сразу протираются.
– А что мы можем взять на палубу? – еще грустнее сказал дед. – Тридцать центнеров? Но ведь это пустяки.
– Это пустяк...
– Это не работа...
Все молчали. Покидать ее в трюм – дело не долгое, и трюм при таких уловах заполнить недолго, но вот как выгружать? Да и можно ли выгрузить из трюма?
– Если бы немного было примеси промысловой, чтоб она хоть чуть скользила. А то ведь и сачок не всунешь, и от палубы не отдерешь, – сокрушался дед. – Если бы...
– «Если бы, если» – пустые слова.
– Командир! – Дед стал серьезным. Он могучим исполином стоял перед кучей рыбы. Желваки на скулах ходили, руки в бока, ноги широко расставлены. Смотрел не на рыбу, а будто мимо, хоть больше вроде и смотреть некуда, будто не видел рыбу. – Я предлагаю, командир, смайнать ее в трюм.
– Ва-банк?
– Ва-банк!
– А потом?
– Будем посмотреть.
– А кто думает по-другому? – спросил Джеламан. Он тоже смотрел на рыбу и тоже будто не видел ее.
Все молчали.
– Так кто что мне скажет? – опять спросил Джеламан.
Все молчали.
– Ва-банк! – И Джеламан полез на свою вышку крутить очередной замет.
Следующее траление было еще богаче, центнеров двадцать подняли и прямо из невода вывалили ее в трюм. Джеламан на этом месте поставил веху и тралил вокруг нее – траления шли одно богаче другого. К обеду и трюм был забит, и на палубе она не вмещалась уже... Работали с какой-то отчаянной решимостью: «Пропадать так пропадать, снявши голову, по волосам...»
Весь переход на сдачу Джеламан сидел на борту – руки его были всунуты в рукава шубы – и был мрачный. Впрочем, все были мрачные, кроме Полковника...
Когда пришли в Анапку и пришвартовались к причалу рыбокомбината, приемщица как глянула на эти горы рыбы на палубе да еще подошла к трюму, только и всплеснула руками. Потом посмотрела на нас:
– Что же вы с нею будете делать? Ведь никто по стольку еще не привозил. Ну привозили по тридцать, даже по сорок центнеров, а вы набухали... поумираете.
– Тетенька, приглашаю тебя на свои похороны, – сказал дед.
– Ой, дяденька, дяденька!
Начали выгружать. С палубой, конечно, разделались, хоть и долго пришлось поднатуживаться, но вот подошел трюм. Как ее оттуда? Не то чтобы каплер, сачок не всунешь в эту слипшуюся массу рыбьих тел. Начали выкидывать вручную, по одной, две рыбины – сколько захватишь. Не одни бы сутки нам пришлось мучиться, но тут главную роль сыграл Полковник.
– Ну и уляглась, – ворчал он, таская рыбины за хвосты, – как сено в силосной яме.
– Ты из деревни?
– А откель жа? Дак мы сначала слоями яё отдирали. Граблями подцепишь, да как завернешь...
– Кого же вы заворачивали? – спросил дед.
– Да силос, кого ж?
Дед перестал работать, поднял бровь. Потом хлопнул Полковника по плечу, от чего тот сразу присел до лежачего положения.
– Да ты чего? Да я тебе чего? – возмущался, поднимаясь, Полковник. – Чи я тебе враг какой...
– Не враг, а друг, – сказал дед. – А может, и герой. – И повернулся ко всем нам: – А что, если, други мои, нам послушаться Полковника: достать вилы – и вилами ее... Или какие-нибудь грабли. Чтобы хоть поддевать ее.
– Граблями ящче лучше, – причитал Полковник.
Джеламан задумался. Мы тоже приостановили работу.
– Граблями как завернешь... – продолжал ворчать Полковник.
– Ну что ж, – сказал Джеламан. – Но можем порвать ее, повредить...
– А деревянными граблями, осторожно, – продолжал дед. – Даже если какую и порвем, ну пойдет вторым сортом, так ведь не совсем же пропадет.
– А это тоже еда, – буркнул Казя Базя.
– Что за еда? – не понял дед.
– Рыба, говорю, и второго сорта тоже еда для людей.
Через какое-то время Женя с Есениным принесли из поселка по охапке вил и граблей – ну совершенно другая работа пошла. Что же касается поврежденной, чего боялся Джеламан, то она, конечно, была, но совсем пустяки: у этой «каменицы», как окрестил ее Полковник, и специально-то не так просто пробить ее наждачную кожу.
И когда у нас стало получаться – как же вспыхнуло радостью настроение! Женя сломал сразу двое вил подряд, ведь силищу свою не знает – как подденет! Казя Базя соорудил ему вилы с железной – из железной трубы – ручкой. И самые здоровые – Женя, дед, Есенин, Казя Базя, эти «бугаи», как называл их Полковник, – напрягаясь до треска в спинах, с треском заворачивали рыбу граблями или вилами и, как охапки сена, кидали в каплер. Ну, а тут уже все просто...
– Осторожнее, братки, осторожнее, – хлопотал Джеламан, – не рвите, не рвите, чтоб второго сорта не было!
– Все нормально, командир.
– Ну и Полковник!
– Голь на выдумки хитра.
Выгружали ее всю ночь. И наутро сразу же на лов. Настроение у всех такое было, будто каждый вот-вот взлетит. На переходе и невод готовили к замету, и палубу с трюмом к работе. Не успели как следует приготовить все, как уже возле вехи очутились, где Джеламан застолбил самое большое скопление рыбы, – и сразу в замет.
К вечеру этого же дня – рыба шла еще лучше, чем накануне, – мы были опять у причала рыбокомбината, загруженные так, что один нос нашей «Четверки» – МРС-4304 из моря торчит. И опять вилами ее да граблями... Приемщица удивленно качала головой и шептала что-то, будто «одержимые... бешеные... не человеки, дьяволы», и испещряла свой блокнот палочками да кружочками: это обозначения у нее там разных центнеров да тонн. Джеламан же, орудуя в трюме самыми большими вилами, хрипел:
– Давай, парни, давай! Пока вся армада флота подскочит, мы пару грузов выхватим!
А утром Джеламан снова торчал на своей вышке – верхнем мостике – и крутил замет.
Через три дня парни почти валились от усталости и бессонницы, потому что три часа перехода тратились на починку невода и приготовление судна к работе. Но у нас было уже полтысячи центнеров. Конечно же, о наших уловах стало известно сразу, никто не верил, что «боцманские слезы» можно брать в таком количестве. И плавбаза подошла, кинула якорь возле самой вешки, сдача стала теперь рядом, сон и отдых...
– Парни, – хрипловато говорил Джеламан; выглядел он симпатично: глаза ввалились и от бессонницы покраснели, щеки покрылись нежным пушком, а скулы обострились и потвердели, – дня через три подвалит сюда весь флот. Думаю, что никто не верит, что мы именно «семейное счастье» берем по стольку центнеров; подумают, берем промысловую, поэтому весь флот летит сюда как на пожар. А когда подвалит вся армия, со сдачей уже не будет раздолья, будут очереди, ждать придется. Да и... на весь флот граблей и вил в Анапке не найдется, сдачи будут медленнее. Поэтому кровь из носа – за три дня мы должны взять еще полтыщи! Навалимся, братки, пока мы одни на промысле, покажем настоящий класс...
И мы наваливались... показывали класс...
А база рядом... сон... сон... А Джеламан как одержимый прыгал прямо со своей вышки на кучу рыбы, трепещущую на палубе, хватал вилы и шуровал ее в трюм.
– Давай, братки, давай!
После сдачи подзывал Полковника:
– Веху видишь?
– Палку с флажком?
– Да.
– А че ж...
– Рули. – А сам доставал свой «талисман» и кидался к неводу. Чинил да налаживал невод.
– Еще заметик, братки!
VЯ не знаю, сколько человек может продержаться без сна, мы продержались восемь дней, если не считать те десять – пятнадцать минут, когда сейнер идет с тралением, – парни приваливались, где кого застал момент окончания выметки невода, и забывались на эти несколько минут... Хуже пришлось самому Джеламану, потому что эти минуты для него самого, как для капитана, самые главные – он же рыбу ловит, следит, как невод идет. Словом, мы не видели, когда он спал; он колотил себя по голове и цедил из термоса крепчайший чай. А вот страдал – не удивительно ли? – больше всех нас самый сильный физически – Женя. Он будто бы поседел за эти дни – вообще-то это соль отложилась на волосах и бородке, – потемнел лицом, глаза ввалились. Впрочем, все мы выглядели не лучше, только терпеливо переносили эту гонку, нам ведь не привыкать.
В первые дни этой гонки Женя, кстати, подтрунивал над всеми нами, особенно на выгрузке – Женя ведь своими вилами с железной ручкой центнеровыми «навильниками» выкидывал из трюма рыбу, – что, мол, мы мало захватываем своими вилами или не можем подвинуть тонный ящик с рыбой. Дед с Есениным тоже сдали; дед похудел немного, а Есенин каждую свободную минуту присаживался где-нибудь. Маркович особо помногу не брал на свои вилы, но всегда оказывался на самых авральных местах, всегда «под рукою» у Джеламана. А вот Казя Базя таким же и остался, только покрикивал на всех:
– А ну навались, мухобои!.. Одни страдания-а-а от той любви...
Да, собственно, в последние дни он один и занимался подготовкой невода к замету, по мелочам ремонтировал его – то наплав заменит, то дырочку зашьет.
Сам Джеламан с каждым днем – ну, это что-то непонятное! – после каждой сдачи, после каждого подъема становился неистовее:
– Давай, братки, давай!
И мы, стиснув зубы, брели на площадку и готовили невод к выметке, потом снова вилы или грабли... И откуда брались силы? Ведь думаешь, еще пару часиков продержусь на ногах, вот до конца выгрузки, и потом упаду и забуду про все. Но кончалась выгрузка, начиналась подготовка судна к работе, не успели вымыть трюм и починить невод, уже работа – летит в море со свистом невод, а через двадцать минут он уже ловит рыбу... Потом невод надо вытаскивать, рыбы целые кучи на палубе, ее надо в трюм... Ну, а раз поймали, ее же надо сдать... А тут Джеламан как дьявол прыгает с мостика, хватает вилы:
– Давай, братки, давай!
Как-то, подремывая над кружкой крепчайшего чая, Женя рассуждал:
– Я не знал, что так можно работать. Ведь мышцы теоретически не успевают обновиться глюкозой и салициловой кислотой, ведь все запасы углеводов в организме по теории не должны успеть обновиться, ведь теоретически...
– Ты давай-ка практически! – гремел Казя Базя. – Бери вилы – и в трюм... Мухобои... Одни страдания-а-а от той любви-и-и...
Полковник в эти дни сидел на пороге камбуза, его «баба-яга» постоянно гудела, на ней выкипал суп или догорала каша. В одной руке он держал банку с чаем – парни то и дело подскакивали к нему за свеженьким чаем, – в другой – термос. За его спиной возле переборки стояли миски с медузой, лавровые листочки виднелись там и просвечивались горошины черного перца; он ждал, когда все это застынет и будет холодец. Шутка эта, или, как мы называем подобные вещи, «козочка», вот как получилась.
Подняли мы тонны три медузы – Джеламан, видно, целое поле ее затралил, – Женя увидел и пришел восторг:
«На холодец похожа. Самое настоящее ресторанное заливное. Да чистая какая! Интересно, холодец из нее можно делать?»
«А ты и не знал? – гаркнул Казя Базя. – У японцев это самый деликатес. Даже шхуны, что добывают ее, называются «медузоловы».
«А не врешь?» – спросил Женя. Он, может быть, и действительно не знал про это, работает первый год на море.
А вот Полковник принял все это всерьез.
«И правда как холодец, – удивлялся он. – А теперь что с нею делать?»
«Мухобои, – ворчал Казя Базя, – салаги... Тащите миски, да перца туда с лавровым листом, лучком заправьте...»
Теперь Полковник ждал, когда холодец застынет.
На восьмой день после сдачи рыбы – Женя с Есениным, приготовив трюм к работе, так и задремали там – Джеламан подозвал Полковника:
– Рули!
– К флажку? Коло какого рибку ловлим?
– К нему.
– А че ж? Счас чайкю принесу, вже залил у термос.
– Не «че ж», а «есть».
– Чи не усе одно «есть» чи че ж, – ворчал Полковник, вставая за руль. – Я, товарищ капитан, так думаю, что если я выучился сам уже до флажка ездить, то лет через десять и на капитана выучусь...
Но Джеламан его уже не слышал. На этот раз он не стал колотить себя по голове, не кинулся на палубу проверять готовность невода к работе и не откупоривал термос. Он, усевшись на штурманском столике и привалившись к перегородке, всунул кисти рук в рукава шубы, зевнул и...
– Да хоть ты проснись! – тряс меня за плечи Полковник, в его голосе стояли слезы. – Уж скока время коло флажка рулю, а никого не разбужу. Ну! Да ну же!
Каких усилий стоило открыть глаза, подняться в рубку, застопорить ход! Затем спуститься в машину и заглушить двигатель.
Когда мы с Полковником возились на палубе, готовя ваер и якорь, – дед и Маркович спали возле лебедки, привалившись спинами к ней, а плечами друг к другу, да так сладко посапывали, что позавидовать можно. Краем глаза я видел маленькие фигурки судов на горизонте и большие черные дымы над ними: это флот валил на наш «огород» – ведь никто из них не верил, что мы по стольку берем именно «напасти», а не другой рыбы.
Потом вышел на бак, посмотрел на смеющийся горизонт, освещенный низким предвечерним солнышком, разостлал брезент на теплой палубе, кинул под голову чью-то брошенную робу и с величайшим, райским блаженством развалился...
Потом услышал сильный толчок, сейнер задрожал весь. Такое бывает или при небрежной швартовке, или когда на камни налетишь. В обоих случаях вскакиваешь и бежишь смотреть, нет ли беды. Но на этот раз я открыл только глаза, надо мной склонились расплывчатые лица – хоть и расплывчатые, но я заметил, что они побритые, чистенькие, и не по́том и рыбой пахнущие, а свежестью.
– Да они спят, – донеслось откуда-то из тумана..
«УЛИТКА»
IВот эта-то камбала-каменушка, эта «напасть» и помогла нашей «Четверке» выскочить на третье место по колхозу – с последнего-то! Про нас в ту осень говорили, что «Четверка месит по-черному».
Когда закончилась путина и был дан приказ по флоту о возвращении на базу, как же нам грустно было! Весь переход мы торчали на палубе – Полковник рулил, – молчали. Иногда только перекидывались шутками, но шутки были невеселые, про такие шутки говорят «как сквозь слезы». Особенно Джеламану не хотелось на берег; весь переход он в одиночестве стоял на баке, опершись на брашпиль, вертел, держа за тесемочку, шапку и смотрел на море. А оно, это море, эта кормилица наша, было прямо необыкновенно; я лично убежден, что оно было красивое необыкновенно потому, что прощалось с нами. До самой весны. Оно было тихое, светлое и улыбчиво-печальное, будто поникшее, если о нем так можно сказать.
Маркович тоже весь переход сидел на кнехте у борта, курил и смотрел на море...
В эту осень мы с особым старанием вытащили – не мы, конечно, тащили, а трактор – свой «МРС-4304» на берег, двойным слоем масла смазали все, что надо было смазать, покрыли суриком все, что надо было подкрасить, чтоб за зиму не заржавело, ненужной теперь проолифленной робой укутали световые фонари, иллюминаторы – чтобы не дай бог пурги не побили – и окна в рубке зашили деревянными щитами, кубрик, трюм, ахтерпик, цепной ящик, машинное отделение вычистили-вылизали до соринки.
Теперь отпуска, отгулы, пошивка новых неводов... Зима, словом. И эта зима для нас казалась самой долгой... Для нашего капитана, Володи Джеламана, думается, она была самой долгой.
Да, кстати, Полковника проводили в армию, и Джеламан подарил ему свою старенькую фуражку с крабом, и Полковник щеголял в ней по колхозу. А фуражка-то бывалая: чуть помятая, с позеленевшим от морской соли крабом... С надутой напыщенностью, подстраиваясь под фуражку, сам Полковник изображал из себя этакого видавшего виды рыбачину.
В эту зиму Джеламана поработила мечта – вообще говоря, думается, что если у человека есть мечта, то это прекрасно, я лично не представляю человека без мечты – хорошо научиться ловить рыбу, поймать ее на тот год много... С этой мечтой он засыпал, от этой мечты он улыбался, просыпаясь. Сам же он был рыбак от бога, каждой своей жилочкой и кровинкой. А по характеру – я, правда, уже об этом упомянул – упрямый до предела, отступления и компромиссы для него исключались, скорее сломается, чем погнется, и оптимист: «Девять раз поднял невод пустым, а на десятый уверен, что он с рыбой придет».
Всем известно, что в рыбацком деле большое значение, а может, и главное, имеет удача – удача в самом прямом смысле этого слова. Ведь рыбацкая работа такая, что какой бы невод и на какую глубину ты ни бросал – пусть ты даже не рыбак, а всего лишь рыболов-любитель и кидаешь не километровый невод на километровую глубину океана, а всего лишь крохотную удочку с маленьким червячком с зелененького бережка, где растут такие симпатичные ивовые кустики, и то можешь поймать и пескарика с мизинчик, и щуку с руку, а может и сам сом поймается тебе, – ты можешь поймать и полный невод, что девать рыбу некуда – зацепил, например, большущий косяк, – можешь ничего не поймать только невод промоешь, а можешь вообще зацепиться неводом за скалу и останешься без невода.
И у Джеламана в душе и в голове в эту зим началась мучительно сладкая, трудная и всеизнуряющая работа – борьба за «удачу»: где она, эта рыба, и как ее поймать? На каких грунтах и на каких глубинах она родненькая, прогуливается-резвится, где и каким кормом кормится, где отдыхает-спит, какую воду – какой температуры и солености – любит. С сейнера он перетащил домой все промысловые журналы и карты и после работы в сетепошивочном цехе или капитанской учебы в кабинете у капитана флота забирался в Наташкину комнату и колдовал над картами и журналами. Наташка, рассадив своих куколок по стульчикам и скамеечкам, готовила им «обед», меняла платьица и платочки, а Джеламан, мурлыча себе под нос свою любимую мелодию: «Не надейся, рыбак, на погоду, а надейся на парус тугой, не надейся на гладкую воду, черный камень лежит под водой...» – сличал записи в журналах со своими отметками на картах и условными знаками, понятными только ему одному, обозначал что-то на особой, своей личной карте. Он пытался установить, найти, открыть систему жизни рыбы в северной части Берингова моря. Тут имело значение все: и корм, и течение, и соленость воды, и температура ее, и время, когда рыба идет на нерест. Надо было изучить и понять жизнь всех видов рыб, потому что одна рыба без другой жить не может, в природе ведь все устроено разумно и мудро. Имело значение тут и время цветения актинии, переселение звездочки и краба. А само морское дно, грунты? Ведь сколько там песчаных пляжей, илистых болот, водорослевых рощ и рощиц, всяких ракушечных свалов, ущелий, скал, гротов!
И вот как-то, когда Наташка напоила чаем своих кукол, а капитан дошел до слов своей песни – «злая буря шаланду качает, мать выходит и смотрит во тьму», – его вдруг осенила мысль: сделать макет морского дна, ну хоть самых главных «огородов», ведь все будет видно как на ладони!
– Наташа, у тебя пластилин есть?
– Ой, папочка, как ты меня напугал! Я думала, что случилось...
– Давай пластилин.
– На. – Девочка подала ему начатую коробку.
– Это все?
– Нет, еще есть. Куколки.
– Неси куколки.
Девочка принесла несколько фигурок, вылепленных из пластилина.
– Мало, Наташа, мало. Очень мало... А сколько сейчас времени?
– Скоро мама с работы придет.
– О! Магазин еще открыт. Одевайся!
– А игрушек мы купим?
– Купим, купим. Все купим.
Он быстро одел девочку, сам сунул ноги в валенки и накинул шубу. Посадил девочку на закорки и поломился прямо по сугробам.
– Ой, папочка, как мы спешим!
В магазине он сказал девочке, чтобы она выбирала игрушки, а сам – к продавщицам:
– Давайте детский пластилин. Весь, что есть.
– Пять коробок хватит?
– Пятьдесят. Пятьдесят коробок.
– Вова, ты что? Пластилинового снеговика лепить собираешься? – шутят продавщицы.
Нашлись эти пятьдесят коробок, он сложил их в мешок и под смех продавщиц потащил мешок домой.
Вылепить морское дно оказалось не так-то просто, понадобился большой ящик, опилки, клей.
– Наташа, дел у нас с тобою на месяц, – говорил он, понуро глядя на карту, на большущий, в полкомнаты, ящик, на кучу опилок, на ведра и баки приготовленного крахмального клейстера. – Ну что ж... «Не надейся, рыбак, на погоду, а надейся на парус тугой...»
Через два месяца у него стало что-то получаться, появились очертания берегов; изобаты глубин он обозначил белым пластилином, вылепил ракушечные слои, водорослевые рощи, песчаные пляжи, нагромождения рифов – не дай бог сюда невод метнуть! – подводные скалы. И целые армии селедочек, камбалинок, палтусов, минтая наготовил. Он их переставлял согласно записи в журналах и отметкам на промысловых картах.
– Папочка, сюда забыл рыбок поставить.
– Погоди... «Злая буря шаланду качает...», сюда они еще не приплыли.
– А сюда?
Конечно же, сделать полностью подробный макет всего морского дна не удалось, но зато море он изучил до последнего камешка. И яснее стала сама судьба, если можно так выразиться, сама жизнь рыбы в море. До апреля, до самой поездки в Петропавловск на слет передовиков рыбной промышленности он, как генерал в отставке, разыгрывал минувшие сражения, передвигая армии рыбок по дну Берингова моря... «...Мать выходит и смотрит во тьму и любовь и слезу посылает...»









