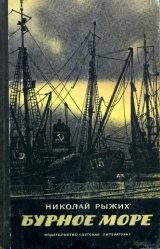
Текст книги "Бурное море"
Автор книги: Николай Рыжих
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Когда возвращался со слета, в раздумье – все о той же рыбе думал – сидел у окна самолета и смотрел на горы Камчатки, на тундру, тайгу, долины и вулканы. Вот самолет пошел вдоль морского берега, потом над морем... Вот и все знакомые места, где каждый год приходится рыбачить: остров Карагинский, остров Верхотуров, мыс Северо-Западный, мыс Озерный, Крашенинникова. На море стоял еще битый лед, только кое-где чернели полыньи. Через несколько дней лед растает, его разнесет течениями и ветрами, флот выйдет брать рыбу. Вид моря с самолета напоминал ему чем-то макет.
Вдруг Джеламан заметил, что к югу от мыса Крашенинникова миль на сорок лед закручен наподобие улитки. В чем дело? Кто его закрутил? Может, и ветер, но навряд ли... Течение? Только течение могло это сделать. А почему? Видимо, здесь водоворот, сталкиваются несколько течений. Задумался над этой «улиткой»... Значит, вода здесь вертится, не уходит, крутится на месте, следовательно, корм здесь для рыбы не приносной, а постоянный. Какие же здесь грунты, какие глубины? Можно ли рыбачить? Эх, жаль, нет макета рядом. И стал мечтать, как, прилетев домой, все рассмотрит на макете. Достал записную книжку и быстро стал срисовывать эту «улитку», как она виделась с самолета.
Как только вошел в квартиру, сразу к макету – глубина здесь сто метров, почти рабочая... Если добавить метров двести ваеров, можно рыбачить. Корм – песчанка, для камбалы корм. Должна быть рыба! Непременно!
IIIКогда наша «Четверка» была готова к выходу на промысел, Джеламан подозвал меня:
– Выпиши запасных ваеров. Метров триста.
– Хорошо.
Рыбачить начали, как всегда впрочем, с промысловой камбалы, с восьмидесятиметровых глубин. Бралась в этом году она хорошо, у нас же вообще замечательно – ни порывов невода, ни зацепов и вообще никаких аварий. По вылову шли вплотную за Сигаем и Серегой Николаевым, этими рыбацкими асами.
Хоть все и нормально шло, с учетом того, что на море нет оценки «отлично» или «сверхотлично», а есть «нормально», но Джеламан все недоволен был чем-то, озабочен постоянно, будто чего-то ждал. Сам не свой, одним словом: то, уединившись в угол рубки, карту свою любимую рассматривает, то что-то считает, рисует, то вдруг ни с того ни с сего сорвет шапку и заругается. И наконец не выдержал:
– Как вы думаете, парни... – он стащил шапку за одно ухо и стал накручивать на палец завязочку, – что лучше – грудь в крестах или голова в кустах?
– Что лучше, это ясно, – сказал дед. – А вот эти «кусты», где голова будет лежать, очень страшные?
– Ну... груз потеряем. Может, два.
– Пустяк.
– Гоним. – Джеламан натянул шапку. – Гоним и... слушайте сюда. – И он достал свою «особливую» карту.
Рассказал нам про «улитку» и про свои предположения. Поточнее проложили курс, еще раз проверили невод, добавили ваеров, увеличили их на двести метров, чтобы со стометровой глубины достать рыбу.
К «улитке» подходили утром. Всю ночь Джеламан не спал, торчал в рубке, хотя делать ему там нечего было: курс несколько раз выверен и проверен, невод и палуба готовы к работе. Но он то и дело бережно расстилал по штурманскому столику «особливую» карту и, мурлыча себе под нос «Злая буря шаланду качает...», задумчиво рассматривал «улитку». Потом уходил на палубу и бродил там, проверяя уже в который раз укладку невода.
Наконец пришли к месту лова. Авральный ревун Джеламан нажал минут за десять до выметки. Когда ребята оделись и разбрелись по своим местам, он размашисто перекрестился:
– Ну, молитесь богу и вы.
– Какому? – спросил дед.
– У нас один бог – рыба.
Замет шел как замет, ничего особенного не происходило: ровно стучала машина, шуршала вода мимо бортов, попыхивал дымок над трубой, попискивали приборы в ходовой рубке. После выметки ребята зашли в рубку, закурили. Не услышав никаких новостей, вывалили на палубу. Там раздавался смех, шутки, будто все и забыли, что рыбачат на новом, никому еще не ведомом «огороде».
Не забыл только Джеламан. Как ни напускал он на себя маску равнодушия, как ни притворялся сонным – ночь-де не спал, так и сводит скулы, – не мог скрыть своего волнения. Еще бы! Все у него сейчас кипело в душе и стояли перед глазами: и долгие зимние вечера колдовства над макетом, и целые стопки промысловых журналов, и вид с самолета на «улитку», и... и... А вдруг ничего там нету? А вдруг невод камней нагребет или за скалу зацепится?
Начали выборку. Парни привычно и точно делали каждый свое дело: Казя Базя, Есенин и Женя на площадке укладывают невод, я строплю, Маркович расстропливает и подает мне строп и гак, дед на лебедке. Джеламану надо находиться в рубке и следить за всем, но он ходит от одного рабочего места к другому, нетерпеливо поглядывает за борт, курит.
Через несколько перехватов стропом я почувствовал страшенное натяжение невода, причем натяжение это было «живое» – рыба! Никому ничего, конечно, не сказал: не дай бог сейчас крикнуть «гоп», пока «не перепрыгнул». Сам Джеламан тогда умрет от расстройства, а скорее... того человека живьем съест, кто заранее начнет радоваться.
– Командир, волокем что-то тяжелое, – доложил с лебедки дед. – Трос горит... пять шлагов наложил. Как бы не камешки?
– Этого нам еще не хватало, – буркнул Казя Базя.
– Командир, попробуй, что там?
Джеламан подошел к неводу, ударил кулаком по нему, вздрогнул и... и равнодушно продолжал постукивать по неводу. Повернулся и нервной походкой пошел в рубку.
– Валуны? – тревожно спросил дед.
Джеламан ничего не ответил. Тогда дед ко мне:
– Ну что там, чиф? Попробуй!
– Трудно определить, – ответил я.
– Ну ясно... мороки будет.
– Поуродуемся, как в прошлом году.
Да-а-а... в прошлом году досталось нам с этими валунами. Нагребли их полный невод, к борту подняли, а дальше не знаем, что делать. Лебедка, чтобы хоть чуть их приподнять из воды, не берет... Малым ходом поволокли эту авоську скал к плавбазе. Не рубить же невод! Плавбаза вывела свою стрелу и мощной лебедкой подняла их к себе на палубу. Им бы надо распустить невод, когда он за бортом висел, и вывалить валуны, а они вывалили их к себе на палубу... И нас же ругали.
Джеламан прыгающей походкой опять подошел к неводу.
– Командир, полетит шкентель, – доложил дед. – Еле тащу.
– Сбавь скорость, – буркнул Джеламан.
– Что же там?
– Посмотрим, посмотрим, – Джеламан отвернулся.
Переговариваясь, берем невод. Я глянул за борт: под толщей воды расплывалось белое огромное пятно. Джеламан тоже посмотрел за борт и... задрожал.
– Ну что видите? – кричал дед.
– Пока ничего, – тихо ответил Джеламан.
– Ясно, понятно, – мрачно сказал дед. – Если бы рыба, вы бы уже видели ее, половина невода на борту уже. А из глубины моря поднималась авоська невода, раздутая от рыбы. Джеламан кинулся в рубку, толкнул сейнер назад – авоська повалилась и потащилась за судном, она была и продолговатая, наподобие колбасы. Все толпились у борта.
– Три... четыре груза!
– Мама родная!
– Да сколько же ее там?
– Тихо, – погасил восторги Джеламан. – Заливаемся, остальную оставляем в неводе и ставим невод на буй. В море оставим.
– Перевозкой займемся.
Когда на капитанском часе Джеламан доложил, что за замет взял три груза – весь флот за три дня брал по грузу, – вся армада двинулась к нашей «улитке». Но не сразу могли взять ее, кое у кого не хватало ваеров... Одним словом, пока приспособились, пока доставали ваера, мы выскочили на первое место по флоту, оставив далеко Сигая и Серегу Николаева.
С этой «улитки» и началась бурная и трудная слава Джеламана.
ЖУК
I– Не будет делов, командир, – сказал дед.
– Придется ждать с моря погоды, командир, – сказал Казя Базя.
– Тут же адово течение, – сказал Джеламан и опустился на кнехт. Устало стащил шапку за одно ухо и стал закручивать завязочку на палец. Смотрел перед собой и ничего не видел; веки были тяжелые, скулы покрыты курчавой черной порослью, под ней перекатывались желваки. Губы стиснуты. – Только Сигай пару заметов сделал.
– А остальные?
– На якорях...
– Одни-и-и страдания от той любви-и-и... – хрипловато пропел Казя Базя и опустился рядом с Джеламаном на палубу. Сорвал резиновые перчатки, достал папиросы.
Подошли Женька с Есениным, тоже стали закуривать, вылез из машины Маркович, выскочил Бес из своего заведения:
– Туманчик...
Туман стоял такой, что собственную протянутую руку не видишь. И рыбачить невозможно – невозможно буй найти в таком тумане. Джеламан мог бы, конечно, в любом тумане подойти к бую, но течение... течение здесь сильное и меняется.
Стоял июнь, середина его. Камбала перешла на более мелкие глубины, бралась ровно – в два-три дня груз, иногда за день удавалось груз набрать. Словом, работалось надежно: погода хорошая, как и всегда, в июне, грунты изучены, зацепов и порывов почти не было. А в два дня брать груз – это нормально. Но вот навалился туманище, самого моря не видно. С утра сделали замет, буй не нашли... Часа три лазили по туману, искали его. Пришлось выбирать невод за один ваер, вышел он, как это ему и положено, закрученный и перекрученный и пустой, конечно. Работа эта – выбирать невод за один ваер, а потом распутывать его да готовить к работе – мучительная и долгая.
Ладно... рискнули еще раз попробовать – авось удачно все будет, – но и во второй раз ничего не получилось, тоже буй не нашли, теперь опять надо брать за один ваер...
Застопорили машину – спешить теперь некуда, – собрались на баке, окружили Джеламана. Он сидел на кнехте, смотрел перед собой и будто ничего не видел. Вся поза капитана – и опущенные плечи, и поникшая голова, и устало переломленный позвоночник говорили о страшном переутомлении, только взгляд, устремленный в одну точку, да желваки под тонкой кожей скул говорили о том, что сдаваться или отступать он не собирается, а только... обдумывает, что же делать дальше.
– Командир, ты как-то говорил, что безвыходных положений у рыбака не бывает, – сказал Бес, протягивая ему папиросы.
– А что придумаешь? – прохрипел Казя Базя и потянулся к папиросам. – Вставать на якорь и ждать. Как все. Все же ждут.
– Это не эталон. – Бес повернулся к деду: – Виктор Александрович, ты сказал, что туман только у воды?
– Разве не видишь, какая духотища? И туман ведь горячий.
– Странно. – И Бес исчез.
Туман действительно был «горячий», прямо как в предбаннике, только чистый и душистый, морем пах. Сквозь него еле заметными столбами пробивались лучи солнца.
– Не расстраивайся, командир, наша рыба от нас не уйдет, – сказал дед и тоже присел рядом с Джеламаном.
– А у меня здесь рай, – донесся голос Беса сверху, из тумана. – Как в Сахаре.
– Уже на мачте... Вот Бесяра!
Бес наш, новый кок Толик Салымов, – Полковник осенью ушел в армию – личность оригинальная во всех смыслах; закончил университет, кандидат наук – защитил диссертацию по промышленным шумам; потом, как он сам говорит, произошла «переоценка ценностей», бросил все и ушел работать на море. Тут еще большее, а может, и главное значение имела смерть трехлетнего ребенка и полный разлад семейной жизни, развод с женой. К нам он пришел с плотницкой разноской, а из большущего геологического рюкзака, набитого книгами, торчала рукоятка топора. Через некоторое время выяснилось, что он не может отесать простую доску, даже топор держит как-то не по-плотницки. В матросском деле он оказался совершенно беспомощным. Поставили его на камбуз, хозяйство Полковника доверили. Память же у Толика, знания, осведомленность во всем оказались чудовищные – ну решительно все знает. Роста он высокого, физически очень сильный, но неловкий и неуклюжий до комизма. По палубе прохаживается, как манекенша перед публикой.
Кличка «Бес» прилипла к нему этой весной. Шли мы как-то на сдачу после богатого улова трески, рыбой было залито все, даже «карман» – узкое пространство палубы перед камбузом. Вдруг на камбузе раздался взрыв, оттуда вылетает клуб черного дыма с кусками сажи, пламенем, сковородами и кастрюлями и, конечно, Толик. Он летел спиной, широко раскинув руки и ноги; шлепнулся в рыбу и стал в ней тонуть. Выхватили его из рыбы... Он стоял весь в саже, облепленный макаронами и борщом, борода и волосы на нем с треском горели, с него тонкими нитями стекала слизь. Он стоял и громоподобно и раскатисто смеялся. Признаться, такой смех я услышал впервые.
– Бес... – прошептал дед.
А на камбузе все горело, занялись уже деревянные полки, шкафы и стол, на потолке и переборках, сворачиваясь, шипела краска. Это, оказывается, взорвалась «баба-яга», там, видимо, скопились пары от солярки, которая капала из неплотно закрытого краника – по причине рассеянности, конечно, Толик не закрыл краник – на горячие кирпичи, а он, затапливая, поднес спичку...
Пожар, конечно, быстро затушили; сам Бес – это прозвище закрепилось за ним прочно – отделался половиной бороды и незначительным ожогом руки и лица.
II– Туман всего лишь несколько метров над водой, говорил Бес, подходя к нам. – И как вата. А над туманом – Сахара. Солнышко так жарит, что смотреть нельзя.
– Это я и без тебя знаю, – вздохнул Джеламан. – Мог и не лазить на мачту.
– К обеду солнышко съест туман, – сказал дед.
– Придется ждать.
Мы все поудобнее расселись вокруг Джеламана, постаскивали резиновые перчатки и нарукавники, кое-кто снял прорезиненную робу. Бес быстро вскипятил чайник, принес кофе, сахар и немного холодной водички, кружки, стал сбивать «фирменное» – в этом деле, надо сказать, оказался настоящий специалист – кофе. Если бы не закрученный и перекрученный невод где-то на морском дне и две тысячи метров ваеров, обстановочка – лучшей и желать не надо.
– И вот идешь по Дерибасовской, – начал дед. – С корешом. Перед этим заходили в «Золотой якорь» или «Грезы моряка». На тебе лакированные туфли, парадная форма, сшитая в ателье-люкс. Дело к вечеру, воскресенье. Цветут каштаны, пахнет белая акация. Со стороны порта, где стоят пароходы, доносится ласковая мелодия – например, душевный женский голосок выводит что-нибудь такое...
– Ну и дед...
– Ну, вот. – Дед поудобнее устроился возле брашпиля и продолжал: – А навстречу две красивейшие дамы. Идут не спеша, любуются собой в каждой витрине. Чувствуешь, что они тоже вышли на траление. Кореш тихо толкает тебя и говорит: «К замету!»
– А как ты можешь почувствовать, что они вышли на траление? – прервал деда Женя.
– Женечка, я всегда утверждал, – начал Бес, протягивая Жене кружку ароматного кофе, – что занятия тяжелой атлетикой, кроме как к деградации фантазии и сообразительности, ни к чему не приводят. Держи. При всем при том...
– Да погоди, Бесяра. Спасибо.
– Женечка, походка праздного человека, – продолжал Бес, – всегда отличается от походки делового человека. Если женщина спешит по делу, она никогда не будет смотреться в витринах.
– Женщина-то! Да она и... спать ложится, и то в зеркало на себя посмотрит.
– Женя, я удивляюсь...
– Погоди, Бес, – вмешался Есенин. – Женя прав. Прогулка есть лучший отдых. А может, эти две красивые дамы вышли отдохнуть после дневных трудов!
– Сергей Александрович, – повернулся Бес к Есенину, – от дневных трудов отдыхают в безлюдных скверах, на пустынных улицах. Дед же ясно сказал: «Идешь по Дерибасовской... воскресенье... неподалеку от «Грез моряка»...
– А если туман? – ни с того ни с сего брякнул Казя Базя.
– Командир, кого ты набрал к себе на пароход?
Выбрался Маркович из машинного отделения: он был без робы, рукава свитера были засучены. Подошел к деду, потихоньку что-то сказал ему, дед кивнул и сказал «добро». Маркович принял от Беса кружку кофе, отошел в сторонку.
Маркович никогда не участвует ни в спорах, ни в такой вот, как сейчас, «морской травле». Если выдается свободная минута, лезет в машину, там что-то подкручивает, протирает, подкрашивает... Надо сказать, что та идеальная чистота в машинном отделении, которую почти невозможно создать, дело рук Марковича. Мне иногда думается, что, кроме машины, кроме ухода за машиной, у него ничего в жизни не осталось.
– Маркович, сколько лет ты рыбачишь? – не обращая внимания на спор, который разгорелся вокруг дедова рассказа, задумчиво спросил Джеламан. Джеламан, кстати, не слушал этот спор.
– Много, капитан.
– А в каких морях ты рыбачил?
– Во многих, капитан.
– А что делает рыбак, если попадает в безвыходное положение?
– Он ищет выход, капитан.
– И конечно, находит.
– Находит, капитан. – Помолчав, Маркович добавил: – Я говорю за море, капитан. За берег я не говорю, хотя у меня есть и береговая специальность.
– Иосиф Маркович! – подлетел к нему Бес. – Я жму твою руку. Во всех безвыходных положениях ищут выход.
– Погоди, Бес, – остановил его Джеламан. – Так какая же у тебя береговая специальность?
– Механик по холодильным установкам. Мою специальность на берегу днем с огнем...
– Га-га-га! С огнем? Га-га-га! – Бес взорвался своим бесподобным смехом. – С огнем! С огнем! С огнем!
– Да погоди ты, – поморщился Джеламан, – дай с человеком поговорить.
Но Толика остановить было невозможно: он хлопал себя по бедрам, смеялся и повторял эту фразу: «С огнем! С огнем!»
– Да что с ним? – спросил Женя.
Есенин поднес палец к виску и сделал им движение, какое делают, когда хотят показать, что человек ненормальный.
– Да неужели вы ничего не понимаете? – Толик смотрел на нас с удивлением еще большим, чем мы на него. – Ведь Иосиф Маркович ясно сказал: «С огнем». Куда дым от огня поднимается? Вверх ведь. И если к бую привязать ну хоть ведро с соляркой и зажечь, дым будет подниматься вверх, а его можно увидеть с мачты и...
– Да не ведро, – прервал Толика дед, – а тазик с ветошью. Тазик можно поставить на плот, плот к бую привязать...
– Можете не продолжать, – сказал, улыбаясь, Джеламан и натянул шапку. – Выбирать невод!
Пока брали невод, Есенин быстренько сколотил плот, дед пристроил на нем тазик с ветошью, обильно политой соляркой. Этот плот на кончике привязали к бую и при выметке ветошь зажгли. Бес сидел на мачте и кричал Джеламану, куда подворачивать, чтоб сделать замет и опять подвести сейнер к бую.
К вечеру сейнер был залит рыбой. Мы взяли рыбу и в трюм и на палубу, и оба кармана забили. Чуть приосев кормою, наша «Четверочка» важно двигалась на сдачу. Величаво, с достоинством... А тут и туман пропал, открылось густо-синее, теплое небо, на нем горели звезды. И море было темно-синим и тоже будто теплое. И воздух теплый и душистый. А звезды мерцали тихо, полная луна, катясь по горизонту, нежно улыбалась, и от нее опускались в море светлые нити. Вокруг же самой луны небо было беловатое, рядом горела голубая Венера. Поужинали мы на палубе, и никто в кубрик после ужина не ушел – ну как тут уйдешь от такой красоты!
И не спалось. Может, неслыханная удача с этим «жуком» – так мы окрестили наше сооружение, – ведь, кроме нас, в этот день никто рыбу не взял, а может, тишь и красота, царственно повисшая над морем, так подействовали на нас, но спать мы не собирались. Помылись, переоделись в сухое и собрались на баке. Пили кофе. Тихо шелестела пена у борта.
Женя принес гитару. Потихоньку-потихоньку стал настраивать ее, а потом тоже потихоньку-потихоньку запел:
В море чужом,
Где сияют далекие звезды,
Усталый рыбак после вахты гитару берет,
В свете лунном,
В пенье струнном...
Он о Родине поет...
Ко мне подсел Маркович. Тоже с кружкой кофе.
– Чудо какое-то, – сказал я.
– Пожалуй, – согласился Маркович. – Только дорого иногда за эту красоту платить надо.
– Имеешь в виду нашу корабельную жизнь?
– Вся она на параллельных курсах...
Я знаю всю жизнь Марковича, как и он мою, впрочем как и все мы друг о друге знаем решительно все. Так уж у нас... по-другому у нас невозможно: уже два года в одном кубрике спим, из одной посудины едим, все вместе таскаем один невод. Если кто что и умалчивает из своей жизни, не трудно догадаться... Изучили мы друг друга, думается, больше, чем самих себя; думается, изучить близкого товарища легче, чем самого себя.
Сейчас Маркович произнес фразу: «Вся жизнь на параллельных курсах». Это он имеет в виду свою семейную жизнь.
Его жена, Бела, властная и категоричная женщина, работает заведующей магазином в Одессе. Она не может представить, чтоб ей не подчинялись. Что же касается «Ёси», то он без ее разрешения не мог сделать полшага. Она настолько завладела им, так подавила его волю – Маркович это и сам не скрывает, да и дед хорошо Белу знает, они на большом флоте как-то работали вместе, – так хотела перекроить и переделать его на свой лад, что Маркович просто не выдержал пребывания дома. Взаимопонимания и согласованности у них никакой нет, он все делает не так: стул не так поставил, не так штору на окне задернул, не ту рубашку надел, не так шагнул... Они абсолютно разные. Она, например, больше всего любит деньги. Маркович же совершенно равнодушен к деньгам: вывались они из кармана, не станет поднимать. Работал он в океанском флоте. «Ёся, переходи на малый флот, рыбу будешь ловить в Черном море... таки здесь есть Привоз». Рыбачить в Одессе – это значит часто бывать дома. Маркович захотел на Камчатку. «Это что? Это Камчатка? Это дальше-таки ничего нету? Нет, Ёся не поедет». Но тут друзья Марковича понарассказывали ей, какие большие на Камчатке заработки. «Ёся, собирайся, там можно-таки сделать пару копеек».
Зарплату он всю ей отсылает; у них две девочки: Ленка в десятом классе учится, Машка во втором. Их Маркович любит, и когда начинает их вспоминать, лицо его проясняется. Особенно Машку он любит... Когда он рыбачил в Одессе, Маше было шесть лет, и он часто рассказывает, как она прыгала с борта судна и сама доплывала до берега.
Жизнь у них с Белой нескладная, но Маркович как-то сказал: «Детей я никогда не брошу».
Сейчас Маркович прихлебывал кофе и смотрел перед собой скорбно и грустно.
Мне жалко стало этого уже не молодого человека. И захотелось как-то ему помочь, подбодрить его.
– Не только, Иосиф Маркович, у тебя у одного жизнь «на параллельных курсах», – начал я. – Это у многих моряков... Вот я работал на большом флоте, рейсы до шести месяцев... а если взять торговый флот, там вообще парни по году дома не бывают. Ну и, естественно, семейная жизнь на параллельных курсах, ведь люди-то живые... не зря ведь говорят: «Моряк не муж, артистка не жена».
– Глупости, – спокойно сказал Маркович. – Разлука для любви, что ветер для огня; сильную любовь она раздувает, а слабую гасит совсем. – Маркович любил книжные слова. – У моряков только сильная любовь и прочная семейная жизнь, а слабые – отпадают... не выдерживают. Вот возьми Витьку, нашего деда, его Валентина Сергеевна ведь приехала на Камчатку. И всегда за ним ездила, где бы он ни работал. У них тоже двое детей. А у Джеламана? Светка им только и живет. И все хорошо у них. И Лариса у Кази Бази...
– Не у всех, конечно, одинаково.
– И мне жаловаться нечего, – задумчиво сказал Маркович. – И меня любили, и я любил... все было, все было...
А дед собрал возле себя команду и продолжал травлю:
– И ведь что получается, ведь идешь по Дерибасовской с корешом или даже с невестой, на тебе легкие туфли, шелковое белье, парадная форма. Перед этим посидел в «Золотом Якоре», цветут каштаны, слышен смех женщин, музыка и... и тебе вдруг ни с того ни с сего становится скучно. Хоть до петли. И ты, придя домой, надеваешь сапоги, свитер и идешь на судно, где кучи запутанных сетей и веревок, где все пропитано рыбой... и уходишь в море – месяцами не видишь берега, обрастаешь бородой и мозолями... Ну какие к черту здесь прелести? Что хорошего? Рыба и море. Усталость, и пот, и мозоли. Сапоги, ватник, штаны и свитер... тебя полощет морем. Ну почему тебя сюда тянет? Почему ты не можешь жить на Дерибасовской и каждый вечер...
– Все так, – соглашается Джеламан, – все так. Больше двух месяцев в отпуске не выдерживаю. А когда наступает февраль, вот когда воздух становится тяжелым и в полдень понемногу начинают слезиться сосульки, море вижу во сне почти каждую ночь...
– Маленький экскурс в мою биографию, – вмешался Бес. – Когда я защитил диссертацию и мне предложили заведовать кафедрой...
– Так ты говорил, что директором академии ставили? – на полном серьезе заметил Казя Базя.
– Полегче, полегче... Так вот, когда меня назначали заведующим...
А Женя потихоньку нащупывал струны гитары:
В море чужом,
Где сияют далекие звезды...
Море было тихое и хорошее, по небу луна бежала, шелестела пена у борта, мерцали звезды...










