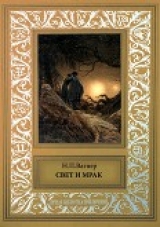
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Послушайте, сэр, сказал он после нескольких самых незначащих фраз, – Послушайте, сэр, не знаете-ли вы, не слыхали-ли вы об этой странной секте «Просвещенных»?
Мистер Литль высоко приподнял свои густые черные брови, составлявшие такой резкий контраст с его седыми волосами.
– Я удивляюсь, сэр Артингсон, – сказал он, махая рукой, – я даже изумлен этим вопросом… Я глубоко сожалею нашу почтенную мисс Драйлинг… О! я очень хорошо понимаю, что увлечение молодости может оправдать достойную, во всех отношениях достойную, мисс Дженн Драйлинг… И согласитесь, сэр, что эта секта, эта секта… лишена всякого человеческого смысла!
Но Артингсон не смутился этим резким приговором и, рискуя быть не человеком, или, по крайней мере, идти против человеческого смысла, снова обратился за разъяснением к сэру Литль.
– Сэр, – сказал он, – я не могу быть компетентным судьей, но я читал журнал этой секты или общины, потом… потом я видел странный аппарат, который в комнате, в обыкновенной комнате, не герметически закупоренной, записывает полный приход и расход сил, все химические колебания, все звуковые волны, даже разговоры, даже оттенки чувств.
Мистер Литль еще выше поднял его черные брови, так что они почти касались его седых волос.
– Смею вас уверить, сэр, – сказал он, – что все это сумасбродство, непостижимое сумасбродство. Это люди, не имеющие ничего общего с наукой, не имеющие никакого понятия о науке. Это вполне доказано, доказано и со стороны достопочтенных членов Смитсонианского Института, и со стороны Бостонского общества Естествоиспытателей, и со стороны Физического общества Филадельфии… Это, это безумные фантазеры, которые думают, что с научными истинами можно распоряжаться, как с шахматной игрой и переставлять шашки по усмотрению собственной фантазии и соображения. Тут нет науки, сэр, поймите, что тут вовсе нет науки. Они унижают, развращают это святое достояние человечества!
Артингсон точно так же приподнял брови, хотя далеко не так высоко, как мистер Литль. Он ничего не мог возразить против авторитетов, выставленных этим ученым и рассудительным мистером; но он не мог помириться с этим бессилием науки. Он видел, с одной стороны свет, беспредельное могущество, целое море поэтических, золотых снов, – а с другой стороны – узкую, щепетильную рассудительность и потемки, глубокие потемки.
– Но, может быть, сэр, – сказал он настойчиво, хватаясь как утопающий за соломинку, может – быть, у них слишком широкие замыслы. Может быть, они чрезвычайно дерзко обобщают данные в их философских стремлениях. Но неужели же в этих стремлениях они не достигнут до соединения, до полного соединения жизни с наукой!
Если бы мистер Литль мог поднять его брови выше лба, он, наверное, бы сделал это, но, за невозможностью совершить этот страстный рефлекс, он только еще сильнее раскрыл свои сверкающие глаза, его щеки покрылись даже румянцем, живым юношеским румянцем. Он даже пристукнул табакеркой по столу.
– Я уважаю вас, сэр! О! Я глубоко уважаю вас, – сказал он, стараясь придать своему голосу искренний и мягкий тон, – но поверьте, что вы увлекаетесь, как увлекаются многие этими сумасбродными бреднями. Жизнь, сэр, есть жизнь, наука есть наука, и горе тому, кто дерзнет смешать дар, божественный дар человеческого духа, с тем, что дают нам скудные, ограниченные чувства и наш бренный рассудок!.. Вы можете не верить моему мнению, справьтесь, в протоколах Смитсонианского Института, Филадельфийского общества преуспеяния наук и искусств, или даже в протоколах Бостонского общества Естествоиспытателей…
Артингсон уехал от мистера Литль еще более смущенный, чем после прочтения статей «Просветителя».
Может быть, он и прав, думал он, – но где же истина, где же свет, или действительно мы должны бродить в вечных потьмах?
Он заехал и к мистеру Пепчинсу, к этому добродушному, кроткому старичку, который встретил его с такой сияющей улыбкой, чуть не со слезами на его маленьких, добреньких глазках.
– Сэр! – спросил его Артингсон, – не слыхали ли вы об этой странной секте «Просвещенных?»
Сияющая улыбка мистера Пепчинса превратилась в грустную.
– О, да, да, сэр! – вскричал он, – я знаю эту секту, но я никого не осуждаю. Мы все грешны, сэр, мы все ходим во тьме наших заблуждений, но мы верим, сэр, о, мы глубоко верим, по вашему собственному выражению» что:
«Настанет день оный… и люди прозреют,
Поймут, где спасение и правда, и сила!..»
Артингсон уехал от мистера Пепчинса еще более смущенный.
– Что это, – думал он. – обскурантизм, глубокое невежество или в их словах истина, а там – тьма, глубокая тьма заблужденья!
Он заехал, наконец, и к мисс Драйлинг, он не мог не заехать, он ехал мимо – он должен был заехать, хотя бы для того, чтобы узнать, что делает его дорогой друг, мисс Драйлинг и не оставило ли каких-нибудь последствий это вчерашнее расстройство, это внезапное расстройство.
Он нашел мисс Драйлинг грустной, озабоченной, а мисс Дженн при его входе тотчас же выбежала вон. Он мог судить о её недавнем присутствии только по быстро опустившейся портьере и по тонкому ароматному запаху, еще наполнявшему всю атмосферу около того кресла, на котором она сидела.
– О, мой друг! – вскричала мисс Драйлинг, приподнимаясь с дивана и, схватив в свои маленькия ручки его руку, усадила его на то самое кресло, на котором еще не рассеялась теплота этого благоухающего и странного существа – я хочу просто допрашивать вас, как друга, и вы, вы, надеюсь, будете снисходительны к этому допросу, и я уверена, я убеждена, что вы будете со мной искренни, как были всегда с вашим любящим и верным другом. Скажите мне, сэр Артингсон, что произошло вчера между вами и моей Дженн?.. О! не думайте, чтобы я что-нибудь подозревала недостойное вас, моего друга. О! сэр, я знаю, я хорошо знаю вашу честную натуру, ваш возвышенный характер!.. Я только недоумеваю не могу объяснить того, что делается с моей бедной Дженн со вчерашнего вечера…
– Что же с нею делается, мисс Драйлинг?.. О, я так люблю все, что дорого вам!..
– Она, она просто больна, дорогой мой, и теперь, более чем, когда либо, я боюсь за её бедный рассудок. Она бредила всю ночь, мечется, стонет, плачет, тоскует и я не могу узнать причину, добиться от неё ответа, что с ней?!. Она только повторяет: «я ничего не знаю, ничего, дорогая мэм, только сердце у меня бьется, трепещет, мне тяжело, о! как мне тяжело… куда-то влечет меня, я чувствую, что я в какой-то пустыне и мне недостает… чего я сама не знаю!..» и она при этом утешала меня: «это все уляжется, утихнет, пройдет!..» И сегодня, дорогой мой, она совсем больна; она такая грустная, рассеянная, такая убитая, да именно убитая. Мы принялись с нею перечитывать ваши творения. О! вы знаете, как я люблю их, и притом она сама предложила, сама принесла книгу (И Артингсон действительно видел, что перед ним лежал на столе томик: Works of Artur Arktingson). Мы остановились с ней на этом поэтическом чудном, милом создании, помните? – И она взяла книгу и прочла:
«Май, праздник жизни, сиянье,
Счастье любви и цветов аромат!..
Что же ты, сердце, ноешь, тоскуешь?
О чем же ты плачешь, к чему ты стремишься?
Словно тебя волны жизни качают,
Как бурное море, средь ночи без звезд,
Утлый челнок без руля и ветрила!»
* * *
«Или ты ищешь сердца другаго,
Которое также бы сильно любило
Май, праздник жизни, сиянье,
Счастье любви и цветов аромат,
Которое б также волны качали,
Как волны морские, средь ночи без звезд,
Утлый челнок без руля и ветрила!»
– И на этом месте, она разрыдалась, разрыдалась истерически, и потом вдруг вздрогнула, прошептала побледнев: «он пришел, мэм, он здесь!..», бросила книгу и выбежала вон… Что это такое, Артингсон, друг мой, друг мой, что это такое? Мне кажется, я сама начинаю сходить с ума! – и она крепко прижала к её пылавшей голове платок, напитанный какою-то освежающею и пахучею жидкостью.
– Мисс Драйлинг, – сказал Артингсон глухим и слегка дрожащим голосом, быстро перевертывая шляпу в руках – у меня просто ноет сердце. Я рад бы чем-нибудь помочь вам, но что я могу сделать, что могу объяснить. Сцена, которая так сильно взволновала и меня, и ее, была, мне кажется, просто роковым, каким-то необъяснимым случаем. Я любовался, просто любовался, на мисс Джени, я думаю, тут нечего нет… вы не найдете тут ничего предосудительного… Красота мисс Джени… мое семейное положение, наконец, мои лета… все это, казалось мне, извиняло… может извинить меня перед целым светом и в моих собственных глазах. Увлеченный этой красотой, так сказать, отуманенный, я имел дерзость спросить довольно резко мисс Джени, может ли она записать на её аппарате, на её удивительном аппарате, чувство любви, может ли она измерить его?.. Она вдруг смутилась, застыдилась. Она была так хороша в этом смущеньи, что я сам был невольно смущен… Вот все, что случилось вчера до вашего прихода. Остальное вы знаете… – Все это, мисс Драйлинг, – начал Артингсон еще более глухим и дрожащим голосом, – все это действительно роковое. Неужели мисс Джени до сих пор никого не любила, о! разумеется, кроме вас; но эта любовь… эта любовь не может заменить все в её чувствах… Я с ужасом сознаю, – говорил Артингсон и голос его почти прерывался, – я с ужасом сознаю, что мое появление в вашем доме назад тому двадцать лет было роковым для вас, для вашего сердца, мой дорогой друг!.. О! простите мне это воспоминание, это неизгладимое воспоминание!.. А теперь… теперь… кто знает, не играет ли снова судьба на тех же струнах, но только в другой, молодой жизни?.. Ведь любовь может вспыхнуть вдруг, по капризу необъяснимого чувства, по призыву сердца и чем, дольше было сдержано это сильное страстное чувство, тем сильнее, необузданнее оно вспыхивает – притом самый темперамент, отношения скрытой симпатии… (Мистер Артингсон невольно увлёкся «просветителем», он начал говорить, как будто сам принадлежал к этой секте «просвещенных»)… Во всяком случае, – сказал он вдруг, остановив это невольное увлечение – во всяком случае, я должен скорее оставить ваш дом, проститься с вами… О! мог ли я думать, мог ли я воображать, мог ли представить себе, что какой-нибудь простой, незначительный случай, какое-нибудь странное совпадение обстоятельств причинит столько горя сердцу моего дорогого, сильно любимого друга! – и голос его совсем задрожал и оборвался, на глазах появились слезы. – Мы все ходим впотьмах, впотьмах, дорогой мой друг, – говорил он, быстро встав с кресла и как-то судорожно застегивая, дрожавшими руками его черный сюртук…
Легкий шорох заставил обернуться его и мисс Драйлинг. В дверях стояла Дженн, радостная, сияющая Дженн. О! как невообразимо хорошо было её лицо. Она подобрала за уши, по-детски, все её длинные кудри; но и без того её лицо, его выражение было выражение доброго, невинного и довольного ребенка. Как приветливо, дружески протянула она руку Артингсону и как детски откровенен был её голос, когда она сказала ему простое: здравствуете, сэр! И как блестели её глаза и сильно волновалась её высокая грудь.
– О, мэм, дорогая моя мэм! – сказала она, – мне гораздо лучше; я теперь просто блаженствую; мне так отрадно, легко; я надеюсь, мистер Артингсон снова останется у нас и мы, мы все проведем целый вечер вместе. Не правда ли, сэр Артур, не так ли, моя дорогая мэм?
– Мисс Дженн! – сказал Артингсон, нахмурясь, не смотря на нее, не смотря ни на кого, – я должен… я, к сожалению, должен удалиться… дела… и при том, при том… я должен ехать завтра… я так давно не видал моей семьи… моей милой Джеллы и Лиды и всех дорогих моих и, надеюсь, также дорогих и моему доброму другу, мисс Драйлинг.
Краска сбежала с лица мисс Дженн, она хотела что-то сказать и очевидно не могла. Её грудь перестала колыхаться. Она окаменела, как статуя, глаза её потухли.
– Прощайте, дорогой мой друг! – сказал Артингсон, протягивая обе дрожащие руки к мисс Драйлинг, и она смущенная, трепещущая протянула к нему также обе руки, и он пожал, поцеловал их беззвучным поцелуем. – Прощаете, мисс Дженн! – сказал он глухим голосом, протягивая к неё свою похолоделую руку.
И она, как автомат, тихо, мертвенно коснулась его руки.
Он быстро пошел вон, вон из этого омута страсти, безумия, опьянения чувств.
Он слышал какой-то стон раздался позади его и, не оглядываясь, стиснув зубы, бежал по лестнице.
Он не видал, как задрожала она, как подхватила ее мисс Драйлинг, бледную, шатающуюся с протянутыми руками к нему.
– Джени, моя Джени, опомнись! Что с тобою!
– Я люблю его, мэм, – простонала она, – я люблю его! И она рыдала, и судорожно билась на её груди, как белая птица.
А мисс Драйлинг, вся перепуганная прикладывала к её горячему лбу платок, намоченный одеколоном, шептала над ней молитву и брызгала водой на нее, трепещущую, полумертвую.
V
В сердце, в чувствах, в уме Артингсона теперь был полный хаос. Что бушевало, мелькало там? Ни одной мысли, ни одного представления не мог уловить он. Он только сознавал, что он должен ехать, непременно ехать туда, к его милой Джелле, к его дорогой семье. «Но почему же Джени не может быть Джеллою, почему семья тебе дорога!» говорил ему глухой голос, именно тот самый голос, которым он прощался с Джени.
Когда он возвратился в свой номер, он тотчас бросился к чемодану и вынул из него портреты Джеллы и Лиды, всех его дорогих; вынул и смотрел на них, как на каких-то амулетов или богов-хранителей, которые могли его спасти, защитить от него самого.
Он даже бросился писать к Джелле, писать какое-то страстное письмо, и разорвал его на третьей строчке. «Все это ложь, чепуха! вскричал он, – ложь сердца, ложь ума!» И он стиснул свой лоб, стиснул руки так, что хрустнули суставы его длинных и тонких пальцев.
Он бросился на постель, он силился заснуть и не мог. Он лежал в каком-то тяжелом, тупом онемении, усиливаясь вглядеться в узор обоев, в рисунок резного шкафа и повторяя одно слово, одно и то же слово: «Джелла! Джелла! Джелла!»
Он не слышал, как прозвонил колокольчик, сзывавший к обеду, как несколько раз входил и уходил от него слуга. Он не видал, как сумерки заволокли все предметы в комнате, он чувствовал, что перед открытыми и перед закрытыми глазами его носился все тот-же неизменный, вечный образ его симпатической пары.
Белый, как ангел белый иль белая птица!..
Наконец, сильный шум и стук поневоле заставили его очнуться.
Явилась несколько запоздавшая депутация от клуба «Твердости», от этого неподвижного клуба. Какой-то высокий, высокий джентльмен, весь красный и весь растрепанный, просил сделать им честь, сделать великую честь посетить завтра их митинг, который они дают в честь него.
Артингсон собрал, насколько мог, свои мысли и чуть слышно отвечал, что он не может, положительно не может участвовать, что он совершенно расстроен, болен, что он благодарит за честь, глубоко благодарит, ценит, вполне ценит.
– Мистер Артингсон! – вскричал высокий красный джентльмен, – мы не смеем стеснять вас, но позвольте, по крайней мере, собраться сегодня перед вашими окнами, то-есть перед окнами отеля. Мы уже все устроили, это нам стоило пятьсот долларов!..
Мистер Артингсон позволил, смутно понимая, что от него чего-то требуют и только желая одного, чтобы скорее, как можно скорее, оставили его в покое.
Он снова бросился на постель. Страшный стук в висках, страшная боль в голове не давали ему покоя. Да и вообще он как будто сознавал, что для него на земле нет уже и не будет больше покоя.
Как бы во сне он слышал неистовые крики, музыку, пение и говор, и рев огромной толпы, которая собралась на улице перед его балконом. Он слышал, как тысячи голосов вызывали, выкрикивали его имя, и какое-то зарево, как бы от пылающего костра, играло на стенах его комнаты.
– Сэр! – торопливо говорил ему слуга, – сэр, вас вызывают, там целая улица наполнена народом.
Шатаясь, он вышел на балкон. Его ослепил блеск нескольких тысяч факелов, его оглушил неистовый крик толпы. Он поклонился, пошатнулся и слуги бросились, подхватили его и, поддерживая, снова увели в комнату и уложили опять в постель.
– Не надо-ли послать за доктором? – перешептывались они испуганными голосами.
– Не надо! – сказал Артингсон, твердо и внятно, и вдруг приподнялся и принял снова тех успокоительных капель, которые так благотворно всегда действовало на него. Но теперь эти капли только усилили раздражение, и сердце его билось, как будто хотело разорвать грудь и улететь туда, где теперь, может быть, лежала больная и рыдающая она– эта чудная девушка!
Он встал с нестерпимой болью в голове, достал из чемодана Laudabum liquidum и принял довольно крупный прием. Он заснул, подавленный тяжелым, отравленным сном, и этот сон был еще более мучителен, чем самая явь. В этом сне ему представлялось, что он бродит в темных пещерах и там, где-то в потьмах, непроглядных потьмах, раздается её голос, её замирающий, зовущий на помощь, голос. Он силится дойти до него, он спотыкается о наваленные каменья, он ощупью идет под холодными мокрыми сводами, а голос её стонет, глохнет и замирает где-то вдали, в предсмертных муках!
Или вдруг является она перед ним, полная страсти, любящая, с восторженным ласкающим взглядом, и нет никаких перегородок перед ними; он бросается в её жаркие объятия, и вдруг эти объятия стынут и в руках его холодный, посинелый труп.
– Это вы убили ее, вы, мой дорогой друг, точно так же, как и меня убили! – говорит тихо, качая головой, мисс Драйлинг…
Он вскакивает как безумный, он как будто проснулся, но кошмар и в полусне давит его. Он тянется, как бесконечная пытка, и картины одна другой нелепее, мучительнее встают, как живые, в его отравленном воображении.
И наконец, он действительно проснулся. Он проснулся, словно разбитый, отуманенный, в чаду тяжелого угара. Одна только мысль улыбалась и поддерживала его, руководила им. Скорей туда, туда, домой, в мирное пристанище, в тихий, семейный угол!
Он оборвал все свои дела. Какой-то ловкий спекулянт, при этом удобном случае, надул его на несколько тысяч долларов; наконец, в шесть часов вечера он был свободен, совершенно свободен. Он начал укладываться с лихорадочной поспешностью, кое-как завертывая и тиская вещи в чемодан.
– Туда, туда, скорей туда! – повторял он чуть не вслух.
Вошел слуга и подал ему карточку, на которой крупным шрифтом было напечатано:
«Мистер Чертч».
– Я не могу, – вскричал Артингсон, – я никого не принимаю, я болен, расстроен, я тороплюсь!..
Но Мистер Чертч стоял уже перед ним во всю вышину его высокого роста.
– Я не обеспокою вас, сэр! – говорил он. – О! я понимаю ваше расстройство… Я прошу у вас несколько минут, одного полчаса, если только вы можете пожертвовать полчаса для страждущего человека, который в вас, поэте и музыканте, именно в вас, ищет спасенья.
И, говоря это, мистер Чертч ударил себя костлявым кулаком в плоскую грудь.
Он был весь в черном, и шляпа, которую он не думал снимать, была вся закутана черным крепом.
Он говорил хриплым, каким-то скрипучим басом. Его длинное, бледное лицо было все покрыто складками и сверкающие, бегающие глаза выражали в одно время и мольбу, и отчаяние, а тонкие, сжатые губы то дрожали, то кривились в какую-то странную улыбку.
– Что вам нужно, сэр, – вскричал Артингсон, – вы просто врываетесь ко мне!
– Одно слово, сэр, одно ваше слово, – проскрипел мистер Чертч, трагически взмахнув рукою; —неужели же вы мне откажете в этом слове, в одном ответе на тяжелый, тяжелый вопрос. – И он вдруг порывисто снял шляпу и потер рукою свой высокий лоб.
– Говорите скорее! – вскричал с нетерпением Артингсон, бросаясь к нему, – мне время дорого – я занят, я болен.
Слуга удалился с почтительным поклоном.
– Я буду короток, сэр. Я был женат, сэр; у меня было три жены. – И мистер Чертч опять нахлобучил его траурную шляпу на высокий лоб. – Я был в великой, в этой сумасбродной секте правоверных, святых мормонов… Я думаю, сэр, вы ничего не находите, ничего предосудительного в том, что человек может любить двух, трех, даже нескольких женщин… Это так естественно?..
И мистер Чертч замолчал, как будто ожидая ответа. Но что-же мог ответить на это Артингсон? Сказать – я нахожу это противоестественным, безнравственным! О! нет! этого не мог ответить мистер Артингсон, не мог ответить теперь, в настоящую минуту, когда там, в его представлении, стояли два женских образа и он не мог решить, который из них сильнее, неодолимее его тянет; он захватил бы теперь оба эти образа в его измученное, больное сердце.
– Что-же дальше, – вскричал он, – говорите, сэр, скорее, что вам нужно от меня?
– Далее, сэр, было то, что все мои жены умерли, все… все; умерли также и мои дети, мои милые дети… Они умерли все, и я брожу, сэр, как тень, одинокий скиталец. Я не смею взглянуть больше ни на одну женщину, я боюсь, сэр… О! как я боюсь, чтобы моя, ни для кого ненужная, жизнь, не стоила еще жизни какому-нибудь молодому существу, чистому, доброму, умному, полному юных сил и цветущих надежд…
Мистер Чертч замолк, на глазах его задрожали слезы.
Но в глазах Артингсона ничего не было, кроме отчаяния и нетерпения.
– Далее, сэр, далее! – вскричал он грубо, – что вам нужно от меня?
– Я обращался, сэр, за помощью, за разъяснением к медицине. Она мне ни в чем не помогла, ничего не разъяснила. Тайна осталась тайной. Она похоронена в этих трех могилах. Я искал ответа в разных науках… Я, я даже занимался теорией вероятий… Нигде, нигде не было ответа! Когда в первый раз я увидел вас на митинге, когда я услыхал вас, ваше вдохновенное пророчество, – мне вдруг пришла мысль, одна мысль… может быть, поэт скажет то, что не могут сказать ни религия, ни наука… И вчера, вчера вечером, они все три явились ко мне, они, мои милые, безвременно погибшие… они явились и скрылись как сон…
И мистер Чертч медленно провел пальцами перед глазами, как будто изображая этим тех, которые явились перед ним и скрылись, как сон… – Они все, сэр, все сказали мне: —иди к мистеру Артингсону!
– Господи! – чуть не вслух подумал Артингсон, – что это за сумасшедший такой навязался!
– Я бы советовал вам, – сказал он мистеру Чертчу, – советовал бы еще раз обратиться к доктору, потому что галлюцинации вещь опасная… или, или обратитесь к спиритам, к какому-нибудь медиуму… он, наверное, ответит вам лучше меня, а я не могу, положительно не могу быть вам в чем-нибудь полезным.
Мистер Чертч остановился на одно мгновение и заговорил хриплым шопотом:
– Я обращался, сэр, и к спиритам, я обращался и к медиумам, они мне ничего не сказали… – Он снял шляпу, отер лоб тонким, белым, свернутым в комочек платком, который дрожал в его длинных костлявых пальцах; потом вздрогнул, с каким-то судорожным порывом, снова надел шляпу и вдруг глаза его устремились на Артингсона и дико заблистали. – Я убил бы себя, сэр, убил бы с наслаждением, – вскричал он, – если бы кто-нибудь сказал мне, что загробной жизни нет… Я вижу, слышу всюду одни намеки, тысячи жгучих вопросов встают в жизни, религия не удовлетворяет, наука молчит, поэт, вдохновенный поэт, пророк наших дней, ничего не может сказать нам… Мы ничему не верим и ничего не знаем – ни веры, ни убежденья!
Он быстро двинулся к Артингсону, протягивая к нему свою костлявую, дрожавшую руку… так что Артингсон невольно отступил от этого странного, безумного существа.
– Мы бродим впотьмах, сэр! мы бродим в глубоких, непроглядных потьмах!
И он быстро отвернулся и вышел вон, шатаясь и тяжело переступая своими длинными ногами.
Артингсон вздохнул легко и свободно, когда удалился этот загадочный мистер Чертч, удалился как черный паук с длинными черными ногами.
Но, в сущности, в глубине сердца, он был даже благодарен ему, хотя и не сознавал этой благодарности. Этот визит как будто развлек, оживил его, и он с новыми силами, с новой лихорадочной деятельностью принялся укладывать свои вещи.
Какой-то легкий, неуловимый шорох, какое-то тонкое освежающее и раздражающее благоухание долетело до него, он быстро вскочил и обернулся.
Перед ним стояла она, «как ангел белый иль белая птица» – она, мисс Дженн Драйлинг!..
VI
– Я схожу с ума, это галлюцинация! – быстро промелькнуло в голове Артингсона.
– Мисс Дженн!.. – вскричал он, – вы-ли это!?
Но, взглянув на её лицо, судорожно дрожавшие руки на её заплаканные, померкшие глаза, он понял, что это действительно она. Он даже понял, зачем она пришла к нему и сердце его сжалось.
– Мистер Артур! – сказала она, протягивая к нему дрожащие руки, – я пришла сказать вам, что я люблю вас и пришла проститься с вами… О! я надеюсь, что вы не найдете ничего преступного в том, что вы мне отдадите несколько минут, несколько последних минут моего счастия в этом мире, за которые я буду так глубоко, глубоко благодарна вам.
У него потемнело в глазах.
Броситься к ней, броситься перед ней на колени, обнять ее, отдаться всем существом, всем сердцем одной минуте, минуте блаженства, счастья неоценимого, полного и затем будь, что будет. Пусть судят, пусть казнят его и свет, и Бог правосудный!..
Он овладел собою, овладел своею страстью.
– Мисс Дженн! – сказал он, стараясь придать своему голосу и твердость, и нежность, – я глубоко ценю вашу привязанность, ваше признание… и позвольте искренно, крепко, как другу, пожать вашу руку! И он действительно пожал эту чудную, прекрасную, холодную руку.
– Мы сядем здесь, – говорил он, указывая на широкий диван, – и, если желаете, будем говорить с вами, как искренние, давнишние друзья. – И он действительно усадил ее на диван, и сел подле неё. Но только он видел, как дрожит вся она, как колышется её высокая грудь и чувствовал, как дрожит сам он, как стучит его собственное сердце и пылает голова его.
– Мисс Дженн! – сказал он, – и голос его прерывался, – вы знаете, что я старше вас, почти двадцатью годами… вы знаете, что я люблю и мою жену и всю мою дорогую семью… но я глубоко чувствую, о! я понимаю, что теперь творится в вашем бедном сердце!..
Она вдруг приподняла опущенную головку, она встряхнула всеми своими черными кудрями, её лицо побледнело, глаза засверкали.
– Мистер Артур! – сказала она, сдвинув брови и тяжело дыша, – я не прошу у вас ни наставлений, ни сожалений.
– Мисс Дженн – вскричал он и невольно схватил обеими руками её дрожащую руку, – клянусь вам, что… мои чувства… к вам… таковы, что в них нет места рассудку… я только желал бы одного, желал бы всем сердцем, чтобы вы были счастливы.
Её лицо снова просияло, румянец снова покрыл её щеки, и голова снова опустилась.
– Сэр Артур! – сказала она, не выпуская из своей холодной руки и крепко стиснув его руку, как будто боясь, что эта рука ей изменит. – Сэр Артур!.. я действительно желала бы только вашей дружбы, я ни на что более не рассчитываю, ни на что более не имею права, не смею рассчитывать. Я люблю все, что вы любите; мне дороги все ваши привязанности, и прежде всего и больше всего счастье вашего сердца. О! как глубоко я уважаю его! Как я дрожу за него, и она действительно вздрогнула всем своим прекрасным телом, всеми своими черными кудрями. – Я очень хорошо знаю, что между нами лежит целая бездна; нас разделяют не одни года, не одно ваше семейное положение, нас разделяют те глубокие потемки, в которых идет общество… идет, вероятно, к свету, но все-таки впотьмах.
«Мы бродим впотьмах сэр! – промелькнуло в памяти Артингсона, – мы бродим в глубоких, непроглядных потьмах!..»
– Мисс Джени! – сказал он. – никто не может разделить нас как двух друзей… и моя Джелла, моя добрая Джелла, она также будет вашим лучшим другом.
– О, да! сэр. Это моя надежда и мое утешение. Я уверена, что где бы вы ни были, вы не забудете обо мне, мы будем писать друг другу, мы будем передавать и наши мысли, и наши чувства. Да, в этом будет глубокое утешение… нет, это будет все для меня. О! я теперь ясно понимаю страдания моей бедной мэм!.. Ведь нельзя оценить страдание другого сердца, если не испытаешь их в собственном сердце, не правда-ли, сэр? – И она посмотрела на него, глубоким, искренним взглядом…
– Правда! – сказал машинальным, глухим голосом Артингсон.
«О! как я боюсь, – припомнились ему слова мистера Чертча, – как я боюсь, чтобы моя жизнь не стоила жизни еще какому-нибудь другому молодому существу!..»
– Сэр Артур! – сказала она (и как мило, как задушевно она выговорила это: «сэр Артур!» – я думаю в жизни есть много страданий глубоких страданий незримых ни для кого, и мы не подозреваем, проходя мимо их, как сильно болит это больное сердце!.. Мне кажется, я может быть ошибаюсь, как все мы постоянно ошибаемся, – и она провела рукой по своему высокому лбу, – мне кажется, что наше слабое, бедное, условное счастие не может, не должно иметь места в жизни… и только тогда эта жизнь устроится…
Он посмотрел на нее с изумлением.
– Я думаю, что все зависит от строгого глубокого расчёта, который основан на знании всех мелочей. Если люди будут заботиться постоянно и всего более о знании, то жизнь скорее устроится, а счастие… счастие придет само собою. Если бы мы понимали жизнь и умели ею управлять, то мне кажется, не было бы в ней места страданиям, никаким страданиям… Сколько существует несчастных браков, сколько разбитых сердец, сил, даром растраченных и даром погибших для общества, для прогресса. Какой злой, непонятный случай свел нас с вами, почему мы встретились с вами так поздно, мы, которым, кажется, сами естественные законы прирожденных симпатий, как будто назначили жить друг для друга, для полного, взаимного счастья, – голос её задрожал и оборвался!..
Он взглянул на нее и тотчас снова опустил глаза.
Под говор этих тихих искренних слов, под говор этого задушевного признания, которое она как будто высказывала не ему, её другу, так страстно любимому, а просто самой себе – он почувствовал, как новая, могучая волна страсти поднялась в его, и без того кружившуюся, голову. А между тем, она так близко сидела от него – и не сидела, а даже полулежала, как будто в изнеможении опустив головку на мягкую и высокую спинку дивана. Она смотрела прямо её блестящими глазами, – о! какими блестящими и страстными глазами – в его глаза и каким жгучим, ароматным воздухом была окружена вся голова её, все ее прекрасное тело. Он не смотрел на нее, но он чувствовал, как тяжело она дышала, он видел, как её руки вытягивались на подушке дивана, гладили одна другую, дрожали в неодолимом томлении. Они жаждали ласки так же, как её сердце, как все существо её… А в комнате сквозь полуопущенные шторы тихо светили сумерки майского, теплого вечера.
– «Ну! что же, – говорил ему смущающий голос, – сердце за сердце, жизнь за жизнь? Одной, уже совершившей свой страстный круг, матери твоих детей, которая останется матерью, ты отдал самые страстные, самые лучшие восторги твоего ума, сердца, таланта; отдай теперь это сердце другому сердцу. Ведь это сердце само раскрылось перед тобою, само отдается тебе, ведь она пришла к тебе, сбросила с себя все оковы пересудов, все цепи предрассудков общества. Она приносит тебе её первую и последнюю, жаркую любовь. Закон, мировой закон внятно говорит и твоему рассудку, и твоему сердцу, что дети твои и её дети будут так же умны и талантливы как умны и талантливы их родители, дай же обществу этих деятелей!.. Ему нет дела до твоей Джеллы, до её детей, ему нужно Артингсонов, деятельных, гениальных Артингсонов!»…








