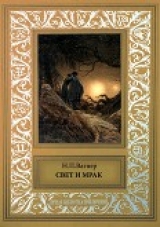
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
– Мисс Драйлинг! – сказал он, и она повернула к нему лицо и глаза, сверкавшие даже в ночном сумраке, – мисс Драйлинг, я желал спросить вас… извините – этот вопрос глубоко смущает, давит меня… Я желал бы спросить вас то, что вы пропели так недавно, этот третий куплет моего романса, он вам принадлежит… или… или вы слышали, читали его где-нибудь…
Мистер Артингсон, – сказала она, сдвинув брови, сказала тем же сильным певучим контральто, которым пела этот романс, – я этого сама не знаю, я пела, потому что должна была петь, потому что внутри меня что-то пело… а что такое, какие слова я пропела, я этого сама не знаю: не знаю точно также, почему какой-то голос сегодня с утра твердил мне: он приедет; не знаю почему, какая-то сила заставила меня выдти к вам, когда вы пели романс.
Артингсон почувствовал опять, что какая-то горячая волна приливает в его голову, что даже ночной, свежий воздух не освежает её.
– Мисс Драйлинг, – начал он, стараясь уловить какую-нибудь нить в этом темном хаосе, – мисс Драйлинг, вы согласитесь, однако, что все это странно, более чем странно… Припомните, может быть вы когда-нибудь слышали от кого-нибудь слова этого романса, может быть… он остановился, он хотел сказать – может быть они сами сложились в вашей голове, в вашем сердце, может быть мысль и чувства человека могут передаваться другому, когда и там, и здесь звучит ответный строй. Но он не сказал ничего. Он только чувствовал, что все это какая-то дичь, чепуха, и схватил себя за голову обеими руками. – Я просто, кажется, рехнулся, подумал он, – не даром, она, моя добрая Джелла, так боялась, чтобы я не сошел с ума.
А мисс Драйлинг вдруг порывистым движением отшатнулась от перил балкона и подошла к нему. Глаза её еще сильнее засверкали, брови сильнее сдвинулись, она протянула к нему её чудные руки, прекрасные даже в темноте вечера…
– Мистер Артингсон. – сказала она, – да разве вы не знаете, что мы, все мы, ходим впотьмах. Разве мы знаем, что горит там… в этих далеких звездах, разве мы знаем, что творится вокруг нас? Какой ум, какие страсти скрыты в этом тумане, что клубится над озером. Я вижу там мелькает какое-то белое пятно, какой-то волнующийся призрак, я слышу какой-то смутный шум и чудный звук, который носится, плавает над этим озером в ночном тумане. Слышите ли вы его?
И действительно Артингсон вдруг услыхал, или ему показалось, что он услыхал какой-то неопределенный звук; он пронесся как жалоба грустная, мелодичная, какой-то чудовищной невидимой птицы и исчез там, в недосягаемых пространствах эфира.
Артингсон вздрогнул и отшатнулся от неё, от этого странного существа, которое стояло в виде такого обольстительного женского образа перед ним, и, не отнимая руки от головы, в которую стучали какими-то горячими молотами, он вбежал в комнату…
– Мисс Драйлинг, друг мой! мисс Драйлинг! – вскричал он, – я должен уехать. Где моя шляпа?.. Мне кажется я с ума схожу…
И он схватил шляпу, и едва коснувшись протянутой руки мисс Драйлинг, не понимая, что она говорит и что хотят от него эти лица, которые стоят перед ним с таким искренним сожалением; он бросился вон из этой странной, заколдованной атмосферы.
– Я провожу вас, сэр, – кричал ему, догоняя его, мистер Литль, и на бегу он звонил в колокольчик и кричал: где грум, где коляска?..
Он усадил в нее мистера Артингсона, как маленького ребенка; он так заботливо предлагал ему понюхать Smith’s-Triplessence и так убедительно объяснял ему, что расстройство нервов может быть пагубно, очень пагубно. Он говорил ему о сильном на них действии музыки, вина, душного вечера, поэтического настроения и женщин, в особенности женщин.
Но Артингсон и слушал, и не слушал этого обязательного, начитанного и рассудительного мистера Литль. Он ничего не понимал, не помнил, что он говорит, и что с ним делается. Когда он вернулся к себе, он принял какие-то успокаивающие капли, обвязал себе голову полотенцем, намоченным в самой холодной воде, а главное старался ни о чем не думать, ни о чем не представлять себе, и мало-помалу волнение улеглось, струны затихли, сердце начало стучать ровным, мерным стуком и он заснул, как убитый.
II
На другой день Артингсон встал усталый, вялый и сонный. Он посмотрел в зеркало на свое побледневшее лицо, на свои тусклые глаза и решил, что так нельзя, что никогда он не был так утомлен, что вчера возбуждение нервов было страшное, и все, что было вчера, было действительно только возбуждение нервов. Одним словом, мистер Артингсон пришел к тому же заключению, к которому пришел и рассудительный, практический мистер Литль.
И он принялся распечатывать письма, только что принесенные с почты, письма от его жены, от его милой жены, от его детей… Он с таким наслаждением читал строчки любимой, дорогой руки:
«Друг мой милый и дорогой мой Артур!» (писала эта рука).
«Я пишу к тебе почти тотчас же после твоего отъезда, пишу собственно затем, чтобы ты был покоен, чтобы ты знал, что все мы и в твоём отсутствии помним о тебе, вспоминаем постоянно и ждем тебя. Посылаем тебе наш искренний любовный привет и целуем тебя крепко. Твоя глубоко, искренно любящая Джелла».
«Дорогой, милый друг мой, отец мой»! – писала четырнадцатилетняя дочь его, Лида. – «Странно!.. мне скучно без тебя – я очень хорошо знаю, что ты скоро вернешься, что мы расстались ненадолго, и что мы не вечно будем жить с тобой, но мне скучно без тебя. Я почти готова плакать. Мне все кажется, что с тобой случится что-то недоброе. Ах! дорогой мой! Как крепко, крепко люблю я тебя. Я молюсь за тебя, прошу тебе защиты, благословенья от Того, Кто один может защитить от всего весь род людской. Обнимаю тебя и желаю одного, чтобы ты скорее, скорее вернулся к нам. Твоя Л.».
В конце письма было крупными буквами вкривь и вкось написано: «Милый папа! я тебя люблю, право люблю. Твоя Э.».
И мистер Артингсон с радостью и благодарным чувством читал эти строки. Его лицо сияло и слезы накипали на сердце.
Он вспомнил и жену свою, милую Джеллу, такую любящую, добрую и рассудительную, с такими кроткими, большими серыми глазами; он вспомнил и свою Лиду, умную не по летам, умную и красивую девушку. Но сквозь все эти воспоминания невольно являлся образ другой головки, этой странной, таинственной мисс Джени Драйлинг. И зачем он являлся?! И что за странное существо такое, что говорила она ему вчера, что такое свершилось вчера?
Но Артингсон встряхивал своими длинными кудрями и, чуть ли не в двадцатый раз, давал себе слово не думать больше о вчерашнем вечере, и все-таки думал. И этого мало. Он даже отправился к мисс Драйлинг, отправился, разумеется, после всех своих практических дел, переговорив с несколькими нотариусами, совершив какой-то контракт на 2.000 долларов пожизненной ренты, наконец, продав какие-то бумаги на 25.000 долларов.
Мисс Драйлинг сама его встретила на лестнице; она издали с балкона увидала его и выбежала к нему навстречу так быстро, как только позволяли ей её старческие ноги.
– Ну, что вы, что с вами? – расспрашивала она, пристально глядя ему в лицо. – Я так беспокоилась за вас… я хотела уже послать к вам, ехать сама…
– О благодарю, тысячу раз благодарю! – говорил мистер Артингсон.
– Это пение, музыка и этот митинг расстроили вас… Притом, я думала, не была ли причиной, какой-нибудь невольной причиной – моя племянница. Ах! Мистер Артингсон, если-б вы знали, как я несчастна!.. Садитесь, садитесь вот сюда… я все расскажу. Я до сих пор не писала вам об этом, но моя Джени… эта милая, дорогая Джени… порой Она причиняет мне такия глубокие огорчения – И на глазах мисс Драйлинг выступили слезы. – Я не могу винить ее, – продолжала она, вытирая как-то порывисто эти надоедные слезы. – О! как же я могу ее винить! Я думаю, что она сама несчастна, и может быть, более несчастна, чем её несчастные отец и мать… О! Артур! вы знаете их горькую, плачевную судьбу…
Мистер Артингсон молча кивнул головой, не отрывая своих грустных, задумчивых глаз от рассказчицы.
Перед ним, на одно мгновенье, промелькнули два образа, образа, полные юных, светлых сил и безвременно исчезнувшие в могиле. Оба, он и она, так странно, как-то фантастически любили друг друга. Он был какой-то восторженный мистик, фанатик, красавец собой, рослый, статный, с южным колоритом, с большими черными, страстными глазами. Он увлекал многих своими проповедями в какую-то маленькую, темную секту фотозофов и секта быстро разрасталась, и точно также быстро рухнула с его смертью. Он умер вскоре после жены, маленького, худенького существа, которое умело только любить, плакать и молиться. Мистер Драйлинг считал ее ангелом хранителем его жизни, и когда она умерла, от быстрой скоротечной болезни, вскоре после родов Дженн, – он не возлюбил этого ребенка. Он мучился, положительно мучился целый год, безумствовал, совершал небывалые, неслыханные поступки. Секта верила в него, как в пророка, и вдруг, в один вечер, его нашли мертвым в его собственном саду, в кустах над речкой. Говорили, что он отравился, другие утверждали, что его отравили. Но темное дело осталось темным!
Мисс Драйлинг взяла к себе ребенка, дочь её брата, маленькую Дженн, и воспитала ее с такой заботливостью, с такой нежной любовью, с какой редкая мать воспитывает её собственную дочь.
– Ах, вы не можете представить, дорогой мой мистер Артингсон, – говорила мисс Драйлинг, складывая руки, – вы не можете себе представить, как я люблю ее! И она стоит этой любви, это чудная девушка, добрая, умная и талантливая; но она… она… голос ее задрожал. – Она немного расстроена здесь, – и мисс Драйлинг показала на свою голову, помахала рукой около своего лба и голос её порвался. И снова слезы побежали из её покрасневших глаз.
– Неужели это неизлечимо? – вскричал Артингсон с таким теплым участием.
Мисс Драйлинг покачала головой и начала шопотом, быстрым, отрывочным, наклонясь к Артингсону:
– Она была в той секте, в той ужасной секте «просвещенных»!.. Ведь вы знаете, это какие-то бешеные, поврежденные… И она проповедовала там на митингах, на их безобразных митингах!.. И сколько мне стоило труда. Ах! сколько стоило труда мне, мой дорогой друг, возвратить эту бедную овцу снова в мой дом!
– Но почему же вы думаете, что она помешана? – спросил довольно резко мистер Артингсон, хотя и мягким, задушевным шопотом.
– О! – вскричала мисс Драйлинг и начала так быстро вертеть своей головой, как будто в этом верченьи и были все самые неопровержимые убеждения и доказательства. – У ней грезы, галлюцинации, – прошептала она так таинственно, что Артингсон только по движению её губ мог догадаться, что такое она сказала.
– Но почему же вы думаете?.. – снова спросил он.
– Ах! мистер Артингсон, – перебила его мисс Драйлинг, снова переходя в восторженное состояние, – но если бы вы знали, какая эта добрая, добрая чудная девушка!
И вдруг мисс Драйлинг оглянулась и замолкла.
Позади неё стояла она сама, эта добрая, добрая, чудная девушка.
Мистер Артингсон подошел к ней и протянул ей руку. Он прямо, доверчиво смотрел на это лицо и невольно дивился– не красоте его, хотя красота была действительно поражающая, – он дивился перемене этого лица. Он искал в нем то страстное, гордое, торжествующее выражение, которое так сильно взволновало его вчера, и не находил.
Перед ним стояла красивая девушка, с такими ласковыми, доверчивыми глазами, с такой милой улыбкой и так просто от души пожала она его руку и смотрела на него с невинной детской лаской…
– Мисс Джени, – сказал он, – я до сих пор не могу придти в себя от того, что случилось вчера вечером… я удивляюсь до сих пор, что это было такое?
– Я не знаю, – отвечала она, садясь подле него на кресло, – о чем вы говорите, сэр, я не знаю – говорила она, поправляя обеими руками свои чудные роскошные кудри – о чем вы меня спрашиваете, сэр?
И странное дело! Даже голос её был совсем другой; он был такой же певучий, мелодичный, но в нем не звучала ни одна могучая, страстная, повелительная нота. «Это решительно другая девушка!» решил мистер Артингсон.
– Я не знаю, сэр, ничего! что случилось вчера. Я только смутно помню, что мы виделись с вами, что вы играли, что я, кажется, пела… но что вы играли, и что я пела – я решительно ничего не помню.
Артингсон обернулся к мисс Драйлинг, как будто в ней отыскивая разрешение этому странному недоумению.
– Вы видите, видите, дорогой мой друг, – говорили глаза мисс Драйлинг, – вы сами видите. Я была права, жестоко права, – и она качала головой и грустно улыбалась.
– Мисс Джени, – заговорил вдруг Артингсон каким-то резким, но глубоко откровенным голосом, – мы сейчас говорили с моим дорогим другом, с вашей теткой…
– С моей матерью, – поправила его Джени, – с моей матерью, сэр. Я называю мисс Драйлинг не иначе, как моей дорогой мэм, и я думаю, что я права. Она отдала мне все, что может отдать своей дочери родная мать, – она отдала мне свое сердце.
– С вашей матерью, – продолжал настойчиво Артингсон, нисколько не смущаясь этой поправкой и находя ее совершенно законной. – Мы говорили, мисс Дженн, о странностях вашего характера, ума, сердца. Она рассказывала мне, что вы были в этой непонятной секте, в этой общине «просвещенных».
– Да, сэр! Я не только была, я до сих пор в ней моими чувствами, умом, убеждениями.
– Но ведь эта секта, мисс Дженн, ни во что не верит! – произнес с ужасом Артингсон.
Дженн покачала головой.
– Вы ошибаетесь, сэр; вы получили превратные, очень превратные понятия о «просвещенных». Если верой вы называете, то неопределенное чувство, которое основывается только на влечениях сердца, одного сердца то этой веры «просвещенные» действительно не имеют; но разве, сэр – это вера? Мы видим, что мироздание лежит в пределах неуловимой, беспощадной законности; мы стараемся узнать эту законность, мы стремимся к этому всеми нашими помыслами, желаниями, трудами; мы ищем истину, мы жаждем её света и мы верим, да, мы верим, что дождемся этого света! Разве это не вера?!
– Но, мисс Дженн! – вскричал с удивлением Артингсон, – ведь это ересь, вы не можете узнать ничего, что выше человеческого знания – есть пределы земному! Там, там, только в вечной жизни может явиться эта истина, которую вы ищете, и то для немногих, для избранных, для тех, кто «сердцем свят, что чист душой»!
– Вы сами проповедуете ересь, – сказала, грустно качая головкой, Дженн и смотря прямо на него своими ясными, черными глазами (Боже! как хороша она, думал Артингсон.
Все в лице её чудо совершенства, ума, грации и удивительной, поражающей гармонии!) – Разве пророки, вдохновенные глашатаи истины или поэты не знали ее. Или все, что они говорили, все, что сказано в преданиях, все это ложь или вы сами на себе не испытали этой силы вдохновения? Разве к вам не являлись те минуты, когда человек как будто прозревает, как будто видит дальше, чем он может видеть в другие простые, обыденные минуты нашей прозаической жизни?
Артингсон приподнялся с дивана. Его поразила эта странная, небывалая мысль и это сопоставление. Ему показалось оно непростительной профанацией.
– Мисс Джени, – вскричал он, – да разве можно сравнивать то, что говорим мы, даже в минуты вдохновения, с тем, что открывают нам эти люди в минуты их великого просветления! Ведь мы только растолковываем и собираем, по клочкам, земные человеческие чувства, а они, они…
– Не только можно, но даже должно, сэр, сказала Джени самым убедительным тоном. – Если вы согласитесь, что поэт и все возвещающие истину, говорят одно – одни больше, другие меньше, то вы согласитесь также, что каждый человек, который не лжет, не ленится и стремится узнать истину, идет по тем же стопам, по той же дороге. Одни творят больше, другие меньше, и кто решит: больше ли созидает вдохновенный пророк, поэт или ученый? Если один открывает нам великие истины, то другой указываешь на их применения в области чувства, третий – в области ума. Неужели же вы скажете, что ученый работает по-пустому и поэт лепечет пустяки, что искусство и наука – ложь и призраки ума и чувства! Ведь вы сами поэт и музыкант!
Прошло несколько мгновений. Артингсон ничего не мог ответить. Он никогда не шел так далеко, для него вера была верой, наука – наукой; искусство – искусством. Такое широкое обобщение для него казалось немыслимым, потому что он никогда об этом не думал.
– Но неужели же, – прошептал он, – все это по-вашему одно и то же; неужели же вы думаете, что вера, наука и искусство идут к одному, что они сливаются?!
– Да, мы убеждены в этом, – сказала Дженн – мы ищем везде истину, и если художник и ученый не будут искренны, если они не будут работать ради истины, ради одной истины, то их созданья будут ничтожны, эфемерны или то, что они делают, делают не они, а сама Истина, тот закон, те случайности, которых мы не знаем, которых мы ищем, для того, чтобы не бродить впотьмах.
Артингсон снова задумался. Он снова был поражен. Новое ученье, новый свет открывался перед ним. Высоко приподняв брови, он посмотрел на мисс Драйлинг; но мисс Драйлинг изображала олицетворенный ужас. – «Вы видите говорили её испуганные глаза, вы видите, что это еретичка, безбожница, а между тем, это моя племянница, моя дорогая, милая Дженн, которую я люблю так сильно, потому что она умная и добрая, добрая девушка…
– Но мисс Дженн – сказал Артингсон, – ведь это все странно и неопределенно; ведь в этом нет никаких верований; разве может удовлетворять вас только знание, разве вы найдете возможным дойти до убеждения в существовании вечной жизни, в необходимости человечности и братской любви?..
Дженн посмотрела на него с удивлением – она не вдруг поняла, о чем он спрашивает; они, очевидно, говорили разными языками.
Мистер Артингсон, – ответила она, – чего мы не знаем, того мы не можем ни признавать, ни отвергать; но как же мы можем отвергать то, что существует. Любовь существует, оно действительно существует – это мировое чувство. И мы стараемся узнать, определить все рода, все оттенки этого чувства, определить его связь с другими явлениями и влияние его на эти явления. Из каждого чувства мы стараемся извлечь как можно больше пользы для нашего дела, для дела просвещения, и что нам за дело до человечности, до любви христианской, мы адепты нового ученья. Наш кружок, наша община работает постоянно с любовью к её делу, к делу знания во всех его видах, и вот её задачи и цели, а до пиетизма нам нет дела…
– Что же это! – вскричал Артингсон, – это просто ученое общество ваше учение или секта?
– Нет! «просвещенные» не составляют такого ученого общества, какие вы привыкли видеть. Наш устав и наши принципы совсем иные… Да вы разве никогда не читали нашего журнала?
Артингсон сознался, что не читал. Он читал только возражения, ожесточенные и грубые нападки на этот журнал и эти нападки распространялись в числе нескольких сот тысяч экземпляров в одном из известных изданий. И вот эти-то нападки или это издание доставили секте «просвещенных» весьма странную и самую нелепую репутацию. Но разве существует такая нелепость, в которую не уверовали бы в самой прогрессивной стране, в той стране, где сталкивается такая громадная масса всяких интересов, где конкуренция несется на всех парах, влечет все вперед и роет яму чуть не каждому, на каждом шагу!
– Я сейчас принесу вам наш журнал – сказала, вставая, Дженн и ушла бойкой походкой.
– Вы видите, видите, дорогой мой друг! – быстро заговорила и замигала глазами мисс Драйлинг, – что же я могу тут сделать? Вы видите, как она увлечена и как болит, о! как болит мое бедное сердце.
Не унывайте, мисс Драйлинг, – утешал ее Артингсон– друг мой. Может быть, зло не так сильно – я сам еще не понимаю, что это за странное ученье такое. В нем, очевидно, какие-то софизмы, какая-то небывалая юная философия, которая исчезнет, как все юное, и обратится к строгим принципам великого учения. Но, произнося эти слова, мистер Артингсон сам был не вполне уверен, что он говорил истину.
– Вот он! – сказала, входя, мисс Дженн и подала Артингсону небольшую пачку печатных листков. На первом из них стояло: – «The Enlightener» – «Просветитель».
– Вы позволите взять их с собой? – сказал Артингсон с любопытством перелистывая журнал.
– О да, да!.. Хотя я вовсе не желаю пропаганды. Мы все не желаем её, мистер Артингсон. Мы убедились, что пропаганда приводит много званных и мало избранных, мало тех, которые могли бы трудиться с умом) любовью и талантом. И вот почему, мы только изредка устраиваем митинги и принимаем некоторые, самые невинные, меры для того, чтобы собрать для общества немного денежных средств. Мы ищем капиталов, мы ищем средств повсюду, поодиночке, строго взвешивая шансы и разбирая способности. Но, к сожалению – прибавила Дженн грустным голосом, – из тех немногих, которые работают в общине, очень часто случай, прирожденные симпатии похищают у нас…
И вдруг она остановилась, взглянула на мисс Драйлинг, бросилась перед ней на колена и, целуя её руки, заговорила быстро, самым искренним задушевным голосом:
– О! мэм, мэм, моя дорогая, родная, я не делаю никакого намека, я не о себе говорю – ты знаешь, что я забыла о себе, что я живу для тебя, для твоей жизни бедной, разбитой… Артингсон был поражен словами, страстным порывом этой девушки. Его сердце сжалось: ведь это о тебе говорят! подсказало оно. И он чувствовал, что здесь перед ним два больных сердца, – одно пылавшее к нему одному глубокой любовью, плачет теперь разбитое, похороненное, а другое, другое отдало себя вполне этому разбитому сердцу, оно пожертвовало самыми дорогими, разумными, человеческими симпатиями, для того, чтобы это сердце могло жить… И мистер Артингсон ясно сознавал, что он разбил это сердце; он теперь только вполне понял, что не только душа, но и тело мисс Драйлинг должно было принадлежать ему, и; снисходительно отказавшись от тела, он разбил самую душу.
Да! его положение было невыносимо неловко.
А мисс Драйлинг совершенно расплакалась, чуть не до истерики. Она целовала её племянницу, её милую Дженн, целовала её чудные глаза, руки с таким страстным порывом, как будто ей было не сорок восемь, а только двадцать лет.
– Простите, простите, дорогой мой друг, – залепетала она сквозь слезы и рыдания, протягивая к нему трепещущую руку. – Простите эту глупую безумную сцену!.. – И он схватил эту руку и покрыл её не только поцелуями, но поздними, тихими слезами.
– Сэр! – сказала Джени, – вы, наверное, останетесь здесь до вечера, я надеюсь… я мечтаю, что у вас вечер свободен. – И она вынула быстро из кармана флакон и подала его мисс Драйлинг, потом так же быстро вынула из другого кармана другой флакон и, налив на её розовую ладонь какую-то ароматическую, острую жидкость, начала смачивать ею виски и голову мисс Драйлинг.
– О! успокойся, моя дорогая мэм, я с тобою, я не покину тебя, я люблю тебя, – шептала она.
И так нежен, так был полон могучих звуков любви этот певучий голос.
– Артингсон и удивлялся, и любовался на это лицо, которое дышало силой жизни и делало такой резкий контраст с старческим, страдающим лицом мисс Драйлинг.
– Я остаюсь, мисс Джени, и поверьте, какие бы ни были дела, занятия, я остался бы, – говорил Артингсон, – если это только может успокоить моего дорогого друга, успокоить вас, мисс Джени.
И он остался; он был так разговорчив и одушевлен за обедом, он говорил с полной искренностью ребенка, он рассказывал такия подробности о его семейной жизни и с таким чувством описывал его счастье, его Джеллу, его детей, что мисс Драйлинг невольно схватила его руку и так крепко пожала ее, как будто хотела сказать: видишь ли, я была права, и всем этим ты мне обязан.
А после обеда она совсем опустилась. Старческое, дряхлое утомленье обхватило ее.
– Мэм! дорогая моя! – говорила Джени, – ты приляг здесь, – и она быстро перекатила своими прекрасными и сильными руками маленький диванчик к самому балкону: – ты приляг здесь; теплый вечерний воздух успокоит тебя. – И она положила на диванчик две мягких подушки.
– Я лягу, – говорила мисс Драйлинг, – может быть я даже усну, а ты уведи мистера Артингсона туда – к себе. Покажи ему твои приборы и аппараты. Я надеюсь, он не будет взыскателен… Я успокоюсь и буду снова человеком, еще полным жизни, хотя эта жизнь не нужна ни для кого, и всем мешает!..
Но Джени не дала договорить ей, она закрыла ей рот поцелуем и уложила ее на диван, поправила подушки и долго, долго, тихо целовала её лоб, пока чуткий сон, как будто навеянный этими нежными поцелуями, не спустился на всё это усталое, разбитое существо.
– Что же? – сказала она чуть слышным шопотом Артингсону, приложив палец к губам, – пойдемте ко мне, в мою келью.
И, оглядываясь поминутно назад, на цыпочках, она повела его за собой.
Они прошли несколько комнат, поднялись по витой чугунной лестнице в верхний этаж и, сквозь небольшую переднюю, вошли в комнату или скорее залу, на пороге которой остановился с изумлением Артингсон.
Прежде всего его обдало ароматом всевозможных невиданных, громадных цветов, которые стояли на всех почти окнах-балконах этой комнаты. Все простенки её были уставлены шкафами, обвешаны гравюрами и фотографиями; затем вся середина её была загромождена столами, на которых были разбросаны книги, рукописи, расставлены какие-то странные инструменты физические или химические.
Множество разных банок широких, плоских стояло на этих столах и на одном из них, под огромным стеклянным колпаком, качались рычаги, вертелись колеса, действовал какой-то странный аппарат, который чуть не каждую минуту звенел чуть слышно невидимыми мелодичными колокольчиками.
– Садитесь, сэр, – сказала Дженн, придвинув к одному столу мягкое, широкое кресло, – я принимаю вас в моей келье или лаборатории, назовите ее, как хотите. Я называю ее маленьким уголком, которым я должна довольствоваться поневоле. О! если б вы видели наши лаборатории, там в нашей общине, в нашем храме Истины!
– Мисс Джени– сказал изумленный Артингсон, – я не знаю, чему здесь удивляться; я назвал бы этот уголок кабинетом ученого если бы здесь не было столько цветов; и я не понимаю, неужели вы можете жить, работать в этой тяжелой, ароматной атмосфере?!
– Могу, сэр; я к ней привыкла – это единственное мое утешение… О! Не думайте, что я сожалею о тех потерях, о тех жертвах, которые я принесла моей дорогой мэм. Нет!.. Я просто люблю цветы, их свежесть, их благоухающую атмосферу, и если их аромат становится слишком тяжелым, невыносимым для нервов, то мне стоит только открыть этот кран, и газ, который скрыт там в резервуаре, нахлынет в воздух и уничтожит раздражающий запах этих эфирных масел.
– Но, мисс Джени!.. мне кажется, вы просто ученый. Что это там у вас на том столе? Мне кажется, маленькие акварии, а там, под этими стеклянными колпаками, растут какие-то растеньица… и этот инструмент загадочный… что это такое? Это все ваши работы, ваши занятия?..
– Да, сэр, я работаю, как должен работать, я полагаю, каждый человек; я работаю над многим понемногу, сколько позволяют мне мои маленькия силы и средства, и – если хотите – я вас посвящу отчасти в наши таинства, потому что мы, все члены общины, действительно работаем втайне. Мы ищем во всем общей связи, разгадок великих явлений и вот почему почти ничего не печатаем из наших работ, не печатаем потому, что мы не связываем с ними наши имена. Мы трудимся не для себя, а для дела и публикуем только тогда, когда из общих наших усилий выходит какой-нибудь общий стройный вывод. Вот посмотрите, здесь, – говорила она, приподнимая несколько стеклянных колоколов, – воспитываются растения под влиянием различных сил, и весь вопрос сводится к тому, насколько эти силы изменяются в этих маленьких растениях и являются как будто чем-то особенным. Вопрос очень сложный и я тружусь только над самой маленькой долей его. Другие мои товарищи, мне помогают. Здесь в этой машине или аппарате (и она подвела его к большому стеклянному колпаку, которым был прикрыт этот аппарат), здесь совершается, так сказать, учет всех сил, которые действуют в этой комнате. Каждый солнечный луч, заходящий сюда, оставляет здесь следы его непосредственного влияния и в тепловых и в световых отпечатках, а по ним можно вывести учет этого влияния, как действующей, возбуждающей силы на все, что здесь находится, растет, развивается. Вот здесь, сэр, – и она из большего картона вытащила пачку каких-то синеватолиловых бумажек, испещренных множеством линий кривых, ломаных, – здесь вы видите образчик тех бюллетеней, которые ведет этот инструмент – и записывает каждую минуту, каждую секунду… А там – она быстро опустилась, села на пол и встряхнула каскадом её черных волос, и, как бы невольно, подле неё опустился Артингсон – там… она распахнула дверцы шкафа, на котором стоял прибор. Вы видите другую еще более сложную част аппарата.
Артингсон заглянул внутрь и действительно увидал целое громадное пространство. Часть его даже уходила под пол и терялась где-то в темной глубине. И все это громадное пространство было занято множеством валиков, шестерней, колес, рычажков, винтов, трубок, целой батареей каких-то длинных, тонких стеклянных сосудов, целым строем каких-то табличек. Все это вертелось, двигалось, опускалось, поднималось, то медленно, то с неуловимой для глаза быстротою и какой-то тихий смешанный гул и неуловимый, тонкий запах поднимался от этого чудовищного прибора, который составлял какой-то особенный мир.
– Здесь, – объясняла Джени, и объясняла с увлечением, которое так сильно блестело в её прекрасных глазах, здесь вы видите другую сторону учета. Каждый газ, который смешивается с воздухом в этой комнате, каждое испарение отражаются в этом аппарате; на нем можно узнать всякое химическое соединение, которое моментально, в минимальных количествах появляется в этой комнате. Все, что пролетит в здешней атмосфере, тотчас мгновенно улавливается и записывается этим аппаратом… А здесь, – и Джени распахнула дверцы другого отделения шкафа, – здесь записываются колебания воздуха, все звуковые волны, весь теперешний разговор наш с вами. Видите, как сильно хлопочет и работает этот аппарат, теперь, когда наши слова заставляют его работать.
Но Артингсон ничего не видал больше; его изумление достигло пределов. Никогда, нигде он не читал, не слыхал об том, что совершалось теперь воочию, перед его глазами. Точно какой-то сказочный, волшебный мир открывался перед ним и при том все это совершалось в какой-то своеобразной, странной и такой красивой, удивительно красивой обстановке. На всем была видна какая-то чудная гармония, все это сочеталось в общий строй и эта громадная комната и весь её странный порядок со множеством самых разнообразных запутанных предметов, и эти громадные ароматные цветы и блеск заходящего солнца на всем и, наконец, эта чудная девушка, под лучами этого солнца, как будто сама сияющая сильнее всякого солнца, дышущая самым полным совершенством красоты, чудным ароматом юности, силы, ума, таланта. И все это измерялось, записывалось этим странным инструментом этим волшебным чудовищем, которое так таинственно действовало перед ним всеми своими колесами, валиками, рычажками и шумело каким-то шепчущим, мягким шумом и звенело мелодичными, серебряными колокольчиками.








