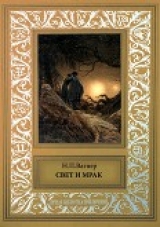
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Вот что говорил ему повелительный голос, и всё-таки внутри его совершалась борьба, тяжелая, разрушающая и тянулись минуты, мучительные минуты.
А она их не замечала. Ей так было хорошо подле него.
Пусть летят эти минуты, часы, дни, пусть проходят целые годы. Ей казалось, что не может быть ничего лучше, как сидеть подле него, любоваться им, любоваться в каком-то трепетном сладком томлении, среди неопределенного, какого-то бесконечного чувства. Что же может быть лучше этого?!
Но для него… О! для него, наконец, стала невыносима эта немая страстная сцена. Он весь дрожал, голова его пылала, пылала кровь, с каким-то гулом струившаяся во всех его жилах. Еще один, один миг, и он бы забыл все, он весь бы отдался бешеному страстному порыву…
Он сделал нечеловеческое усилие, он овладел собой. Быстро поднялся он с дивана, пошатнулся, оперся на стол и судорожно вынул дрожащей рукой часы.
– Уже восемь часов! – сказал он, но голос его не договорил– он оборвался.
И она опомнилась. Она также приподнялась, её бледность, страшная бледность засверкала даже в темноте вечера. Её губы задрожали, на глазах навернулись слезы. Но она стиснула зубы и отбросила быстрым взмахом все свои кудри назад. Она даже улыбнулась; улыбнулась, когда её сердце не билось, когда мучительная боль сдавила ей всю грудь.
– Прощайте, сэр! – сказала она, протягивая к нему обе руки и смотря на него ясными глазами, с кроткой, детской улыбкой.
Он взял эти руки и тихо пожал их. Он хотел прильнуть к одной из них, прильнуть долгим горячим поцелуем, но он ясно сознавал, что вместе с этим поцелуем хлынут у него слезы, и что она также разрыдается истерически. Вот почему он не поцеловал в первый и последний раз этой прекрасной руки, он даже опустил, чуть не отбросил ее.
Она быстро пошла вон, кутаясь в свою белую серебристую мантилью, набрасывая на голову и лицо белый вуаль, она оглядывалась кругом, как бы забыла что-то в этой дорогой для неё комнате.
– Прощайте, сэр Артур, – сказала она на пороге, – до свидания… вы будете писать мне или моей дорогой мэм… Да?!..
И, не дожидаясь ответа, она выбежала вон.
Может быть, показалось ему, или он действительно слышал эти глухие, раздирающие сердце рыдания.
Его тянуло броситься вслед за нею. Он даже должен был проводить ее, ведь этого требовал просто долг вежливости, приличия, но он стоял, не двигаясь. Он дрожал. Потом, шатаясь, подошел он к умывальнику, намочил платок холодной водой, приложил его колбу, смочил всю свою голову, все свои серебристые кудри, сильно поседевшие в эти страшные, мучительные дни.
– Надо собираться, надо скорее собираться! – сказал он вслух, как будто этими словами, этим глухим подавленным голосом могла облегчиться его страждущая грудь.
И он начал собираться, укладывая наверх то, что следовало уложить вниз, выбрасывая вой то, что следовало уложить, и укладывая то, что вовсе не принадлежало ему.
Вдруг он взглянул на часы и как будто вспомнил, что поезд не ждет; не ждет эта машина, действующая паром, чуждая всем человеческим страстям. Он как-то судорожно прижал пуговку электрического звонка и долго не отнимал пальца.
Вбежал слуга в испуге.
– Что вам нужно, сэр?!
– Когда идет поезд в Свиртингэм?..
– В десять часов сэр; вы имеете еще целых полтора часа. О, достаточно времени! Не желаете ли вы, сэр, съесть чего-нибудь; кажется, вы вчера не обедали, сэр, и… и сегодня также.
– Нет, я ничего не желаю. Помогите мне уложиться. Я просто болен – и он снова приложил мокрый платок к своей пылавшей голове, но холодная вода казалось ему горячей.
VII
Через полтора часа он летел к своей Джелле. Он усиливался думать только о ней, он выставлял свою пылавшую голову из окна и освежительной волной дул, на эту горячую голову, свежий ночной воздух, пролетавши мимо вагонов…
Мелькали станции, тянулась ночь, в какой-то дремоте бессильной, тяжелой. Всходило солнце, сияло утро. Кругом были суета, движение, шум, говор. Он думал только об одном, старался думать только о Джелле.
Наконец, поезд остановился в Свиртингэме.
Вот она, его Джелла, стоит на платформе и машет платком, а подле неё плачущая Лида и Эмма, и все протягивают к нему руки. Только нет одних рук, которые протягивались к нему с такой страстной, беззаветной, безумной любовью!
Он вышел в каком-то онемении, как-то холодно поцеловал он и свою Джеллу, и Лиду, и лепечущую, плачущую Эмму.
– Артур, мой Артур! шептала перепуганная, Джелла, – ты болен, ты похудел, пожелтел, ты даже поседел… что с тобою?!
– Я болен, я был болен! сказал он.
И больше ничего не сказал.
Кругом него толпились и лепетали дети; каждый спешил наперерыв рассказать ему что-нибудь ужасно необыкновенное, что случилось без него.
Угрюмо и молча вошел он в свой дом, в свой родной дом…
– Артур! вскричала Джелла, когда они остались одни, – скажи мне, что с тобой!?. Дорогой родной мой Артур!.. Между нами не было и не может быть никаких тайн… Мы так крепко связаны, мы любим друг друга не для себя, но для счастья каждого из нас. Артур! я догадываюсь, ты полюбил ее, ее, эту чудную девушку, о которой ты писал мне, – мисс Дженн Драйлинг.
Он вздрогнул и дико, безумно посмотрел на её лицо, на её большие, серые, добрые, любящие глаза и опустил голову.
– Артур! вскричала она, сжимая его холодные руки, – и только в этом все твое несчастие?.. или она… она не любит тебя… тебя, доброго, умного, талантливого. Неужели же есть в мире женщина, человек, которые бы не любили тебя?… Артур!
– Она любит меня, как-то глухо, скороговоркой проговорил он.
– Так что же, Артур!.. Артур! разве твое счастье не мое счастье?.. Разве ты не знал меня, не узнал меня в пятнадцать лет нашей общей жизни… Разве ты не отдал мне все, все из твоей пылкой молодости… у нас трое детей, твоих детей… Артур! чего еще я могу требовать от тебя?.. Если ты думаешь, что я не буду ее любить как сестру, как родную, как ту, которая даст тебе новое счастие и новую жизнь… Артур! родной мой… друг мой… брат мой!..
Он упал перед нею на колени, он спрятал голову в её руках. Он зарыдал, зарыдал перед этим идеалом, полным самоотверженной любви, а она гладила его серебристые кудри, из её добрых глаз также катились слезы, и одного было ей жаль, одного только, зачем страдал этот человек, зачем поседели так сильно его серебристые кудри.
– Джелла, сказал он, когда, наконец, улегся, стих этот пароксизм плача, когда он высказал все, все что наболело у него в сердце в эти тяжелые дни, – Джелла, мне совестно, стыдно смотреть на тебя… Я ниже, о гораздо ниже тебя…
Она взяла его голову и, обняв руками, повернула к себе, хотя глаза его были опущены, даже зажмурены…
– Почему же стыдно, Артур!.. Не потому-ли, что сердце твое шире моего, что оно может вместить в себе не только любовь к двум женщинам, но и любовь ко всему человечеству, а мое сердце, оно может любить только то, что дорого тебе, и больше всего тебя, моего доброго, умного, гениального друга… Пройдут года, Артур, страсти улягутся, но останутся после нас наши дела и наши дети. Америка будет вспоминать о тебе, о её поэте и музыканте, и вспомнит обо мне, как о твоей жене… Да разве я не христианка, Артур, разве я не люблю тебя, как самое себя, разве я не чувствую, как тяжелы твои страдания, дорогой мой!..
И слезы сильнее закапали из её глаз; она гладила его серебристые кудри, она ловила его руки и целовала их.
– Артур! – говорила она чрез несколько минут, когда он, закрыв глаза, лежал головой на её коленях, наслаждаясь этим безмятежным покоем, после таких потрясающих чувств. – Артур! поезжай завтра же туда, привези ее сюда. У нас есть, у нас найдутся лишние комнаты. Я с такой радостью встречу ее. Мне кажется, у меня будут не один, а два друга… И так хорошо, легко, свободно потечет жизнь моя; я, наверное, сама помолодею с вами.
Он еще поцеловал, крепко поцеловал её худые, уже постарелые руки и встал, быстро освеженный. Он поцеловал ее долгим поцелуем, поцеловал её глаза; он понял, теперь только понял, сколько человечных, именно человечных чувств было спрятано в этом сердце.
И все-таки он мечтал о ней, о той далекой его симпатической паре; мечтал еще сильнее, потому что теперь, да, теперь не было никаких перегородок между ним и ею; теперь даже одобряла этот союз его Джелла, его святая Джелла. Да, он не мог иначе думать о ней, как о святой.
Он так весело, долго болтал в своей семье. Теперь все ему улыбалось: и эти дети, которые так любили его, и эта жена, нет, не жена, а что-то самое высокое, выше друга, выше всего, всего на свете.
На другой день она уговаривала его уехать с первым поездом, спешить скорей к этой страдающей, к этой чудной девушке.
– Артур, говорила она, – ты не можешь представить, какое сильное страдание, боль сердца, может принести женщине обманутая или неудовлетворенная, подавленная любовь. Если мы имеем, должны иметь сострадание ко всем, то еще более к таким существам, умным, талантливым, необыкновенным, как эта девушка. Поезжай скорее; мне кажется, я буду только тогда покойна, когда ты напишешь, что она счастлива и ты счастлив, мой Артур. О, какое будет это чудное письмо!
Но он все-таки не поехал ни с первым, ни с вторым, ни с четвертым поездом, он непременно хотел остаться, целый день остаться с его Джеллою.
– Мне надо отдохнуть, Джелла, – говорил он, – отдохнуть подле тебя. Я пошлю письмо.
– Пошли телеграмму.
И он согласился и написал:
«Завтра, в 5 ч. вечера, я буду подле вас. Перегородок нет; их сломал мой добрый ангел-хранитель, моя Джелла».
– О! Джелла, – сказал он, пряча голову на её груди, – мне совестно, стыдно!
– Чего, Артур? Твоей любви, любви к девушке, которая вполне, я надеюсь, вполне заслуживает ее.
– Мне совестно тебя.
Она засмеялась и крепко поцеловала его.
– Ты ребенок, Артур, ты до сих пор ребенок! Разве я не понимаю, не могу оценить то, что влечет тебя туда к ней?.. Представь себе, что я превратилась на время, а может быть и навсегда, в твою сестру. Разве тебе было бы совестно уехать от твоей сестры к твоей невесте?
– О, моя Джелла! – вскричал он, крепко прижимая ее к сердцу, – о моя сестра святая, как глупо устроено сердце людское! сколько в нем неразъяснимых, непроходимых противоречий!
И целый день они были вместе, целый день, почти постоянно, она расспрашивала его о ней и слушала с таким восторгом его восторженные описания.
– Артур, Артур! – говорила она– снова нисходит к тебе новое счастье! И я, я сама буду счастлива этим двойным счастьем… Вы оба будете любить меня, и я вас буду любить, и какие, Артур, чудные, вдохновенные песни; появятся у тебя в этой новой жизни. О! я заранее вижу, что за гениальная вещь выйдет из трудов твоей обновленной жизни. И я, Артур я, – прошептала она, – буду хоть немного виновницей всего этого. Я буду также участницей. Я, бесталанная, отдам от себя в жертву прогрессу все, что имею, мое любящее сердце!..
– Твое широкое сердце, Джелла! – вскричал он чуть не со слезами и, целуя ей руки, он думал: «Как не похоже это сердце на то, другое сердце; как не похожи эти натуры, и кто решит, которая из них выше!».
И, вместо отдыха, он волновался целый день. Сердце дрожало, дрожали холодные руки, голова горела. То его тянуло туда, туда, к этой необыкновенной девушке, к этой волшебнице; то ему хотелось, страстно хотелось остаться здесь, подле этого доброго, самоотверженного существа.
– Артур, – говорила она, – я пошлю за доктором, ты просто пугаешь меня. Ты бледен, худ, твои глаза горят, у тебя жар.
– Это просто волнение, родной мой друг, – говорил он, – завтра, завтра все это уляжется.
Но она не верила, она все-таки послала записку к старому другу их дома и дальнему родственнику, доктору Бёрнту.
Вечером Артингсон начал укладываться. Какой хаос он нашел в своем чемодане! Точно сумасшедший укладывал все вещи: почти все портреты были разбиты. И опять этим чудным ароматом пахнуло на него от всех вещей, и снова образ этой девушки, который постоянно как тень, мелькал у него перед глазами, явился перед ним, как живой. Сердце заныло, грудь заколыхалась.
Он взглянул на часы – было половина одиннадцатого.
– Через полтора часа, – подумал он вслух, через полтора часа я полечу к тебе, помчусь как вихорь, и нет, нет перегородок!..
Он быстро начал укладываться.
И постоянно ему казалось, что позади его стоит она, что-то белеет.
Он невольно оглянулся назад. Позади его действительно стояла она, она сама, Дженн Драйлинг.
О, как грустен был её молящий взгляд, как судорожно были сжаты её опущенные руки!..
Он побледнел.
«Неужели она приехала вслед за мной, или… или она сделала этот сюрприз, моя дорогая Джелла», – мелькнуло в его голове.
И он быстро вскочил. Сердце радостно забилось…
– Дженн, Дженн, – вскричал он, – вы здесь, вызнаете все!
Но Дженн вдруг заколыхалась, как туман, и исчезла, улетела, как «ангел белый иль белая птица!»
С криком, стремглав бросился он вниз, туда, где люди, где его Джелла.
– Что с тобою, Артур, что с тобою! – вскричала она, бросаясь бледная к нему навстречу. – Мистер Бёрнт, что с ним?!..
– Я видел ее, – проговорил с трудом Артур и зубы его стучали, как в лихорадке.
Мистер Бёрнт усадил его в кресло. Он щупал его пульс. Он прикладывал руку к его голове и качал своей большой курчавой головой, вспоминая, что сейчас рассказала ему мистрис Артингсон.
Он дал ему каких-то капель и послал в аптеку еще за лекарствами.
– Так нельзя сэр, – говорил он, – так нельзя рисковать, страшное напряжение нервов, и если при этом являются галлюцинации, то недалеко очень недалеко до весьма дурной развязки. Я не хочу вас пугать, но будьте осторожны. Я бы советовал вам остаться…
– Нет, я поеду! – вскричал он быстро, и бодро приподнявшись с кресел. – поеду Джелла, только там я могу быть покоен.
И он отправился наверх снова укладываться. За ним вслед пошли и Джелла, и Лида, и другие дети, и мистер Бёрнт.
Все они наперерыв помогали укладываться…
Джелла отвела его в угол.
– На, – сказала она, – Артур, и она подала ему её фотографическую карточку; ты это отдашь ей, а мне пришлешь её карточку, и тотчас же, тотчас же пришлешь мне телеграмму, как приедешь. О! как я боюсь за себя. Я так бы рада была сама проводить тебя, и она крепко стиснула его руку.
Наконец, наконец он был в вагоне. Он еще вспоминал грустные глаза его Джеллы, вспоминал, как она обняла его. Он еще слышал, как рыдала его Лида и как доктор Бёрнт, тоже провожавший его, говорил ему:
– Будьте осторожны, сэр, и еще раз через два часа примите двадцать капель, а завтра по утру десять.
И все это смутно представлялось ему. Главное – он летел, летел к ней. Он вез ей любовь, радость, счастье. Он мечтал постоянно об этой встрече. Он представлял ее в тысячи разных видах и постоянно видел одно, её радость, и даже радость мисс Драйлинг. О! неужели же она не будет рада, неужели же она найдет что-нибудь предосудительное здесь, когда сама Джелла, его святая Джелла, ничего не нашла и благословила его.
И он летел. Ему казалось, что поезд, против обыкновения не делал пяти миль в час, он справлялся с часами, но часы его стояли, как мертвые.
На рассвете он уснул крепким освежающим сном, и сон рисовал ему такия радужные сцены любви и счастия.
Он проснулся почти в два часа утра. Он не слыхал, как менялись его соседи, приходили и уходили пассажиры. Впросонье он отвечал кондуктору, показывал ему билет и на любезное его приглашение чего-нибудь поесть отвечал лаконическим: «благодарю!»
И наконец, он проснулся, – бодрый, свежий, Он узнал, что осталось три часа, только три часа до этой великой блаженной минуты.
О! зачем столько счастья дается одному человеку, столько сердец его любят, так глубоко восторженно любят. Да и откуда же дается это счастье?! «Надо узнать все мелочи жизни», припоминались ему её слова «и счастье придет само собой!» О! вот оно пришло, нахлынуло полной волной, хотя я ничего не знаю, никаких мелочей. И сердце его трепетало, и мечта неслась за мечтой, одна другой милее, восторженнее. Ему казалось, что все на свете хотя на одно мгновенье могут быть счастливы в жизни также, как он.
А поезд летит, летит. Еще полчаса, еще двадцать минут…
Вот наконец и они пролетели.
Как сумасшедший, как влюбленный юноша, он бросается в коляску, бросает в нее чемоданы и прямо туда, туда!
– Дженн, и Джелла! Джелла и Дженн! – твердит он, когда коляска быстро мчит его. – Два имени, два друга, два чудных женских образа, и они оба мои… оба мои ангелы-хранители! О! только бы сердце не разорвалось от этого блаженства!
Вот наконец и он, этот коттедж, вот и озеро, и балкон! Не она ли стоит там? О! с каким криком бросится она к нему навстречу, или побледнеет и упадет без чувств. Нет! это не может быть – ведь она получила мою телеграмму. Она приготовлена. О! золотые юношеские восторги, неужели я снова переживаю вас! И неужели жизнь только обманчивый сон.
Он вбежал в переднюю.
Какие-то люди толпились в ней, что-то толковали, о чем-то хлопотали. Он ни на кого не взглянул, и на него никто не обратил внимания.
Он взбежал на лестницу, вбежал в салон.
Первое, что поразило его, это мисс Драйлинг. Она уходила в другую комнату, или, правильнее, ее уводили под руки какие-то две черные леди.
Он обернулся в другой угол… там стоял гроб… Но он не вдруг разглядел, не вдруг понял, что это действительно гроб, весь замаскированный зеленью, весь убранный цветами и что в этом гробу посреди цветов, её любимых цветов, лежала она.
Он пошатнулся и быстро подошел к этому гробу, не веря глазам своим.
Да, это действительно лежала она; и смерть не могла исказить этой чудной, казалось ему, неземной красоты. Она лежала и мертвая, как живая.
О! где же ты воскрешающая сила!..коснуться бы её, коснуться только этой чудной мертвой руки. Встань, очнись, во имя любви, счастья, блаженства!
Он хотел зарыдать, застонать и не мог.
Круги, круги, пестрые, темные завертелись, заструились в его глазах. Он зашатался и рухнул на ковер, на цветы, подле этого трупа, подле этой чудной, молодой жизни, безвременно и быстро разбитой.
VIII
Когда он очнулся, он дико осмотрел темную, занавешенную комнату. Ему казалось, что он проснулся после долгого тяжелого сна, в какой-то другой, уже загробной жизни.
Он пристально всматривался, подле него сидела она, его Джелла, но он не вдруг узнал ее. Те же черты, но как изменились они, как постарели, как угрюмо смотрят её большие грустные глаза.
А это подле – это мисс Драйлинг, вся в черном, или нет, это какая-то старуха дряхлая, дрожащая, седая, с старчески трясущеюся головой.
Джелла быстро поднялась со стула, глаза её засверкали радостью, задрожали слезами.
Но её тотчас остановил доктор Бёрнт. (Да! и он был тут, и так же как будто похудел), Он подал Артингсону рюмку с какими-то каплями.
– Примите это, сэр! примите, и покой… покой!
Он взял рюмку дрожавшей, прыгавшей рукой и принял при помощи Бёрнта.
А они обе тоже дрожали и плакали и Джелла и мисс Драйлинг.
Он снова впал в забытье и очнулся через несколько часов.
Он как-то смутно чувствовал, что теперь утро, день, что солнце светит на дворе, жаркое солнце. Перед ним снова сидели те же самые лица.
– Джелла! – сказал он чуть слышно, – Джелла!
Доктор Бёрнт хотел снова остановить её страстный порыв и не мог.
Она уже была перед ним на коленях и рыдала, и целовала его руку.
– Джелла! что со мной… Она умерла?..
– Я осталась с тобой, я, Артур!..
Он посмотрел на нее, взял её руку. Какие-то тихие слезы потекли из его глаз. Он целовал её руку и гладил её волосы.
Кризис совершился. Что произвело его? Силы жизни, доктор Бёрнт или эта ласка глубоко любящего сердца и эти тихие слезы. Кто может на это ответить?!
Медленно шло выздоровление. Медленно оживал он, чувствуя, что он должен жить для неё, для его друзей, что кошмар прошел, волшебный, поэтический сон исчез. Настала прежняя пора обыденной жизни. Но сколько же в этой жизни тайн и разве не может согреть ее эта теплая любовь его доброй, его ясной Джеллы!..
– Мисс говорил он раз, сидя на балконе еще слабый, больной – мисс Драйлинг! расскажите мне о её последних минутах.
– Сэр Артингсон! – сказала эта дряхлая, седая старуха, – зачем вспоминать прошлое – вам нужен покой.
– Тебе нужен покой, Артур, – вскричала Джелла, – зачем ты хочешь расстраивать себя снова?
Он тихо покачал седой головой…
– Не бойся, моя родная, – сказал он, – теперь меня ничто не тронет. Все прошло, как сон, все страсти улеглись, и я буду слушать рассказ нашего дорогого друга, как далекую, грустную повесть. Этот рассказ освежит мое сердце, разбудить мои уснувшие силы.
И мисс Драйлинг начала рассказ. Она рассказывала, как будто и ее тоже ничего не трогало, как будто после долгих, долгих страданий онемело, наконец, это разбитое сердца. И притом в её глубоких, впалых, обведенных темными кругами глазах блестела такая теплая вера во что-то вечное, далекое от всех земных страданий, а на её черной одежде блестели белые длинные воротнички, как у пастора – эта принадлежность костюмов шекеров. Она поступила в эту секту и только на время осталась здесь подле него, выздоравливающего, но все-таки больного её старого друга и шекеры ничего не могли возразить против этого святого дела.
– Я пережила эти потрясающие минуты, сэр Артингсон, – рассказывала она, – и мне теперь легко, как старому дереву, после долгого знойного дня, после грома и бури.
Она рассказывала, в каком странном, безумном состоянии вернулась она, её дорогая Дженн, из этого отеля, от мистера Артингсона.
«Он не любит меня, мэм, – шептала она. – Если бы он любил меня, он не был бы так холоден, он нашел бы в своем сердце несколько теплых слов участья, он бы заплакал. Он просто боялся меня, дрожал передо мной».
«Я несколько раз, – рассказывала мисс Драйлинг, – ходила к ней туда наверх, несколько раз говорила ей я не помню, что я говорила ей, сэр Артур… и что могут сделать слова в эти минуты. На все эти слова она почти не откликалась, она сидела грустная, убитая, подавленная. Я видела, сэр Артур, что ей тяжело и не могла ей помочь. Я хотела бы заставить ее плакать, о, наверное, слезы унесли бы все, что налегло, надавило её сердце, что отуманило её голову.
«Было уже поздно – кажется первый час ночи – когда я услыхала этот стук, – глухой чуть слышный стук, но он был так явствен среди тихой ночи. Я не помню, как я бросилась к ней снова наверх, и не помню, что со мной сделалось, когда я увидела ее на ковре, холодную как труп. Я подумала, что цветы, эти ужасные цветы убили ее… Да! я и теперь думаю тоже самое… Вы представьте, что атмосфера, в которой она сидела, целых три часа, была до того тяжела, до того убийственна, что я просто задохнулась, когда вбежала в её комнату. Прежде она освежала ее каким-то газом, но теперь она вероятно забыла о том, или, или… о! Господи, прости мое согрешенье!.. Может быть, Артур, она нарочно убила себя, прошептала она…
«Я, разумеется, тотчас послала за доктором, тотчас перенесли ее в мою спальню, вниз… Приехал и мистер Вертч (вы его знаете), и доктор Тюнинг и доктор Стент. Ей давали какие-то капли, насильно, сквозь стиснутые зубы, вливали ей в рот, ее растирали, обложили синапизмами и в четыре часа утра она пришла в себя и как я уверовала, как я жарко молилась! И знаете-ли, с этой верой, с этой молитвой ко мне вернулось такое успокоенье, глубокое, твердое, невозмутимое. Я сказала: если я и потеряю ее, разве это не Его воля, – Его великого, которого мы любим, потому что нельзя же не любить Его, ведь Он выше, чище, разумнее, бесстрастнее всех нас бренных и мимолетных созданий.
Она очнулась, но на всех смотрела дико, никого не узнавала и дышала тяжело.
«Мисс Драйлинг! сказал тогда мистер Вертч (вы знаете сэр Артур, какой он умный и ученый человек), «мисс Драйлинг, сказал он, мы до сих пор не знаем, как помочь человеку в случае отравления тонким запахом ядовитых цветов – наука здесь бессильна. Мы будем ждать, наблюдать и действовать по симптомам».
И все это продолжалось, тянулось, как тяжелый сон.
«В семь часов мы получили вашу телеграмму. Я тотчас передала ее им, Вертчу, Стенту и Тюнингу, они ни на одну минуту не покидали ее, мою больную.
«Но тут они заспорили. Вертч предлагал прямо сказать ей вслух, громко: телеграмма от Артура Артингсона и передать ей эту телеграмму. Он горячо утверждал, что это сильное потрясение произведет неожиданный быстрый переворот в нервах, но другие так же горячо спорили, что ей нужен покой, глубокий безусловный покой. И вот, почему телеграмма не была ей передана. По крайней мере тотчас же. Но ей все-таки, передали ее, сэр.
«В восемь часов она поднялась с постели глаза ее стали ясны, она узнала меня.
– Мэм! – сказала она, – что со мной?
– Ты больна, – говорю я, – моя Дженн, – будь покойна!
– Мэм! я знаю от него есть что-то.
«Я взяла телеграмму со столика и прямо подала ей, не спрашивая никого. Мистер Вертч не успел вырвать ее…
«Она прочла телеграмму, глубоко задумалась и подала мне ее».
– Поздно, мэм! – сказала она, – слишком поздно!
«Потом снова опустилась, утомленная и не прошло полчаса, как она начала метаться.
«Она просила пить; ей давали какие-то прохладительные сиропы. Она была так послушна, но очевидно ничто, ничто не помогало. Она мучилась. Ах, как она мучилась, сэр Артур, и как я горячо желала, чтобы скорее настал конец этим мучениям, но эта пытка продолжалась целых тринадцать часов. В десять часов она вдруг обратилась ко мне.
– «Мэм! – сказала она, едва дыша, – мэм! ах! если бы он был ласковей со мной, мне кажется, мне легче было, бы умирать!
«Это были её последние слова…
«Прошло еще несколько, не знаю сколько времени, она приподнялась и тотчас же упала, глаза остолбенели, она начала дышать судорожно, порывисто.
«Доктор Стент подошел ко мне, взял меня под руку и насильно повел меня.
– «Пойдемте отсюда, мисс Драйлинг, – сказал он. – Бог милосерд; есть жизнь другая! – кто-то прошептал позади меня:
«Началась агония!»
«Больше я ничего не помню, сэр Артур; она умерла в половине одиннадцатого».
Артингсон опустил голову и глубоко задумался.
– Артур, мой Артур! – вскричала Джелла, бросаясь к нему вся в слезах – будь покоен.
– Я покоен, дорогая моя, – сказал он таким тихим, ровным голосом. – я совершенно покоен…
Он отвернулся от неё и опустил голову. Он усиливался понять её слова и не мог. Какие-то бессвязные понятия, представления струились в его слабой голове, свертываясь клубами или переплетаясь в бесконечную путаницу. Он сидел целых полчаса, неподвижно, не замечая, как летело время.
– Артур! Артур! – вскричала Джелла, падая перед ним на колени, – неужели в тебе все окаменело, неужели ты никого не любишь?… не любишь меня?… – и она рыдала, целуя его руки…
– Я люблю тебя, Джелла, – сказал он, гладя её голову, – я люблю тебя, но то, что похоронено, то не может снова воскреснуть!..
* * *
Прошло четыре года, только четыре года, и сколько перемен совершилось в это короткое время!
Мисс Драйлинг бесследно исчезла в тихой, замкнутой, земледельческой секте шекеров.
Мистрис Артингсон, эта любящая, самоотверженная Джелла, страдала, томилась – страдала потому, что не могла возвратить к себе прежнего Артура. Он как будто переродился после громового удара. Он был задумчив, холоден, сух. Он бродил, как бродят помешанные меланхолики, и когда умерла она, его Джелла – он не плакал. Угрюм, грустен, задумчив стоял он перед её гробом.
Он проводил в раннюю могилу его Эмму, также спокойно, безучастно, как проводил и ее, Джеллу.
Оставалась только одна Лида. Она вышла замуж за человека сильного, энергического, который основывал какие-то новые колонии в девственных лесах Виргинии. Она любила его и работала вместе с ним, как его помощница, как его работник, только от этого брака дети рождались хилыми и умирали.
Вымирал род Артингсона! Он понимал это. Он бродил одинокий забытый, покинутый всеми.
И кто бы узнал теперь прежнего статного, сильного красавца в этом седом, сгорбленном старике!
Замолкли его чудные песни, его певучие мелодии.
Общество забыло о нем, как забывает часто о том, кто вел его вперед, кто увлекал его своими вдохновениями.
А жизнь все-таки шла своим ходом, работала наука, литература, поэзия, искусство, все обновлялось, развивалось, стремилось в неизведанную даль будущего – один он был холоден и безучастен.
Он думал: «куда все идет и куда идти за ответом, и где этот великий ответ на великий вопрос?» Он сам своим сердцем прошел всю гамму страсти, и она сожгла, иссушила его сердце. Он читал даже эти записки ищущих света, этих «Просвещенных» и там говорили рассудительные, ученые люди, один бред и сумасбродство. Да и эта секта уже рухнула.
Он хотел верить и не мог. Чему же верить? Он не мог решить и только хриплый, скрипучий бас мистера Чёртча постоянно шептал над его ухом:
«Мы бродим впотьмах, сэр, мы бродим в глубоких, непроглядных потьмах!»








