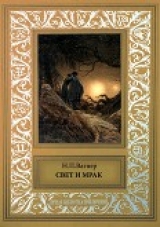
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
И смутно припоминает Дормидоныч, говорила ему старая Ненила: «Не забудь закрыть отдушники!»
И лезет, шарит в впотьмах: «Где тут отдушник-то, непутный!.. Прости Господи!..» – А открыл ли он трубы? Этого он и сам не помнит. «Да и зачем их открывать, – думает он, – кажинный день? Только княжия вьюшки ломаешь… Ну, подымит маленько, подымит и перестанет».
И не видит, сквозь дым, старый Дормидоныч, что вывалились горящие щепки и даже целые поленья, на паркет, что горит уже паркет и занимается мебель и портьеры.
– «Ну, их! – думает он. – Вишь, какой злой дым!.. Так и ест глаза!» А глаза у него старческие, больные.
И выходить он вон из зал. «Кажись, все печи затопил, – думает он. – И все печи дымят. Как есть все– надо починить, чай… Ох, голова, голова похмельная!».
И затопил он печи чуть не с полночи, во втором часу ночи. Пошел, шатаясь, и повалился в своей каморке на грязный, замасляный тюфяк. Еще князь старый сделал ему этот тюфяк. И сладко уснул Дормидоныч. Но не спит злой огонь.
Разгорается он шире и шире; сильнее затрещали, задымились старые обои; трещит и горит старая мебель. С ужасом смотрят старые стены на дело разрушения.
Бесстрастно смотрят старые ели из сада. Угрюмо качают седыми вершинами и тихо бормочут.
«Бренное проходит! Вечное остается!».
Горят, тлеют старые картины. Трескается мрамор, калится бронза. Смрад и дым идут по всему старому дому. Гул и треск катится в старых залах. Работает, гуляет, радуется злой огонь. Вырвался он на свободу разрушения…
Сладко спят все в старом доме.
XVII
Чуть-чуть брезжит утренний свет. Очнулись, проснулись слуги старого дома. Проснулся и Гриша…
Вопли и крики наполнили старый дом. Вопли и крики понеслись с полей и весей.
– Княжой дом горит! Старый дом горит!.. – гудит в ночном воздухе.
Бегут, спешат со всех сторон… Едва, кое-как оделся Гриша.
– Где барышня? Кричит он… Не спит ли она?!
И все, вместе с ним, бросаются в спальню княжны.
Но спальня заперта. Стучатся, торкаются в двери… Кричат, зовут…
Гробовое молчание ответ им…
А огонь уже разрушил парадные залы… Горит библиотека, пылают старые книги… Рушатся бюсты… Почернел, задымился старый философ, лопнули стекла его шкафчика… Горит старый рояль.
Дыму и смраду полон весь дом.
«Она задохнется в дыму!» думает Гриша.
– Скорей, – кричит он: – давай топоров, ломов, ломайте двери! И в нетерпении он напирает на двери, напирают вместе с ним и другие. Но крепки старые двери, не поддаются. А дым ест глаза. Клокочет огонь и подбирается к княжой спальне.
– Как бы с другого хода не занялось, – говорит кто-то. – Может быть, другой ход отперт?
Кинулись к другому ходу. Но заперт крепко и другой ход.
Принесли, наконец, топоры и ломы. Застучали они. Вот, вот сейчас подадутся высокие двери… А огонь уже тут. Уже струйки дыма вылезают из-под потолка.
Рухнула, наконец, высокая дубовая дверь. Опрометью вбежал запыхавшийся Гриша.
– Гризли! Где ты?!..
Её нет. Пуста, неизмята постель; пуста спальня.
Гризли исчезла.
При царе Горохе
(Сказка)
I
Кто не слыхал о царе Горохе, только не все знают какой он был славный: толстенький, да жирный, красенький, румяный, седенький, лысенький, с круглым брюшком, пухлыми щечками и маленьким носиком.
Все любили царя Гороха, и он всех любил, потому что в его царстве все любили друг друга, за невозможностью ненавидеть.
В его царстве не было злых, потому что не было добрых, и все были умны или по крайней мере благоразумны, за то не было благонамеренных.
В его царстве не было бедных, потому, что не было богатых и каждый имел сколько чего хотел, потому что всего было в волю.
В его царстве не было цепных собак, потому что не было воров, а не было воров потому что ни у кого не было моего, а у всех было чужое, т. е. наше.
Иногда какие-нибудь лакомки без церемонии забирались к царю в кладовые, – благо они были не заперты, – и наедались там всякого добра. А когда царю Гороху доносили о том, то он только махал рукою и говорил:
– Ничего! Пускай их!
Все было хорошо в царстве доброго, славного царя Гороха и все обстояло благополучно. Не мог он только избавиться от одного: от прихлебателей и наушников и все не почему иному, как просто потому, что был он царь. Как он ни гонял от себя весь этот народ, как ни отмахивался, не мог отогнать. Лезли они к нему, как мухи или как трутни на мед.
– Ах, ваше величество, – говорил ему какой-нибудь прихлебатель, – какой у вас величественный вид, так и видно, что он скрывает величие души.
– Ничего! – говорил царь Горох, – пускай его!
И прихлебатель тотчас же бежал всем объявлять, что царь Горох его лучший друг и что он всегда говорит ему обо всем, что думает. И все тотчас же расспрашивали. – А что думает наш славный царь Горох?… Хотя все очень хорошо знали, что царь Горох никогда ни об чем не думал и не думает.
– Ваше величество! – говорил царю какой-нибудь наушник, – ваш обер-гоф-гартенмейстер говорит: коли-бы на горох не мороз, он-бы через тын перерос. Очевидно он этим посягает на права вашего величества!
– Ничего! – говорил царь Горох, – пускай его!
– Ваше величество, – говорил другой наушник, – ваш гоф-нах шнейдер-обер-мундшенк говорит, что всякая травяная тля лучше горохового киселя. Очевидно он намекал на священную особу вашего величества.
– Ничего! пускай его! – говорил царь Горох…
Было одно средство избавиться от этих надоедных мух– это обратиться к физикусам и химикусам. Они от всего могли избавить.
Это были очень странные люди. Они знали всякую мелочь и потому творили великие вещи. Собственно говоря, они занимались одним и тем же, но никак не хотели в этом сознаться. У обоих были весы, на которых они все могли взвесить, привести в меру и в известность, и, хотя у тех и других были совершенно одинаковые весы, но физикусы называли свои весы физическими, а химикусы – химическими, и каждый из них строго держался своих весов.
И вот эти господа все мерили и весили. Они весили землю и говорили, что на ней может родиться, весили воду и говорили, сколько, когда и где выпадет дождя и снегу, весили воздух и говорили, какие и откуда будут дуть ветры и бури и указывали, как надо чистить воздух, потому что и он ведь может засориться от долгого употребления. Наконец, они весили всякий огонь, всякий луч, который падает от солнца на землю, и говорили, что и как можно сделать из этого луча.
И вот за все за это народ их терпеть не мог. Они были единственные люди, которых никто не любил в целом царстве царя Гороха. Да и как же было любить их, сами посудите! Иной, например, захочет вдруг завести около города пруды с карасями, а они говорят: «не смей! воздух испортишь»! Другой засеет поле и рад, что можно теперь лечь сытым желудком кверху и погадать: усну, или не усну!? – как вдруг набат, вставай весь народ: химикусы и физикусы всех сзывают машины качать, воды набирать, потому что через три дня наступит засуха на три недели. Ну и идет народ, в затылке чешет, глаза протирает и всех физикусов, с просонков, ко всем чертям посылает.
Правда, бывали минуты, что народ им и спасибо говорил, но ведь спасибо только тогда и дорого, пока еще в кармане лежит, а как выпустил, так и забыл за что отдал; не дорогая, мол, вещь! Притом, что сначала было в диковинку, за то и кланялись, а как попривыкли, да обсмотрелись, так каждый говорил, что все это дрянь и он сам гораздо бы лучшее сделал. Ведь известно, что говорить всегда легче, чем делать.
II
И вот к этим-то физикусам и химикусам, наконец, обратился царь Горох с просьбой: нельзя ли как-нибудь избавить его от всяких наушников и прихлебателей?
– Можно, – сказали физикусы и химикусы, – только трудно. Для этого нужно уничтожить во всем народе самолюбие, чтобы никто не лез вперёд или наверх, ближе к вашему величеству. Если ваше Величество дозволите, то мы весь народ приведем в одну меру, обровняем. Теперь в нем нет ни злых, ни добрых, а мы сделаем так, что все будут равны один другому и каждый каждому, во всех простых и кратных отношениях. Все будут идеальны, нравственны, индифферентны и будут блаженствовать с позволения вашего величества.
– Ничего! пускай их! – сказал царь Горох.
И вот не успел процарствовать он и двух тысяч лет с двумя днями, как весь народ в его царстве изменился. Все стали похожи один на другого, как две капли воды, и все стали индифферентны. Кто-нибудь один, который поближе стоит к лесу, скажет:
– Ах, какой прекрасный лес! я пойду в него.
И все тотчас же закричат:
– Ах, какой прекрасный лес, я пойду в него!
И все действительно пойдут в лес, так что в городе никого не останется, кроме царя Гороха, физикусов и химикусов, что было не совсем удобно.
Таким образом полное согласие везде и во всем царило в народе царя Гороха. Наденет один белый галстук, и все наденут белые галстуки. Наденет один красный колпак, и все наденут красные колпаки, чихнёт один и все за ним чихнут и все скажут: будьте здоровы, а потом опять в один голос проговорят: покорно благодарю и все поклонятся всем и каждому.
И до того дошло это согласие и однообразие, что все перемешалось. Все дона, кушанья, даже кошки и собаки, – все стало одинаково, и никто не мог уж отличить себя от другого. Все стали гороховыми Иванами, старыми да малыми, а все жены и дочери гороховыми Марьями, да Машами. Пробовали было они №№ себе нашивать, но еще больше перепутались.
И вот таким образом жили они, жили и стали совсем, как стадо баранов, и одолела их скука неисходная. Все одно и тоже целый день, и каждый день. Куда ни пойди, везде встречаются или за тобой идут Иваны, да Иваны, Марьи, да Марьи. И напала на них зевота. Зевнёт один во весь рот и все за ним начнут потягиваться и вытягивать одну ноту а-а-а-о-о-у! или, о-о-о-у-у-а-а-а! Не стало ни песен, ни игр, ни плясок. Все ходят сонные, точно очумели, только и слышно, что жуют, или зевают, или храпят.
И начали они умирать со скуки, да так прилежно, что в полгода вымерло их полцарства. Опустели города и села. Царь Горох испугался, да и физикусы с химикусами призадумались. Прежде их было в одной столице 6,666, а теперь всего на все осталось шесть во всем царстве. Когда народ был умен, то каждый, кто особенно умен уродился, сам собой, по своей воле, шел в физикусы и химикусы, а тут, как стал весь народ глупее баранов, то и прекратились физикусы с химикусами в самом их источнике. Видят они, дело плохо.
– Нельзя, – говорят царю Гороху, – жить без самолюбия, пусть каждый стремится к лучшему из любви к себе. Хотя народ вашего величества и достиг апогеи блаженства, но без внутреннего импульса он не может удержаться на этой точке. Однообразие давит его, не дает простора его фантазии. Он идет назад, становится ниже животного и, наконец, умирает от безвыходного положения. Необходимо поднять строй его жизни, расширить рамку идеала, хотя бы недостижимого, и оттенить его отрицательными явлениями, а для этого необходимо разнообразие, а с ним неизбежно явятся самолюбие, зависть, разные мелкие и крупные пороки, а с ними, как непременное зло – наушники и прихлебатели!
– Ничего!.. Пускай их!.. – сказал царь Горох.
И вот шесть физикусов и химикусов взялись за дело. Они промеривали, провешивали, вычисляли, рассчитывали и применяли с такой добросовестностью, что не прошло и двухсот лет, как между народом появилось разнообразие. Иваны да Марьи стали разные, и, хотя хуже прежних, но именно самые дурные больше всех нравились всем, потому собственно, что были они всем в диковинку. Ожил народ, повеселел. Один выстроил дом в три этажа, другой – в десять, третий построил его в виде сахарной головы.
Всего скорее ожили барыни, потому что их-то более всего и давило однообразие. Посудите сами, ну как же возможно носить каждый день одно и то же платье, одного фасона! Тут поневоле умрешь с тоски. А как пошло разнообразие, то и появились сперва разные бантики, ленточки все шире и длиннее. А как стало самолюбие подгонять, и фантазия разыгрываться, то пошли такие фижмы, шлейфы, каблуки, шиньоны, роброны, камальи, сандальи, мантильи, бурнусы, визитки, патриотки, матроски, кринолины, турнюры, до каких еще не додумались и наши дамы, вероятно за недосугом.
Вместе с фантазией проснулся и ум. Даже физикусы и химикусы, несмотря на то, что считали себя абсолютно умными, и те решили, что у них прибавилось ума. Ну да и их самих тоже прибавилось порядочно. Не прошло и пятидесяти лет, как они догнали и перегнали то число, сколько их было прежде.
И все пошло развиваться, обособляться, все пошло отделяться одно от другого, как будто прежде не было для того никаких ни путей, ни дорог. Исчезли Иваны да Марьи, пошли Филомены, Каллиопигомены, Пиготеги, Мандрагорины, Филопрепсихоры, Белльлепрепсихоры и, наконец, надавали таких имен – из желания разнообразия, – что сами отцы и матери не могли их выговорить и только махали рукой и кричали: – Эй ты, Фроська или Проська, поди сюда!
III
И в конце концов вот что случилось.
Меж всеми и над всеми красавцами, которыми было полно царство царя Гороха, была одна царица всех цариц и звали ее Беллитой, и если бы она жила не при царе Горохе, а при каком-нибудь царе Лизакархе в Греции, то ее давно бы сделали богиней.
Даже сами физикусы и химикусы, несмотря на то, что отлично знали всю суть всякой красоты и говорили всем, что вычислили всякое влияние её на всякого, и те не могли устоять пред силой красоты Беллиты, так что каждый из них, встречая ее, невольно разводил руками и задавал себе вопрос: что у него где сидит: чувство в уме или ум в чувствии?
И вот в такую красоту вдруг разом влюбились двое, т. е. влюблены в нее были все: и мужчины, и женщины, но только двое красавцев молодых и сильных были настолько смелы, что признались сами себе в своей любви и не испугались ее.
Для одного, впрочем, такой подвиг, не был и труден. Он был уверен в себе, потому что опытом убедился, что ни одна женщина не в силах противиться его магическому взгляду. Смелый, ловкий, пылкий, самолюбивый – он любил и наслаждался с той силой, с которой огонек обхватывает молодое деревцо, обхватывает исподволь, незаметно, потому собственно, что он может жечь, а деревцо может гореть. Но как скоро появлялись первые следы пепла, то огонь быстро гас, оставляя голые обгорелые ветки.
Напрасно бедные матери, которым вообще нравится прочная, оседлая любовь, предостерегали своих дочерей от этой хищнической страсти. Предостережение не действовало по той простой и давно известной причине, что страсть сама по себе, а рассудок сам по себе и один другому не товарищ.
И вот ловец милых сердец или Никогин, как звали его, порхал и жуировал, благо при царе Горохе не было даже гражданского брака, и все кружились и порхали, как бабочки. Одни, покружившись, разлетались в разные стороны, и мать могла, если желала, сама кормить свое дитя, воспоминание счастливого кружения, или предоставляла эту скучную заботу другим, а сама опять начинала кружиться. Другие, покружившись, свивали прочное голубиное гнездышко и были счастливы и довольны. Одним словом, никто и ничем не стеснял себя и каждый предавался влечениям собственного сердца ad libitum.
Соперник Никогина был совсем иная статья. Звали его Сильваном. Он избегал женщин, зато они бегали за ним. Был он молод, красив и крепок, как молодой дуб, и вырос он одиноким дикарем, прямо под крылом той мачехи человечества, которую зовут природой.
Он вырос в вековом дремучем лесу и этот лес заменил ему отца, мать и ту хитрую науку, которую, многие называют педагогией – науку, которая учит воспитывать, но не умеет воспитывать.
Вдали от людской жизни Сильван поневоле вошел в круг той жизни, которая окружила его, и привык смотреть на все своими собственными взглядами.
Ему казалось, что каждое дерево, каждая трава и былинка живет и чувствует по-своему. Казалось ему, что старый, вековой дуб постоянно думал глубокую думу, которую не могли разгадать никакие физикусы и химикусы. Видел он, как этот дуб широко раскидывал свои ветвистые руки и так бережно прикрывал ими молодые побеги и всходы зеленых трав. Видел он, как дружно переплетались, между собою зеленые вязы, как будто лаская друг друга. Видел он, как стыдливо опускала к земле свои темные кудри чистая, белая береза, как широко раскидывал во все стороны свои лапчатые листья пышный щеголь клен и как прямо поднимались к небу траурными, стройными пирамидами темные ели. В жаркие летние дни, когда лес, со всеми своими пахучими травами, стоял весь проникнутый и сквозным сиянием жаркого солнца, и сырой прохладой собственной тени, когда в нем царила невозмутимая тишь, Сильвану казалось, что, среди этой прохлады и тенистой дремоты, все кусты и травы к чему-то прислушивались, что-то тихо, неуловимо, шептали друг другу и творили какое-то таинственное непонятное дело, роясь в сырой земле ползучими корнями. Зорко смотрел он на каждую траву, смотрел на голубые колокольчики, которые сами так зорко смотрели куда-то в глубь травы, смотрел на дикий анис, раскинувший широко свои белые зонтики – шапки, на белые ландыши, которые стыдливо прятались под своими лаковыми листами и думал: вот, вот кто-нибудь из них поворотит свою головку, кивнет, поклонится стебельком, махнет листиком, шепнет тихо свое тайное слово. Но все травки стояли неподвижно и, без слов, без шума, творили свое тайное дело.
Поздно осенью, когда мертвые листья падали с деревьев, когда всякая былинка увядала и сохла, а холодный дождь прибивал к земле все, что прежде было полно жизни, все почерневшие трупы прежде гордых трав и цветов, Сильван становился еще суровее и мрачнее. Он сам как будто увидал на этом общем пиру смерти, как будто становился мертвым, засохшим листом.
Когда же первые проблески весеннего солнца пробуждали природу от долгого сна. Сильван сам оживал с ней. Когда после теплых дождей каждое луговое и лесное зерно, разбухнув и лопнув, жадно зарывалось белым ростком в рыхлую землю и распускало над ней ярко-зелёные бархатные первые листья, когда весь лес одевался зелеными смолистыми благоухающими листками и запевал тысячами птичьих ликующих голосов, тогда вдруг в самом сердце Сильвана, во всем его существе раздавалась точно такая же звонкая песня и, не имея сил сдержать своего несдержимого порыва, он в ясный весенний вечер запевал могучую песню. И когда раздавалась эта песня, то все бросали все и бежали слушать Сильвана. Все кричали: «Идите бегите, запел наш весенний лесной соловей!»
И Сильван пел как будто не свою песню, а песню всей весенней, ликующей природы. Его слушали маленькие дети, тихо, как будто понимали всю силу этой простой и свободной песни. Его слушали молодые девушки и грудь их высоко поднималась под наплывом трепетного томления, от которого восторженные слезы выступали на их блестящих глазах. Его слушали старые старики, опершись дрожащими руками на длинные посохи и опустив с глубоким благоговением седые головы, как будто сама природа, из груди Сильвана, посылала им свой привет и манила их старческие кости в необъятное лоно, на тихий покой своих мирных, бесстрастных сил…
IV
И вдруг Сильвана запел среди лета!
Все вздрогнули и удивились этой песне. Все также как весной бросились слушать ее, но эта песня не была весенняя песня.
Ни дети, ни старики не поняли ее. Только молодые девушки понимали и, слушая, думали:
– Бедный Сильван! Он должно быть очень несчастлив!
Да он был очень несчастлив и главное потому, что сам не понимал и не мог объяснить, что с ним творилось.
Он чувствовал, что он стал не тот. Именно с того самого времени, когда он увидал Беллиту, а случилось это на большом празднике, который весь народ давал во славу славного царя Гороха…
С тех пор во сне и наяву мерещилась ему Беллита… Задумает он о белой лани, за которой давно он гонялся по горам и лесам, а вместо лани чувствует, что в сердце ему смотрит Беллита и смотрит такими же кроткими, задумчивыми глазами, как у белой лани.
Лес – родимый лес, – стал ему противен. Буки и дубы потускнели и глядели на него с укором. Белый ландыш опускал стыдливо свои чашечки, точно Беллита её красивую головку…
Наконец он понял, догадался, чего ему недоставало и в одно ясное утро, с радостной надеждой, схватил корзинку и бросился торопливо собирать в нее цветы. Он рвал те, которые он больше всего любил: малиновые розы и белые ландыши. Потом он уложил, как мог, эти красивые цветы в корзину и сверх их посадил белого голубя, – своего любимого голубя… Затем завязал все свои роскошные черные кудри голубой лентой, надел белую одежду и тихо отправился в город.
В царстве доброго царя Гороха во все времена был обычай. Каждый, кто хотел свить прочное гнездышко с своей голубкой, приносил ей белого голубя и, если голубка, которой он подносил этого голубя, желала разделить с ним жизнь и судьбу, она принимала подарок. Всем известно, что на свете нет ничего прочнее и древнее обычая… Он, один не родня прогрессу.
Сильван не знал, где он найдет Беллиту. Но сама судьба привела его к месту свиданья.
Он нашел ее за городом, у колодца, в тени небольшой буковой рощицы.
Он подошел к ней.
– Беллита! – сказал он тихо.
Она вздрогнула, подняла голову и взглянула на него своими кроткими глазами.
– Беллита! – сказал Сильван и робко взял ее за руку. Он долго гладил эту белую, маленькую руку своей грубой, загорелой рукой и наконец робко заговорил:
– Здесь хорошо, Беллита, в этой тихой роще… Но там, там, в большем лесу, там еще лучше… Там в тихое утро, на рассвете, высокие седые дубы стоят и ждут красного солнца. И когда выглянет красное солнце, то все встрепенется, все деревья улыбнутся!.. Там хорошо, в этом вековом лесу, там родное, вечное. И я все думаю… если бы ты, Беллита, вошла бы в этот лес… Как бы обрадовались тебе все цветы, травки и былинки! Ведь, они живые, Беллита… Они мне все говорят… все что думают… Я вот часто мечтаю, Беллита… об этой жизни вдвоем с тобой, в этом лесу… тихой, сердечной жизни… Беллита!.. Я приношу тебе моего голубя… Я сам вскормил его. Посмотри, какой он милый, добрый и ласковый!..
Она вся покраснела. Она тихо взяла голубя, нежно поцеловала его и взбросила кверху. Голубь взвился выше и выше и пропал в синеве неба. Вероятно, он полетел домой.
Сильван побледнел.
– Сильван! – вскричала Беллита, всплеснув руками: —я не могу быть твоей… Я… я принадлежу другому… Я не могу быть твоей, мой добрый Сильван.
И сказав это, она опустила голову, отвернулась и пошла в глубь буковой рощи, а Сильван долго еще стоял на одном месте и шатался. Потом, также опустив голову, он тихо пошел к себе, к своим дубам и букам, и если бы он жил не при царе Горохе, а в наше просвещенное время, то, наверное, бы он хватил себя тем охотничьим ножом, который висел у него на поясе. Пустая корзинка, которую он нес, стесняла его. Он машинально тискал ее, мял руками, рвал и разбрасывал… На что она теперь ему?! А еще сегодня утром он снаряжал ее с такой радостной надеждой. – Теперь все погибло. И опустившись на землю, у корней раскидистого вяза – он заплакал, заревел, как истый дикарь.
Но кому же принадлежала Беллита?
В то время, как уходил Сильван, из-за рощи, вдали вдруг раздались звуки веселой песни, и Беллита вся просияла, заслышав эти звуки. Довольная, она подняла головку и весело пошла им навстречу.
Из-за дальних деревьев самоуверенным, ровным шагом шел Никогин и пел свою страстную песню…
V
Раз, поздно вечером, когда Никогин и Беллита тихо шли обнявшись, вдруг из-за деревьев прямо на тропинке встал перед ними Сильван. Никогин поднял голову и гордо окинул его взглядом. Беллита смотрела на него испуганными глазами.
– Слушай – сказал Сильван, повелительно протянув руку к Никотину, – если когда-нибудь заплачет от тебя Беллита, если ты заставишь её сердце сохнуть от горя, то я уничтожу твое собственное сердце. Слышишь?
И сказав, это он повернулся и скрылся, прежде чем Никотин успел сказать хоть одно слово.
– Лесной дурак! – закричал он вслед ему.
Но тем не менее этот дурак погрозил ему смертью, прямо в глаза, перед лицом любимой и любившей его женщины, и он не нашел ничего сказать ему, он, Никогин, который считал себя умнее и сильнее всех на свете. Да! это очень обидно!
И вот, вдруг, на его розе выросли шипы. Он должен ее любить. Он не может ее не любить, потому что этого хочет «лесной дурак», который если и не убьет его (это еще бабушка надвое сказала), то постоянно будет торчать перед ним в виде memento mori…
«Да и чем же Беллита лучше других женщин, – думал Никогин. – Все они ищут наслаждения, обещают что-то новое, неизведанное и в результате дают одно и то же… А Беллита? Это просто медовая лепешка, сладкая до приторности. Она готова, как глупая собака, лизать твои руки и боготворить тебя… из-за чего?! Нет! Из всех женщин я не знавал лучше Нигриты. Это действительно глубокое сердце, в котором и ночь, и солнце, и море страсти, и бездна желчи. Она отдается не даром. С ней не знаешь: кто сильнее, ты или она? Постоянно пылкая, загадочная, она готова и боготворить, и убить тебя. Это действительно сила ума, чувства и страсти».
И в первый раз Никогин не ответил Беллите на её нежные ласки, в первый раз она почувствовала в сердце тот ужас и холод, который сжимает его при потере того, чем жило оно так полно и беззаветно.
И дни шли за днями. И то, что должно было неизбежно свершиться, свершилось. Беллита бродила уже одна по тем рощам, в которых так страстно и сильно поглотила ее полная чаша любви. Теперь от этой чаши и следов не осталось. Бледная, полупомешанная, бродила она и все искала, придумывала – куда унесся её золотой сон и не могла придумать.
А Никогин порхал и кружился по-прежнему. И кругом его, вместе с ним, порхали и кружились все те, у которых сердце постоянно кружится, ищет новых ощущений, новых ласк.
Раз вечером он сидел на широкой луговине, между скучающими или наслаждающимся парами, сидел подле Нигриты. Она заставила его пересчитать лепестки у двадцати махровых роз, которые цвели на поляне.
– Тот, кто считает, – сказала она, – никогда не просчитывается. Это правило всех физикусов и химикусов. С каждым сосчитанным лепестком любовь твоя ко мне будет усиливаться, потому что препятствие раздражает, и чем более накопится раздражения, тем оно сильнее действует. Это то же говорят физикусы и химикусы.
– Да! – соглашался Никогин: – но ты забыла, что у этого накопления есть свой предел, далее которого оно не действует.
– Ну! дойди до этого предела, а я посмотрю, как далеко он лежит.
Общипав пять розанов, Никогин уверял, что он дошел до предела; Нигрита спорила, что нет, что недостает еще нескольких лепестков. Никогин настаивал на своем. Он ловил её руки, просил и молил, и вдруг замолк, и побледнел.
Прямо перед ним стоял Сильван, также бледный, с искаженными чертами.
Увы! это была одна тень прежнего Сильвана. Желтый, худой, с глубоко-ввалившимися глазами, с спутанными, всклоченными волосами, он походил на безумного.
– Никогин! – сказал он дрожащим, задавленным голосом. – Ты хуже черной змеи, потому что она, чтобы утолить свой голод, убивает и съедает свою жертву, а ты для наслаждения убил сердце той, для которой ты был дороже всего на свете. Если убивают змею, то тем более следует убить тебя – и я действительно это сделаю.
И прежде чем Никогин успел сделать хоть какое-нибудь движение, Сильван быстро и ловко ударил его прямо в сердце большим охотничьим ножом, который висел у него на поясе. Никогин упал, обливаясь кровью.
Все присутствовавшие онемели от ужаса или упали без чувств, и только немногие с криком бросились бежать в город…
VI
Скоро собрался народ и окружил Сильвана, который, скрестив руки, угрюмо стоял перед трупом Никогина.
Долго молчал народ. Наконец, старые старики начали шептаться и говорить:
– Надо схватить его, связать. Он преступник. Он совершил уголовное преступление!
И многие из тех, которые были смелее других, подошли к Сильвану сзади и схватили его. Он вздрогнул и дико посмотрел на всех. Он не понимал ни того, что с ним делалось, ни того, что с ним делали.
Его связали, повели и посадили, за неимением тюрьмы, в темный подвал, потому что в царстве доброго царя Гороха давно уже были уничтожены все тюрьмы за ненадобностью.
– Надо судить его, как прежде судили, – говорили старики.
А как прежде судили – об этом никто не помнил, и только самые старые старики слыхали от своих отцов, как творили суд при их прапрадедах.
– Соберутся, – говорили они, – трое судей. Один главный судья-председатель, другой судья-обвинитель, который и говорит, как все было дело, как и кто что видел, а третий судья-защитник говорит, что может быть все это и так было, а могло быть и иначе. И когда они все рассудят, как следует, тогда спрашивают присяжных: виноват ли кого судят или не виноват? А присяжные были люди, которых выбирал сам народ, числом двенадцать, ни больше, ни меньше, и должны были они говорить всю правду по всей совести, и должны были говорить эту правду потому собственно, что у самих судей, при их суде, предполагалось немного правды… Впрочем и присяжным нельзя было доверяться… так себе, просто… И они должны были прежде чем судить, произнести страшную клятву, поклясться всем, что для них было самое дорогое, поклясться в том, что они действительно произнесут «правду». Разумеется, и при таком застраховании от всякой лжи, верил им только тот, кто желал верить; а иной судья смотрел на какого-нибудь присяжного и думал:
– Знаю я тебя Лиса вертихвостая. Ты тридцать раз поклянешься и все-таки солжешь. Знаю я тебя, вьюн слизлявый!
И вот донесли царю Гороху, что так и так, ваше величество, вот что случилось: один убил другого.
– Ничего! Пускай их! – сказал царь Горох.
Но ему опять доложили, что так и так, можно и спустить, но, во всяком случае, это преступление, которое должно судить, потому что и в старину все преступления судились; что для этого соберется суд и присяжные. Без этого нельзя.
– Ничего! Пускай их! – разрешил царь Горох.
И вот после разных толков, споров и вздоров, наконец, нарядили суд и присяжных выбрали. Все собрались как следует, засели также как следует и даже сам царь Горох заседал тут же, на особом стуле, который был поставлен на высоких столбах, под красным балдахином. Одним словом, все было очень торжественно и весьма прилично и на это торжество собрался весь народ царя Гороха, чуть не со всего царства.
Привели Сильвана, прочли все донесения и свидетельства, все как было, чинно и не торопясь.
Затем встал судья-обвинитель и начал говорить, что Сильван злодей и убийца, что в старину за убийство казнили смертью и что Сильван должен быть казнен смертью.
Затем встал судья-защитник и говорил: что Сильван вовсе невиновен; может быть, Никотин сам себя убил, выхватив нож у Сильвана, а для такого убийства были и резонные причины.








