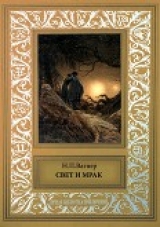
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Николай Вагнер
СВЕТ И МРАК
Сборник фантастических повестей и рассказов


Впотьмах
(Сказка)
I
В город Айршингтон приехал мистер Артингсон и город взволновался. Все передавали друг другу: «Вы слышали, слышали! Приехал Артингсон – он здесь!»
Местная газета крупным шрифтом тотчас же напечатала:
ОН ЗДЕСЬ.
«Сегодняшнего числа совершилось замечательное событие в нашей городской хронике. Мистер Артур Джон Артингсон, этот гениальный художник-писатель, поэт, музыкант, осчастливил наш город своим посещением».
Затем следовала краткая и неверная биография мистера Артингсона, в которой все было если не искажено, то преувеличено. Статья заканчивалась следующими словами: «он сказал:
Пусть гений человека
Для мира будет идеалом.
Мы можем сказать, что этот гений воплотился в Артура Артингсона!»
Статья принесла редакции чистого дохода 3,000 долларов, а автор её, он же и редактор, он же и председатель клуба «Движенья», – толстенький, веселый и юркий мистер Тоуне, только что дождавшись выхода первых листков №, был уже с ними в клубе «Движенья», который как раз находился против клуба «Твердости», – клуба, возникшего в силу соперничества с клубом «Движенья».
– «Почтенные собратья!» – ораторствовал мистер Тоуне в клубе «Движенья», – город должен что-нибудь предпринять, что-нибудь сделать для нашего почтенного гостя, для нашего великого, гениального мистера Артингсона. Я предполагаю, что сегодня же следует устроить в честь его митинг, и я не отказываюсь, если позволите, произнести речь на тему: только гениальные люди – суть истинные вожди всякого движенья!»
– «Да! да! Мы согласны, – браво, браво!» – раздавались клики одобрения со стороны членов клуба…
– «Это тем более необходимо, – продолжал мистер Тоуне, – что клуб «Твердости» собирается также дать митинг в честь Артингсона; надо предупредить их!..
– «Предупредить, предупредить! – заговорило собранье со всем жаром благородной конкуренции… – Мы сейчас же отправим к Артингсону депутатов; мы будем иметь честь просить его сделать нам честь и явиться сегодня же в семь часов на митинг!»
И работа закипела. Тотчас же были выбраны депутаты, тотчас же они отправились к Артингсону, тотчас же было составлено объявление, которое немедленно передано в типографию, и она набрала чуть не аршинными буквами и сейчас же оттиснула 50,000 экземпляров этого объявления о чудовищном митинге, который устраивает клуб «Движенья» в честь мистера Артингсона.
А, между тем, сам мистер Артингсон вовсе не подозревал и не думал об этой возне, о всех хлопотах, которые он причинил, или, вернее говоря, о тех долларах, которые он доставит своей особой и клубу «Движенья», и лично его председателю мистеру Тоунсу. Он проснулся поздно, потому что с вечера много работал и лёг утомленный. Он и встал тоже слегка утомленный. Сон скупо подкрепил его.
Не смотря на сорок два года, его можно было считать почти красавцем. Серебристая седина, довольно сильно заметная, придавала какой-то особенный блеск и живость его светло-русым, длинным кудрям. Он не носил ни усов, ни бороды, ни бакенбард, он говорил, что все это мешает ему, связывает его лицо, заслоняет его черты. Он хотел быть откровенным, вполне откровенным со всеми, со всяким «меньшим братом своим», – этот странный мистер Артингсон. Говорили, что лицо его напоминало портрет Шиллера, но это лицо было красивее. В нем не было германского склада, а был, если можно так выразиться, всемирный, всенациональный тип. В нем правильность всех линий, правильность античная, соединялась с красотой тех отношений, которые мы видим во всех умных лицах. И в особенности были хороши глаза его, задумчивые и ясные, немного грустные, открытые, блестящие, какого-то неопределённого серо-голубого цвета, с темными лучистыми струйками вокруг зрачков. И в особенности хорошо было это лицо, когда Артингсон задумывался, когда вместе с этой думой наплывало, поднималось в груди его сильное чувство и он вдруг с глубоким вздохом взмахивал головой, откидывал ее и вместе с этим отбрасывал назад все его длинные, светло-русые, серебристые кудри, высоко поднимавшиеся над его высоким лбом. Он обрезал бы и эти кудри – они также мешали ему– но их так любила его уже не молодая жена, добрая Джелла. Любили их и дети его, в особенности младшая дочь, четырехлетняя Эмма, которая с такою любовью гладила, перебирала и целовала эти мягкие, шелковистые кудри.
– Папа! – говорила она, – я люблю тебя, но я также люблю твои волосы – они такие милые, мягкие и добрые…
Депутация от клуба «Движенье» явилась к мистеру Артингсону в то самое время, когда он только что надел свое широкое серое пальто, которое так свободно и стройно обрисовывало его высокую фигуру. Мистер Артингсон был слегка озадачен, удивлен и даже неприятно поражен просьбой депутации. Он хотел сохранить инкогнито и вдруг устраивается целая овация, которую он не любил по принципу.
– Вы нас обидите, вы жестоко обидите нас сэр, – ораторствовал толстенький мистер Тоуне, с пафосом потрясая в воздухе его маленькой жирной ручкой… – Мы… то есть, весь город, все общество, хочет выразить вам глубокое, бесконечное уважение; вы так много сделали вашими чудными творениями для целого округа, для целой страны… Позвольте же, о! позвольте поблагодарить вас, ибо «благодарность есть наслажденье человеческого духа», как вы сами сказали в одном из ваших бессмертных творений!..
– Да, ДА! сэр!.. подтвердили другие депутаты, – наши чувства… дайте нам выразить наши чувства… дайте им свободу!..
И мистер Артингсон согласился дать свободу чувствам других и жал руки со всей энергией, и чуть не обнимал депутатов, и только в тайне шептал: о велика та страна, где сознаются и ценятся все широкия движения, все, что может сделать слабый смертный для прогресса!.. И как только ушла депутация, рассчитывая все-таки, чтобы клуб был поддержан с честью и с самой большой денежной выгодой, только что сам мистер Артингсон собрался уходить по делу, по тому делу о маленьком его имении, которое привело его в Айршингтон, как слуга отеля подал ему карточку с надписью: мисс Анна Драйлинг.
Едва успел он прочесть это имя, как с радостью бросился на встречу мисс Драйлинг, в светлый широкий коридор, устланный бархатными коврами, а мисс Драйлинг, вся запыхавшись, всходила на широкую лестницу третьего этажа.
– Вы ли это!!.. Мисс Драйлинг… Вы приехали ко мне прежде, чем я явился к вам…
– Я, я, я сэр… я, Артур, – я приехала к вам и увидала вас после… кажется пятнадцати лет разлуки… И почтенная мисс Драйлинг совсем задыхалась, может быть от волнения, может быть оттого, что лестница была высока, не по годам мисс Драйлинг – ведь она была целыми шестью годами старше мистера Артингсона.
Это был его старый, старый друг, на котором он чуть, чуть не женился, но от этой женитьбы может быть спасла его и во всяком случае отвела сама мисс Драйлинг.
– Я старше вас, сказала она Артуру Артингсону, – старше чуть не шестью годами, а женщины скорее стареются, в них раньше пропадает то, что притягивает вас к нам– красота… а ум, чувства – разве для них вы хотите жениться на мне сэр Артингсон… Но ведь все это ваше, оно останется вашим до гроба, в виде неизменной дружбы, а может быть пойдет и дальше в ту таинственную страну, которой мы не знаем… Чего же вы хотите от меня, мистер Артур… Моей красоты… обладания мною…
Да! она так-таки и сказала, эта прямая мисс Драйлинг: обладания мною!.. И мистер Артур, после этого формального отказа, долго хандрил, мечтал и думал, и, наконец, додумался до того, что мисс Драйлинг права.
И он женился на другой, рассудительной, любящей и доброй мисс.
– Я счастлив, счастлив… – шептал он, целуя маленькия, похуделые, зачерствелые ручки мисс Драйлинг… И слезы выступали на глазах, и он смотрел и дивился, как могла так измениться мисс Драйлинг в эти пятнадцать лет. В последний раз он оставил ее еще бодрой, а теперь перед ним старуха, старуха, которой было сорок восемь лет. Правда, её высокий, стройный стан не согнулся. Глаза блестели тем же светлым блеском светлой молодости: но множество мелких морщинок собралось вокруг этих глаз и немного сузило их разрезы. Множество глубоких складок набежало на впалые щеки, эти пышные «розы Ливана», как называл их когда-то мистер Артингсон. Чудные, черные, волосы и теперь еще тяжелой косой обвивали высокий лоб мисс Драйлинг, но теперь (увы!) они сильно подернулись пеплом седого времени… Одним словом, мисс Драйлинг, была совсем не прежняя мисс Драйлинг. За то костюм её был тот же, как во дни былые, всегдашний неизменный черный костюм, драповое платье, застегнутое на шее черным аграфом в виде креста. С этим платьем мисс Драйлинг никогда не расставалась; в нем выражалось, по её словам, «презрение к бренным иллюзиям мира сего». Должно сказать, что её убеждения были немного аскетичны.
– Ну что, – спрашивала она, когда Артингсон вводил ее в свой номер – я стара, я старуха, я была права… помните… – И Артингсон еще раз поцеловал её меленькие костлявые и немного дрожавшие ручки, с длинными, на концах как бы расплывшимися, пальцами.
Они говорили долго, горячо, как-будто все практические вопросы были им чужды, как-будто они родились оба не в Америке, а в какой-то идеальной нации.
– А я вас похищаю, – сказала, наконец, мисс Драйлинг, с её обычной улыбкой, – похищаю на целый вечер.
– Увы, сказал Артингсон, я сегодня на митинге, только-что перед вашим приездом я дал слово депутатам клуба «Движенье»…
– Это ничего, – говорит решительно мисс Драйлинг, – вы приедете к нам в 10, в 12, в 2 часа ночи, мы будем ждать вас всю ночь… Это будет исключительное необыкновенное событие… У меня будут два, три моих и ваших близких знакомых, и вы увидите мою племянницу… Говорят она похожа на меня, как две капли воды, когда я была молода… И говоря эти последние слова, мисс Драйлинг вдруг сконфузилась, замигала, покраснела и даже слезки выступили на её больших, светлых глазах, окаймленных лучистыми морщинками.
– Я буду! о я непременно буду, моя дорогая мисс Драйлинг. – сказал Артингсон, пожимая её руку…
И когда она уехала, то мистер Артингсон глубоко задумался. Его дело, его практическое дело с одной стороны, его полновесные доллары, а с другой… с другой, как странно играет судьба человеком! Разве можно сравнивать его Джеллу теперь с мисс Драйлинг, с умной мисс Драйлинг, но всё-таки старой старухой. А может быть она постарела до времени собственно потому, что принесла всю себя в жертву его счастью. Она любила его, да; в этим он был глубоко убежден и вот следы этой любви, подавленной, изуродованной; она сказалась в этих морщинах, в этих поседелых волосах. Без этой сильной страсти может быть она бы еще сохранилась, сохранилась даже в сорок восемь лет, а теперь!.. И Артингсон глубоко вздохнул, широким взмахом откинул все свои кудри назад и, взглянув на часы, отправился устраивать свои практические дела.
В семь часов, с аккуратностью истого американца, он явился на митинг. Там уже все кипело жизнью. Пятнадцать тысяч человек громкими рукоплесканиями приветствовали его приезд; повсюду в воздухе, на высоких шестах, струились разноцветные флаги; играла музыка, играло солнце на всей толпе, стоявшей на лужайке и махавшей шляпами, платками, и кричавшей изо всей силы, и заглушавшей и криками, и рукоплесканиями громкую музыку. Овация, одним словом, была полная, митинг вышел как нельзя более удачным, к полному торжеству и удовлетворению и мистера Артингсона, и членов клуба «Движенья». Мистер Тоуне в его речи сделал очень крупный намек на недавнее местное событие. С неделю тому назад, «правоверные» похитили из Айршинтона и его окрестностей целый десяток девиц и увели в их «нечестивый Новый Иерусалим», в это «гнездо Ваала», в эту «клокочущую геенну содомского отвержения», как ораторствовал мистер Тоуне, – «но ты! – продолжал он, обращаясь уже специально к Артингсону, – ты, освещающий все светом твоего гения, брось свои громы и в это гнездо растления, порази козлищ, чтобы они не заражали наше доброе стадо, наших агнцев невинных, чтобы их ангелы смотрели безтрепетно на небесах, на лик Отца их небесного!..»
И этот мистический, библейский возглас произвел самое сильное действие на слушателей, не потому, чтобы тонкий голосок мистера Тоунса мог производить какое-нибудь сильное действие. Нет, слушатели были тронуты просто потому, что в их сердцах еще царствовала паника от недавнего похищения. Отцы и матери боялись за своих дочерей, братья за сестер, женихи и поклонники за своих невест и дульциней. И вот почему почтенный, коротенький мистер Тоуне ловко взволновал все стадо, и оно откликнулось восторженным браво на его библейский текст…
Настала очередь отвечать мистеру Артингсону, и он также встал на стол во всю вышину своего высокого роста; глаза его вдохновенно горели, на них стояли слезы, все лицо его, симпатичное и красивое, стало еще красивее. Он постоял несколько мгновений и, тяжело дыша и оглядывая восторженным взглядом все собрание, все море голов, все лица, глаза, устремленные на него с жадным вниманием и, взмахнув руками, – начал громким, мягким, приветливым голосом, в котором, как будто из глубины всех чувств дрожали самые искренние, еще нетронутые струны.
«Други и братья круга земного!..
О! передаст-ли бессильное слово
То, что трепещет в сердце раскрытом,
Что манит великим, могучим магнитом
В высь, в ширину, в те заветные сферы,
Куда все стремится с любовью и верой…
Там, там источник, там съединенье
Всех начинаний, всех наших стремлений!..
Пусть темные силы, безумные страсти
Играют над духом – не в их слабой власти
Задуть яркий светоч сердец возрожденья…
Настанет «день оный», исчезнут сомненья,
И люди прозреют, друг друга узнают,
Падут на колена, поймут, зарыдают;
Поймут, где спасенье и правда, и сила,
Поймут, что по-братски весь мир съединило,
И скажут: мы знаем Тебя, Властелина!
О! будь же нам Пастырь – мы стадо едино!..»
И когда замер последний, дрожавший звук последнего слова Артингсона – собрание все окаменело, окаменело на одно мгновение и вдруг разразилось неистовой бурей. Все кричало, хлопало, летели вверх платки, шляпы, трости зонтики, многие обнимались по-братски, многие плакали. Это было действительно «едино стадо». Какая-то пожилая почтенная и вся растрепанная мистрис протиснулась к самому Артингсону; она вскочила на стул и подняла к нему милого курчавого мальчика с грезовской головкой. Мальчик плакал и протягивал к Артингсону ручки. Артингсон взял его на руки, крепко прижал к сердцу, целовал, и мальчик целовал его, и слезы их смешались и катились по белому жилету Артингсона. И когда собрание увидало эту патетическую сцену – новый взрыв рукоплескании, новый гром, как прилив волны в бурю, поднялся неистовый могучий, несокрушимый… Все было наэлектризовано, все опасения, вся паника, навеянная мистером Тоунсом, исчезли; и если бы теперь, среди этого собранья, явились правоверные мормоны, может быть, оно отнеслось бы к ним если не по-братски, то с снисхождением….
Наконец утих, замолк этот взрыв, многим стало совестно, точно после опьянения. Многие начали обсуждать, что такое сказано, где тут смысл, где дипломатический смысл – многие начали даже не одобрять речь-стихи вдохновенного поэта. А мистер Тоуне вертелся около него. Он говорил, что вдохновенная бессмертная мысль мистера Артингсона уже записана стенографами, и что он вероятно не откажет в позволении напечатать этот великий экспромт, как плод местного вдохновения, в местной газете. И Артингсон, еще подавленный собственным волнением и еще не понимая, что и кто ему говорит, жал маленькую ручку мистера Тоунса и говорил: «конечно, конечно!».
Впрочем, это волнение, или, правильнее говоря, настроение, совершенно овладело им и не покидало его целый вечер, вплоть до поздней ночи.
Когда он в одиннадцать часов оставил митинг и, сев в коляску, отправился к мисс Драйлинг, то глаза его также блестели. Слезы, все разрешающие слезы, не унесли его волнения; он как-то смутно чувствовал, что праздник, настоящий праздник будет впереди, что там что-то ждет его радостное, неуловимое, неопределенное. Он как будто смутно сознавал те волнения, которые нахлынут на него, когда он переступит порог этого коттеджа, так ему знакомого, и в который он так часто входил с таким глубоким чувством любви, восторга, упования, в том поэтическом полусне, который может спускаться на светлых крыльях только на поющее сердце беззаботной, светлой молодости.
И он наконец переступил этот порог; он увидел и эту лестницу, уставленную старыми кипарисами, и эту статую амура над фонтаном, перед которой он произнес когда-то сонет-экспромт слушавшей его в смущении мисс Драйлинг. Только кипарисы теперь сильно выросли и местами пожелтели, а на амуре выступили какие-то черные пятна, вероятно от плесени, разъедающей даже мрамор.
И жутко, и странно было Артингсону в этой среде, в этих комнатах; в этом салоне. Как будто он проснулся от долгого сна и снова перед ним та же, когда-то милая, уютная обстановка, но уже он не тот. Что-то широким колесом прокатилось по его жизни, немного помяло ее, сделало полнее, сложнее, пожалуй, даже лучше. Но где же вы, светлые беззаботные порывы, эти радужные, звучные иллюзии, или вы еще ждете там, в неизведанном будущем!..
Да! он не тот! Да и она не та. Эта прежде столь милая мисс Драйлинг, которая теперь хлопотала около него с таким добродушием. И с каким удивлением встретил он в салоне её всех своих старых знакомых; и все эти гости были проникнуты таким же добродушием, как и сама хозяйка; они так рады были снова увидеться с мистером Артингсоном, они так любовно, чуть не со слезами, смотрели в его открытые глаза, и так крепко, чуть не до слез, жали руку этому чудному Артингсону. И мистер Пепчинс, сухощавый маленький старичок, философ, с большим сморщенным лбом, живыми, бодрыми глазками, и такой приветливой приятной улыбкой, и мистер Грин, восторженный и честный, высокий, тонкий, неуклюжий, с большими черными глазами на выкате, с большим острым носом, с толстыми губами, с длинными вьющимися черными волосами и с тонкой длинной шеей, которая казалась еще длиннее от отложных громадных воротничков. И мистер Литль – степенный, важный и необыкновенно ученый; мистер Литль – толстый, неуклюжий, большой, не смотря на его кличку, с румяными щеками, с седыми волосами, с густыми черными бровями и, наконец, с черным густым клоком волос под подбородком. Наконец, и мисс Трайль и мисс Вуд, обе были здесь. Обе маленькие, обе юркие, восторженные, обе страстно любившие все, весь Божий мир, обе старые мисс, – одна бледная с прищуренными голубоватыми глазками, с полным подбородком, другая – не только розовая, но даже красная, немного насмешливая и, вместе с тем, жалостливая, готовая броситься в огонь и в воду за каждую букашку.
Да! все это были старые добрые знакомые, чуть не друзья Артингсона, всех он хорошо знал назад тому пятнадцать лет, когда жил в Айршингтоне и всех собрала теперь в своем салоне эта предупредительная мисс Драйлинг. Она как будто развернула страницу из жизни Артингсона, страницу старую, давно прочитанную, и которую он может теперь снова прочесть, несмотря на то, что эта страница пожелтела, полиняла и что многие буквы в ней, стерлись. Но эти недостающие буквы еще дороже для воспоминаний сердца.
– О! только сердце любящей и любившей женщины может читать в том милом прошлом, в котором нам было все дорого, потому что сердце всего больше дорожит своим чувством, а сердце… разве это не сам человек, как он есть, со всеми его индивидуальными страстями – могучими, великими или пошлыми?
– О да, да, – ответили на этот вопрос, предложенный Артингсоном, чуть не целым хором и мистер Пепчинс, и мистер Грин, и мистер Литль, и обе мисс Трайль и Вуд.
Все были довольны и счастливы в их прошлом, счастливы настоящей минутой, и мистер Артингсон еще раз оглянул эту незабвенную для его сердца большую комнату, с мягкою, немного полинялою мебелью, с большими зеркалами и каминами и большою дверью на балкон, весь убранный зеленью; а вот и он прижался, в углу, тоже старый друг, маленький рояль.
– О! мисс Драйлинг! Вы позволите? – спросил Артингсон, быстро подходя к роялю.
Мистер Артингсон, старый дорогой друг, мистер Артингсон! – вскричала мисс Драйлинг, идя за ним вслед. – Вы дома, вы совершенно дома; разве вы не в кругу тех лиц, которые хорошо, слишком хорошо знают наши прежния чувства и… уважают их; о, я надеюсь, глубоко уважают. И она оглянулась на всех этих лиц. И тотчас-же мистер Пепчинс закивал энергически головой в знак полного безапелляционного подтверждения, а мисс Трайль замигала глазками и на этих глазках выступили слезки, а высокая грудь старой мисс тяжело вздохнула.
Артингсон сел за рояль. Он ударил по нем несколькими аккордами и эти аккорды, неизвестно как, будто случайно, сложившись, были началом одного из тех старых, вдохновенных созданий, которые написал он здесь, и которые были сыграны, в первый раз на этом самом, уже пожелтевшем, немного дрожащем, но все-таки певучем и сильном, рояле.
И вслед за этим аккордом, как бы сама собою, полилась та же самая, старая мелодия, но полная нестареющей силы; мелодия страстная, тоскующая, в которой звучали слезы неудовлетворенной страсти, и улетавшая в бесконечность, как все, неудовлетворенное, все незаконченное, неопределенное.
Долго играл Артингсон, долго слушали его безмолвные слушатели, и только когда мелодия разрасталась в полные, могучие, глухие, волнующиеся аккорды или плакала и замирала в грустные жалобы, они переглядывались с изумлением, как бы, не веря этой силе звуков, этим смелым и законченным переливам, в которых как будто воплощалась вся великая душа человека, со всем её страданьем, со всем сладостным трепетом невыразимого, широкого чувства любви.
Тихо, матовым светом горела большая лампа на большом круглом столе; тихо светили полночные звезды на темном небе, сквозь широкие двери балкона. Артингсон вдруг остановился. Несколько нот, несколько звуков напомнили ему то, что казалось давно безвозвратно кануло в бездну прошедшего. Они напомнили ему забытую мелодию и забытые слова одного романса. Он изорвал и сжег его, похоронил без воспоминаний и вдруг он снова выплыл в памяти, как-то странно отдававшей теперь все, что было создано при этой самой обстановке, которая теперь окружала Артингсона.
Он снова заиграл. Куплет ожил с прежней силой и звучным голосом он запел также ожившие, воскресшие слова. В этом голосе снова явилась нега страсти, он был также свеж, крепок и мелодичен, как в дни былые. Он пел:
Ангел ли белый иль белая птица
Там в отдаленьи крылами сверкает;
Море ли плещет, иль блещет зарница,
Или далекая песнь замирает?
Мрак иль сиянье! Покой или трепет!
О милый друг! друг желанный ты мой!
Кто беспокойному сердцу ответит?..
Море любви ему в вечности светит,
Светит желанный покой!
И когда звучала эта песня, то под говор её звуков страстных, широких, под говор самой песни неопределенной, нескладной, безумной, как безумна юность, перед глазами Артингсона, внутри его – там, там, из каких-то темных, неизвестных тайников, выступал чудный образ молодой головки. Эта была головка мисс Драйлинг, но только совсем другая, полная поэзии, силы, головка с страстными, огненными глазами, с каким-то неопределенным, но могучим, восторженным, любящим взглядом и когда Артингсон поднял глаза – перед ним на яву, в очью, в действительном мире, стояла эта головка и смотрела на него своими страстными, широко раскрытыми, грустными и любящими глазами.
Да! тут произошло что-то странное, необыкновенное. Артингсон слегка побледнел. Он чувствовал ясно, что это не сон, даже не иллюзия, что перед ним стоит, облокотившись на рояль, образ этой чудной девушки или женщины, которая была сейчас тут внутри его, в душе, образ, завернутый в какой-то широкий серебристый плащ.
«Ангел ли белый иль белая птица!»
И смотрит на него этот образ в упор своими сверкающими, бестрепетными глазами, и чудными линиями изогнуты её алые губы, и все рассыпаны по плечам её густые, высоко вскинутые над беломраморным лбом, черные играющие кудри, и как хороши эти судорожно сжатые, белые чудные руки, на которые она облокотилась…
– Вот она, – говорит мисс Драйлинг, – вот она, моя дикая Дженн, моя племянница!..
Но Артингсон ничего не видит, не слышит. Он не может понять, что с ним делается и отчего он не может отвести глаз от этого странного образа, который так впился в него своими немигающими, страстными, восторженными, чуть не плачущими глазами.
И вдруг она протянула одну из своих белых, стройных, неподражаемых рук, и указывая на клавиши рояля, произнесла повелительным звучным голосом, как музыка страсти.
– Играйте, пойте, сэр, дальше, вы должны играть, там– есть еще куплеты.
И Артингсон, не понимая почему она приказывает, и почему он повинуется, и не отводя глаз от этих чудных глаз, которые приковали его какими-то непонятными чарами, заиграл и запел:
Безумье блаженства, безумье страданья,
Бренные струны сердца людского!
Горе и радость, смех и рыданье,
Туда-ль вы стремитесь, где вечное Слово,
Где вечной любви и сиянье, и трепет?
О! милый друг, друг желанный ты мой,
Кто беспокойному сердцу ответит?..
Море любви ему в вечности светит.
Светит желанный покой!
И когда мистер Артингсон кончил последнее слово, когда замер последний звук под его дрожащими пальцами, то опять совершилось что-то необыкновенное. Все, которые были в комнате, все обступившие и слушавшие Артингсона, молчали и недоумевали, что это значит, даже седой мистер Литль, распрямив свои черные брови, смотрел на всех, и все с недоумением поглядывали друг на друга. Что это? Разве в первый раз в жизни они слышат музыку, разве перед ними гениальный виртуоз? Отчего же они все возбуждены, потрясены этими звуками, этими странными словами, этой неопределённой, дикой, в её фантастических порывах, песни. Что это такое?
Но только что кончил Артингсон, и не прошло, не разрешилось это сомненье, как случилось опять еще более удивительное и необъяснимое.
– Играйте, играйте же сэр, – произнесла она все тем же звучным, повелительным голосом.
Что же такое играть дальше? – подумал он – и сам не свой, не зная, что делает, он ударил по клавишам и с первыми аккордами аккомпанемента, она, она сама запела страстным и нежным, звучным контральто:
Бессильное чувство, бессильное слово!
Ты рвешься, ты стонешь в тяжелых оковах,
Ты пробуешь сбросить цепи земные
И унестись в небеса голубые!
Но что ж там обнимет, что тебя встретит?..
О! милый друг, друг желанный ты мой!
Кто беспокойному сердцу ответит?..
Море любви ему в вечности светит,
Светит желанный покой!
И когда вырвался последний звук из её высокой груди и, задрожав, заплакав, исчез в воздухе, то все окаменели, даже мистер Пепчинс раскрыл свой маленький ротик. Но разумеется больше всех был поражен сам Артингсон, и он имел полное право быть изумленным и даже окаменеть в его изумлении. Он вскочил как безумный, не зная, где он, кто перед ним, фея, волшебница, злой демон, ангел. Ведь то, что она теперь пропела, он не вверял никому, он сам забыл, совершенно забыл этот третий куплет; он даже забыл, что существует этот куплет, и вдруг она, она пропела его… Кто же она? Какая непонятная, невиданная сила в этой девушке!..
– Мистер Артингсон! дорогой друг мой! что с вами, вы взволнованы! – вскричала мисс Драйлинг, бросившись к нему, бледному, дрожавшему и готовому упасть в обморок, – у вас руки похолодели.
И все с изумлением и участием бросились к нему.
– Вы больны!? – вскричала торопливая мисс Трайль.
Только она, одна она…. (Мистер Артингсон не мог подумать об этой девушке, не мог назвать ее иначе, как одним неопределенным местоимением – она), она посмотрела на него гордо своими сверкающими глазами, покачала своей чудной головкой, и, опустивши ее, тихо, плавно прошла и скрылась в растворенную дверь балкона, и Артингсону показалось, что не женский образ, а что-то туманное, неопределенное промелькнуло перед ним.
«Ангел ли белый, иль белая птица!»
– Мисс Драйлинг! – вскричал он, чувствуя, как сердце его замирает и схватился дрожавшей холодной рукой за свою пылавшую голову. – Мисс Драйлинг, дайте мне, ради Бога, стакан воды, льду, чего-нибудь!
«Что я!? подумал он, пьян, брежу, или бывают сны на яву, или свершаются и действительно могут свершаться чудеса в этой реальной, законной, положительной жизни? Или все это фокус, случайность! Или об этом нельзя еще даже думать– это выше всякой мысли, анализа, всякого опыта.
А между тем мисс Драйлинг хлопотала, вся перепуганная, и вместе с ней хлопотали около Артингсона и мисс Трайль и мисс Вуд. Они усаживали и укладывали его на мягкий диван, мочили ему голову уксусом четырех разбойников и даже афинской водой.
– Это нервы, это все нервы действуют – говорил мистер Литль тихим и таким докторальным шопотом, как будто он сразу все разрешил и все объяснил.
– О! да, да, сэр, – подтверждал мистер Пепчинс, – он очевидно взволнован, взволнован… этот митинг и эта восторженная музыка.
– И притом воспоминанье, – вставил каким-то подавленным, хриплым басом мистер Грин.
– О, воспоминанье! воспоминанье! – прошептала мисс Вуд, с каким-то выдавленным вздохом и подняла свои маленькие глазки прямо к потолку.
– Мисс – Драйлинг – сказал Артингсон каким-то беззвучным голосом, приподнимаясь с дивана, – я выйду на балкон.
– О! да, да, сэр, – подхватила мисс Драйлинг, – воздух чистый освежит вашу утомленную голову.
И он вышел на балкон.
Его тянуло туда, и он как-то смутно сознавал это. Он очень хорошо понимал, что-то, что промелькнуло перед ним, не может быть призраком, что это действительно девушка; он даже понял теперь, что это племянница мисс Драйлинг, и в то же время ему казалось, что она могла улететь, расплыться в тумане.
– Да почему же она не может улететь? – спрашивал его какой-то дикий, внутренний голос и он не мог, решительно не мог объяснить, в своей отуманенной голове: —почему она не может улететь?
«Как ангел белый, иль белая птица».
Он вышел на балкон; широким простором, свежим и теплым воздухом ночи охватило его и снова вернулся к нему этот прежним человеческим склад мысли.
Она была там, она стояла в зелени, облокотившись на перила, она смотрела неподвижно куда-то вдаль, в туман, над широким озером, на ярки полуночные звезды.
Он подошел к ней:
– Мисс Драйлинг! – Сказал он и как-то странно отозвалось это имя в его душе, имя, казалось, ему совсем чужое и вместе с тем родное, любимое. И где, в каких далеких, ночных сновидениях, грезах безвозвратной юности он видел эту чудную головку, или ему только кажется это, также, как все теперь ему только кажется!








