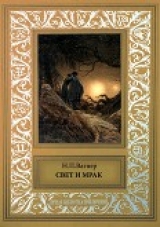
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
С тех пор потянулись целые месяцы, без просвета, в этом безнадежном, мрачном состоянии. Я постоянно была в каком-то забытьи и упорно молчала. Передо мной двигались люди, говорили со мной. Я ничего не замечала. Кормили, поили, одевали меня, – я оставалась ко всему безучастна. Только каждый месяц, во время полнолуния, на меня находила страшная тоска. Тогда картины тех наслаждений, с которыми познакомил меня или моего двойника ужасный князь, являлись мне как живые и меня тянуло туда, к этому, казалось мне, источнику наслаждения. Я металась, тосковала, стонала и билась об пол. Во мне являлась такая страшная сила, что пять высоких, здоровых баб не могли со мной сладить и уложить меня в постель.
IX
В апреле меня повезли в Москву. Поль поехал с нами. Мы советовались со многими докторами, с Иноземцевым, с Овером. Иноземцев приписал это раздражению брюшного нерва. Овер находил мое психическое состояние безнадежным и советовал поместить меня в больницу Всех Скорбящих. Большая часть докторов находила у меня обостренную истерию, соединенную с расположением к эпилепсии.
Меня пробовали лечить гальваническими токами, металлическими пластинками и даже магнетизмом. Последнее лечение доставило мне некоторое облегчение. Я стала как-то бодрее и аппетит мой улучшился, или лучше сказать, он снова появился. Лунатизм мой принял прежнюю, легкую форму, но весь мой психический склад и моя мозговая машина остались те же и положительно отказывались служить мне.
По-прежнему я просиживала целые дни молча, угрюмо сдвинув брови, по-прежнему я чувствовала гнет, страшную тяжесть в груди. Точно какой-то ком постоянно подкатывался к горлу и душил меня. По-прежнему я была безучастна ко всем и всему и хладнокровно слушала мою бедную тетю, когда она уговаривала, упрашивала меня сказать хоть одно слово. Я равнодушно смотрела на её исхудалое лицо, на её заплаканные глаза. Я безучастно принимала все ласки и уход за мной, я не могла понять, насколько тяжело для них, для всех близких и родных, мое состояние и как страшно они измучились, ухаживая за мной.
Когда пришли теплые, ясные вечера мая, Поль обыкновенно отводил меня на наше любимое место, на «зеленой горке» и усаживал на скамейку. Он насильно склонял мою голову к его плечу, и я лежала послушно, как ребенок, и сердце во мне молчало, точно окаменело, а тяжелая, безвыходная тоска постоянно сжимала всю грудь мою. Мне все казалось, что вот, вот… кто-то придет и возьмет, и поведет меня. Или казалось мне, что тут же, сейчас же, рядом со мной, вдруг провалится земля и я повисну над зияющей бездной… Сердце страшно замирало во мне и руки холодели…
Один раз, вечером, Поль, сидя подле меня на скамейке и обняв меня одной рукой, вдруг закрыл другой рукой глаза и нервно, истерически зарыдал. Я вся вздрогнула, застонала, вскочила и бросилась опрометью бежать от него, так что он насилу мог догнать меня, на самом берегу пруда, куда меня неудержимо тянуло броситься.
Ночью в моей комнате постоянно спали две горничные. Они тщательно прятали от меня спички, потому что раз я подожгла шторы и полог постели и чуть не сгорела. От меня прятали все острое, не давали за столом ножей и вилок. Смотрели постоянно, чтобы я не проглотила гвоздей, иголок или булавок, или не выпила бы чего-нибудь вредного. Но один раз за мной не досмотрели, и я выпила весь керосин из лампы. Со мной едва отводились и спасли мне жизнь. В другой раз я сделала петлю из шнуров моей портьеры и повесилась на отдушнике. Из петли меня вынули, когда я уже начала хрипеть и задыхаться. И странно! Я проделывала все эти покушения на самоубийство совершенно спокойно, бессознательно, а между тем, мысль о смерти до того меня пугала, до того была противна и тягостна моему представлению, что при одной этой мысли я дрожала и холодный пот выступал у меня на лбу и на всем теле. Прошло лето, душное, жаркое. Почти каждую ночь была гроза и во все время грозы я металась и стонала. Мне казалось, что каждая молния нарочно сверкала для того, чтобы поразить меня, и когда раздавался удар грома – я замирала.
Почти с каждым днем положение мое становилось хуже и хуже. Я не могла уже, наконец, подняться с постели. Дни и ночи я не могла уснуть, я лежала, отвернувшись к стене, и тихо стонала. В это время доброй моей няни не было со мной. Она ушла в Киев, с твердой верой, что она вымолит мне у киевских угодников здоровье и силы. Она вернулась в половине июня, поздно вечером, или лучше сказать ночью. Она прямо прошла ко мне наверх. Подошла к моей постели, нагнулась надо мной и сказала шопотом:
– Здравствуй, моя желанная! Я принесла тебе благословенье от Феодосия Печерского.
Я перестала стонать и быстро обернулась. Что-то легкое, освежающее, казалось, повеяло на меня, точно то светлое облако, которое спускалось ко мне тогда, во время ужасного сна… И мне казалось, что это облако было св. Феодосий.
Я смотрела с какой-то внутренней радостной дрожью на небольшой деревянный резной образок, который держала няня в руках.
– Перекрестись и поцелуй его! – сказала она, и я силилась приподнять руку и не могла. Няня взяла ее и перекрестила меня. Затем медленно, торжественно, благословила меня образком. И вдруг у меня в груди что-то растаяло, распустилось. Мне стало удивительно легко, покойно… Я не верила себе, я думала, что вот-вот сейчас снова вернется эта ужасная, убийственная тяжесть. Но на место неё явилась удивительная тишина. Я начала тихо всхлипывать, как маленький ребенок, громче, громче, я обхватила мою няню, я припала к её груди и зарыдала, зарыдала… Я целовала её сморщенные щеки… Мне казалась она каким-то вестником мира, целителем моего сердца и несчастной, измученной души моей.
Она присела на мою кровать, она обхватила меня как маленькую, и, припав к её груди, я долго, но тихо плакала.
– Ненаглядная моя красавица, – шептала няня, целуя меня. – Как исхудала, бедняжечка!..
Я чувствовала, что с слезами мне становилось легче, яснее и тише на душе. И не помню, как, я задремала и уснула, крепким, покойным сном. Няня переложила меня, как маленькую, на подушки и на цыпочках вышла.
Я слышала, как вокруг меня ходили, шептались, но мне было покойно, легко, хорошо… И я проспала всю ночь и проснулась поздним утром.
X
Помню, проснулась я слабой, голова кружилась, но на сердце было легко, радостно. Опираясь на стулья, я тихо поднялась с постели – и пошатнулась. В комнате все закружилось. Я простояла несколько минут и тихонько пошла, опираясь на стулья. На столике стояло мое зеркало. Я мельком взглянула в него и отшатнулась. Из зеркала глядело на меня страшно исхудалое, бледное лицо.
«Это не я!.. Это другая!» – промелькнуло в моей больной голове.
Я посмотрела на мои дрожавшие руки. Это были руки скелета, обтянутые кожей.
Я посмотрела в угол, туда, куда я прежде обращалась с привычным, восторженным чувством, к образу Спаса. Там был вчерашний резной образок и на нем висел и блестел маленький крестик – мой детский крестик.
Не веря себе, своим глазам, я, шатаясь, подошла к нему. Я быстро, порывисто сдернула его с образка, схватила обеими руками, с чувством любви, благоговения прижала к своим губам, упала на пол и зарыдала.
«Он вернулся – я свободна!.. Спасена!..» промелькнуло в моем уме и сердце.
И я молилась, молилась, я благодарила и плакала.
Я надела его снова на себя и мне стало удивительно покойно, сидя на полу, я обернулась к двери, – в дверях стояла тетя и смотрела на меня со слезами.
С радостным восторженным криком она бросилась к мне. Я целовала её лицо, глаза, руки. Я облила их слезами… Моей радости, восторгу, безумию не было границ. Плача и смеясь в одно время, мы крепко обняли друг друга; шатаясь от радости подошли и сели на постели.
– Добрая! Добрая! Дорогая моя, – шептала я. – Я верю!.. Бог послал мне милость.
А она тихо шептала и просила.
– Говори еще… говори! Я так долго не слыхала твоего голоса.
Дверь тихо скрипнула, отворилась. На пороге стоял Поль. С недоумением, не веря себе, он смотрел на меня. А у меня при взгляде на него сердце вдруг снова переполнилось восторгом, благодарностью. Я снова поднялась к нему и наверно упал и бы, если бы он не поддержал меня. Я долго лежала в забытьи, в его объятиях.
И столько было радостного трепета в этот день, что у меня совсем закружилась голова и я не могла стоять на ногах. Меня снесли в гостиную, усадили на большом кресле. Каждый наперерыв старался мне услужить. О чем бы я ни заговорила, чего бы ни пожелала, все являлось тотчас же к моим услугам, словно по волшебству.
– Господи! – дивилась я: —как они меня все любят! И как я могла увлечься тем… темным и страшным… И какая ужасная разница между бурными наслаждениями, и между этими тихими, семейными радостями, проникнутыми миром, покоем и теплою, чистою любовью.
С этого радостного дня началось мое быстрое выздоровление.
Когда все это я передавала потом Полю, передавала с тем тяжелым волнением, которое я испытывала тогда, то он сказал:
– Есть много еще необъясненного в снах и галлюцинациях. Но многое может быть объяснено гораздо проще тем нервным возбуждением, в котором ты тогда находилась.
– Как же… а крестик, Поль? Каким образом он явился на груди этого страшного идола, в доме князя. Ведь, я там ясно, отчетливо его видела…
– Да ведь и галлюцинации бывают, говорят, также очень отчетливы. Надо убедиться сперва, что действительно ли существует или существовала в доме князя та комната, в которую ты заглядывала.
– И как же затем крестик явился на образке? Я ведь расспрашивала и няню, и всех. Не повесили ли они его на образок? Они все уверяют, что не видали этого крестика.
– В лунатизме, в бессознательном состоянии, в том настроении, в котором ты тогда находилась, ты могла снять его с себя и опять затем достать оттуда, куда спрятала и сама повесить его на образок.
– Поль, – сказала я тихо. – Можно все объяснить. Но там, где можно все объяснить, там нет места вере, нет места чувству. Там все дело одного холодного рассудка.
– Это совершенно верно, мой милый, родной философ. Но также верно и то, что этого никогда не может быть – и не будет. На том пути, по которому идет вперед человечество, первое, громадное место отведено не рассудку, а чувству и вере в его непреложность и справедливость.
– Я не совсем ясно понимаю тебя.
– Ведь ты веришь, что тот путь, на который в твоих галлюцинациях увлекал тебя князь, есть ложный, темный путь.
– Еще бы, – разумеется, верю.
– Вера дает инстинктивно твоему сердцу указание, куда следует и куда не следует идти. И даже в ту бесконечную, светлую сторону, где лежит общее благо, а не твое личное наслаждение. Пойдешь налево – ты будешь спускаться в ту бездну чувственных удовольствий, в которой кишат все чудовища людских страстей. Пойдешь направо– ты будешь подниматься на святые вершины, по трудному пути, проходить в те узкие врата, которые ведут людей к общему блаженству и к вечному солнцу истины… Это старая, древняя истина. Это старая песня человечества. Она родилась с начала мира. Она древнее Ормузда и Аримана. Она проходит во всех сказаниях, во всех эпосах. Это две мыши Ариосто – черная и белая, которые вечно бегают вокруг гигантского дерева и не могут догнать друг друга.
Я помню, он говорил это вечером, когда мы сидели на нашей любимой скамейке. Моя рука была в его руке. Я смотрела на потемневшее небо, на ясные звезды и эти звезды так ярко блестели и так ясно говорили душе о вечном, великом, непостижимом, что будет всегда, неизменно привлекать человека в светлую сторону добра и правды…
Почему и как исчезла, так внезапно, моя болезнь– я не знаю. Я предоставляю это объяснять людям более опытным и более сведущим.
Через два месяца я настолько поправилась, что ни тетя, ни Поль не видели более надобности откладывать нашу свадьбу, и 18 августа мы были обвенчаны.
Теперь уже минет скоро тридцать лет нашей мирной, тихой жизни с моим добрым, тихим Полем.
Мы оба уже сходим с горы и подходим к той грани, к той страшной завесе, которая скрывает от всех неведомый мир. Мы идем рука в руку и обоюдно поддерживаем друг друга в нашей вере, на скользком земном пути; мы ищем постоянно все доброе, что мы может сделать здесь на земле для нашего бедного земного брата, и это чувство и стремление мы передали, я надеюсь, прочно и нашим детям.
Князя Наянзи я более не видала. Он вскоре после нашей свадьбы уехал из его имения. Затем прошел слух, что он умер где-то в Индии, в горах Нильгирийских.
Олд-Дикс
(Рассказ)
I
Жизнь человека – стремление к наслаждению. В трудах, в науке, искусстве, любви, страсти – повсюду? он ищет удовольствия, повсюду он касается тех струн, которые сильнее дрожат, в которых звучит бесконечная гамма неги, восторга, счастья, блаженства.
Мысли и чувства идут за пределы возможного. Их не примиришь с обыденной прозаической стороной жизни, с ее крохотными, грошовыми интересами. Мысль поднимается на неизмеримые высоты, она уносится в бесконечное и беспредельное. Для нее не существует ни времени, ни пространства. Чувство хочет вечных восторгов, вечного дрожанья, вечного блаженства. Земная оболочка тяготит человека.
Тяжела она в пылкой молодости, когда жизнь брызжет из всех пор и рвется к наслаждению, а суровая действительность говорит ей постоянно: «смирись и терпи»! Тяжела она в дряхлой старости, когда ветхий, безвременно истраченный организм человека бессильно смотрит на наслаждение.
Печально мимо меня идут образы прошлого. Поблекнув, поникнув головами, они проходят как тени, бессильно сожалея о своем блестящем времени одно воспоминание, яркое, неизгладимое, отделяется от этой толпы полинявших призраков, как отделяется чудное создание искусства среди дюжинных, обыденных произведений и блестит вдохновляющей, вечно юной красой.
Я помню лето в той стране, где зима смотрит освежающей осенью, где во время ее спеет виноград и цветут померанцы. Там природа стоит вся убранная, как вакханка, в гирляндах плюща, в гроздях винограда. Там небо сияет, там море блещет, там нет бедности, ее отвратительных язв и лохмотий; там лаццарони, юный и улыбающийся, голый, прекрасный как Адонис, почернелый от загара, сладко спит на солнце на берегу моря, приносящего ему frutti di mari, и нежно баюкающего его всеми своими синими волнами. Страна импровизаций, страна вечных праздников, где нищета не тяготит человека, где он веселый, беззаботный, с песнью несет бремя жизни… Привет тебе, вечно юная, вечно живущая наслаждением Италия!
Нас было четверо: Фернандо Панчери, пылкий, живой миланец, весь созданный из веселости, из бесконечных galantezza; постоянно улыбающийся, остроумный, ловкий, находчивый. Его тёмно-синие глаза составляли резкий контраст с черными, вьющимися, длинными волосами и с черной окладистой бородой; его полные, алые губы и румяное белое лицо не гармонировали с небом юга; но, может быть, в силу их он и был постоянно ровен, постоянно восторжен и весел.
Другой мой спутник был испанец Диего де-Хуарос. Это лицо, которое так сильно нравится южным женщинам. В нем все проникнуто негой, томной, страстной. Правильный профиль, немного покатый лоб; тонкие сладострастные губы, черные бархатные глаза, томные, влажные. Он был создан для любви и постоянно жил ею.
Третий был тоже итальянец – Антонио Брандини, худой, высокий, желтый, немного сутуловатый. Весь обросший волосами, так что выдавались только его черные, сверкавшие глаза. Это был поэт. Его стансы поражали силой страсти, пылкостью фантазии, его сонеты были полны увлекающей прелести. Это была смесь сарказма, чувства и неопределенного движение. Антонио был суров, молчалив, но его шутки поражали едкостью и грубой силой правды. Когда он выходил из своего угла, он был вулкан, бьющий чувством, страстью, остроумием. Таков и должен быть поэт. Он замыкается от толпы. Внутри его зреет и накопляется горючий материал, весь калейдоскоп жизни приносит туда свою лепту. Наконец, когда чаша бывает переполнена, довольно бывает одной лишней капли, одного едва заметного толчка, чтобы ее содержимое потекло неудержимою песнью, сверкая и искрясь, и увлекая за собой все, попавшее в этот кипучий поток.
Я помню один незабвенный день, весь сложившийся из блеска и трепета, из чар искусства, из обаяний и восторгов. Утро мы провели в галереях Palazzo Pitti. Прохладно и покойно было под его сводами, разукрашенными лепкой и живописью, в его огромных залах, раззолоченных, убранных бронзой, мрамором и малахитом. Сила древней красоты предстала там во всей ее вечной прелести. Живой мрамор смотрел на нас, полный силы и юности, как бы приглашая к наслаждению и чарам жизни. Эти статные, роскошные, вечно юные Венеры с их плавными движениями, то стыдливыми, то полными вакхической неги. Эти фавны, справляющие вечный праздник ликующей жизни.
С высоких стен смотрели на нас созданья великой кисти вдохновенных мастеров. Святые Мадонны, строго, девственно улыбались и сулили восторги неизведанного блаженства. Мясистые тела нимф и фавнов говорили о силе грубого, первобытного наслаждение. Голландская жизнь, скромная, уютная манила к себе своими картинами полного довольства спокойной жизнью, среди наслаждений тихого, ровного мещанского счастия.
Из глубины прожитых веков, из древних разрушенных могил, как живой, встал пред нами мир гармонии и ясно говорил о бессмертии наслаждение, о его вечно юных, нестареющих восторгах.
У палаццо Питти нас ждали две коляски, нанятые на целый день, и мы отправились к синьорам Дольчи, которые также ожидали нас, чтобы вместе отправиться на villa Scrozzi. Анунциата и Фелицата Дольчи – женщины Италии – сколько в них уменья жить, наслаждаться жизнью! Пылкие, красивые, блестящие, все созданные из огня страсти, свободные и беззаботные, как теплый сирокко, любящие гордо и преданно, привязанные к родине, благоговеющие перед нею, вечные энтузиастки, со словами восторга и обожание на чудных коралловых губках.
Мы уже издали увидали их на балконе Via Tortoni; вот они, майские розы Италии! Обе смеются, обе кричат: «о viva, viva allegrezza»!
С ними забываешь невзгоды жизни, ее диссонансы. Их вечная страстность постоянно возбуждает вас; в ней все оттенки, все струны звучат, полною и глубокою привязанностью, симпатией широкой и неодолимой.
В ответ им мы кричим, махая шляпами, платками. Брандини встал в коляске во весь свой длинный рост. Его высокая, растрепанная фигура напоминает духа долины в Фрейшюце. Махая шляпой, он неистово кричит глухим басом «é viva Italia, amore et donne amabile!» Мальчишки на тротуарах отвечают ему оглушительным хлопаньем и голосят на все лады «é viva, é viva!»
Синьоры Дольчи сбегают с лестницы, мы усаживаемся, бросаем горсть баиоки мальчишкам, и они неистово дерутся из-за них. Бичи хлопают; кони бегут, гордо кивая головами. Мимо нас проносится пестрая Флоренция: «E viva allegrezza!»
На villa Scrozzi ждет нас обед от Беттони.
Чудная вилла! Сколько в тебе прелести, сколько гармонии. Громадные белые акации, развесистые, душистые, в вперемешку с бальзамическими тополями. Таинственные, прохладные гроты; фонтаны, то сверкающие на солнце своими несущимися кверху потоками, то тихой струей журчащие в тени кипарисов. Каскады, несущиеся с гулом и пеной с искусственных спусков, сложенных из громадных камней. Мраморные статуи, столетние кипарисы и розы, розы без конца!..
Незаметно идет обед среди веселья, блестящих шуток, острот Панчери, парадоксов Брандини, и приближается к концу. Раздается музыка. Это странствующий оркестр. Мы все бросаемся к балкону. Музыканты играют бешеную тарантеллу. Панчери схватывает кастаньеты, случайно лежавшие на камине, и пускается выделывать соло. Анунциата присоединяется к нему. Мы любуемся на их грациозную и страстную пляску. За ними выступает другая пара, Диего де Хуарос, с младшей Дольчи…
Наконец танцующие в изнеможении опускаются на диваны… Мы кричим музыке a basta, basta abastanza multo! Хуарос бросает им горсть золота. Cameriere наливает им по стакану орвиетты.
Утомление овладевает нами. Сонное, сытое утомление. В нем сказывается дремлющее удовольствие. Успокоение нервного дрожание. И… dolce far niente!
– Синьор Антонио, – говорит Анунциата – что же ваш Санчини?
– Он со мной, со мной, синьора bellissima, вот он, Ессо… – И Антонио вытаскивает из бездонных карманов своего пальто три томика: Carmina Sancini.
– Так давайте читать!..
– Теперь читать Sancini?! – изумляется Антонио. – Ма questa е una barbaria, signcrina mia. Читать после сытого обеда, после безумной пляски…
– Скажите лучше: после поэтического безумия; после восторженных движений тела необходима работа ума. Давайте нам поэзию; да именно поэзию, она будет ласкать нас, нежить гармонией стихов. Теперь именно недостает нам этого мерного ритмического каданса, под звуки которого тихо бежит мысль и дрожит чувство. Теперь, да именно теперь мы хотим наслаждаться поэзией! Не так ли, синьоры?
Мы согласились. Антонио развернул томик и начал.
Антонио читал с одушевлением. Волна поэзии, волна мерных звуков охватила нас. Она убаюкивала и в то же время не давала спать. Картина за картиной вставали перед глазами, под тихие ровные аккорды звуков. В них слышались слезы, дрожь чувства, нега любви; Анунциата невольно повторяла последнюю строчку каждого стиха…
Такова сила светлой поэзии, навеянной радостным, мирным чувством. В ней даже мрачные стороны человеческой жизни принимают светлый характер. В ней нет глубокого страдание, тяжелого, безвыходного отчаяние. Она носится по волнам жизни, не падая в глубину их, не погружаясь на дно. Это порхающие звуки счастья, довольства всеми, даже мрачными сторонами жизни. И в то же время в них нет мелкости чувств, они знают те крайности, в которых слышится тяжелый стон отчаяние. В них все полно тем легким отношением, при котором на темные стороны поэт смотрит с – высоты своего чувства также легко, игриво, как и на светлые. Он готов умереть с улыбкой, и любить ради наслаждения. В его стихах, в живой панораме проходит та пестрота жизни, которая составляет ее юмор.
Целые часы проходили, а мы слушали и не замечали, как летело время. Это понятно только в Италии. Там все существо человека, вся окружающая обстановка сливаются со стихами, которые он слушает. Кажется, вся природа и жизнь имеют свой ритм и только здесь может выражаться полная гармония, которая окружает вас и вместе с тем звучит в аккордах стиха.
Солнце довольно низко спустилось; жар отхлынул, уступив место ароматной, свежей прохладе вечера. Мы ходили по аллеям виллы и в каждом из нас звучали стансы Санчини. Казалось, вся природа отзывалась на эти звуки. Анунциата предложила сходить на Bello San Guardo, с которой открывался вид на Lagnna pontica. Мы все отправились. Антоний сопровождал нас стансами; кажется, это была его собственная импровизация. Натура поэта, как струна, до которой коснулся смычек поэзии, не может вдруг остановиться; она долго колеблется и дрожит, пока проза жизни не унесет этого волнение.
Из-за кустов громадных опунций и олив мы вышли на широкую площадку. Кто-то стоял там, на высоте, какая-то фигурка резко вычерчивалась на ясном зареве заката. При взгляде на нее, что-то знакомое поразило меня. Я знал только одну в моей жизни такую приземистую, горбатенькую фигурку, которая теперь, на светлом фоне неба, казалась выше своего роста.
– Неужели это он! Мой Ольд-Дикс.
Я быстро взбежал на площадку. Фигурка обернулась ко мне…
– Ольд-Дикс!.. – вскричал я радостно, – ты ли это?
Мы обнялись.
Ольд-Дикс был мой старый школьный товарищ. Я бы сказал – мой друг, если бы Ольд-Дикс мог быть чьим-нибудь другом. Мы расстались с ним на Иттонской скамье, затем, чтобы снова встретиться в Импшайре, прожить там три месяца вместе и затем расстаться на три года. И вот судьба нас снова сводит так неожиданно, и где же?! Во Флоренции, на Bello San Guardo.
II
Ольд-Дикс принадлежал к числу тех людей, которых природа создает по своему капризу, с тем, чтобы их больше не повторять. В нем было все оригинально и, между тем, эта оригинальность не бросалась в глаза. Ольд-Дикс не был эксцентриком. Он жил настоящим джентльменом, отличался самыми утонченными, изысканными манерами английского денди. Его лицо поражало умом и вместе с тем легким оттенком страдание. Бледное, почти квадратное лицо, с коротким, выдавшимся подбородком, с несколько сгорбленным носом, большим ртом, окруженным тонкими алыми губами, и большими, навыкате, серыми глазами, которые грустно и задумчиво смотрели из-под густых бровей. Но всего замечательнее у Ольд-Дикса был лоб: en face он казался громадным, в профиль – он весь, начиная с бровей, уходил плоской покатостью назад. Довольно густые темно-русые волосы, которые Ольд-Дикс всегда носил гладко причесанными, покрывали почти половину этого лба, так что с первого взгляда можно было подумать, что на нем надет парик или, по крайней мере, накладка. Ольд-Дикс постоянно ходил в черном. И теперь на нем был черный, легкий кашемировый сюртук и панама, с огромными полями.
Ольд-Дикс поступил годом позже меня в Иттон. Мы все, его товарищи, увидав его неуклюжую, уродливую, угловатую фигуру, решили, что он не имеет права быть в Иттоне, что здесь принципу здорового, нормального человека должно быть безжалостно принесено в жертву все остальное. Мы решились выжить или, правильнее говоря, выбить его, если он, последовав благоразумию, не решится сам оставить Иттон. Мы выбрали трех самых сильных бойцов и порешили предложить Ольд-Диксу на выбор: или поединок с ними, или выход из школы.
При этом предложении Ольд-Дикс приподнял брови и вытаращил свои большие глаза.
– Господа! – сказал он – я не прочь попробовать силы с удальцами школы, но кто же из этого выиграет. Я пришел сюда учиться или, правильнее говоря, доучиваться. Положим, вы выгоните меня. Ваши удальцы получат от меня легкие воспоминание, а я потеряю возможность доучиться. Но что же приобретет от этого школа?
– Без рассуждений! – крикнул грозно один из бойцов – или дерись, или убирайся к чёрту!
– Я готов! – сказал Ольд-Дикс, – только вы, вероятно, примете в расчет мой малый рост и позволите мне драться на табурете…
– Ха! ха! Го! го! го! как на табурете? – закричала компания.
– Ничего, пускай дерется на табурете! – кричал самый ярый боец. – Я его сковырну с него, сковырну, чорт побери, вверх тормашки!
И прокричав эту угрозу, он скрепил ее поражающим ударом кулака об стол, так что столешница треснула и раскололась пополам.
Мы порешили драться немедленно и предоставили выбор табурета Ольд-Диксу. Он выбрал здоровый и стойко держащийся на его прямых ножках. Начался бокс. Первый боец, улыбаясь и бормоча под нос, шутливо вывертывал кулаки, подступая к Ольд-Диксу. Но вдруг неожиданно для себя и для всех нас, он полетел на пол. Он не рассчитал длину рук Ольд-Дикса, которые были действительно чересчур длинны, как у всех горбатых, и вследствие этого получил здоровый удар прямо в нос. Ошеломленный и озлобленный, он с бешенством поднялся и подскочил к Ольд-Диксу, но тотчас же опять полетел на пол с подбитым глазом. Мы порешили выпустить следующего бойца. Он стал подступать осторожно, сильно вертя руками. Но Ольд-Дикс точно так же начал вертеть кулаками и притом быстрее его; а так как руки его были длиннее, чем у противника, то последний держался от него в почтительном отдалении и вертелся около табурета.
– Ну! Джик, бодрей, дружище! – кричали мы ему – насандаль молодца.
Джик, наконец, решился наддать удар и наметил в бок, который казался ему плохо защищенным, но тотчас же полетел на пол с подбитым глазом, он вскочил, налетел вторично и получил бокс в другой глаз. После этого он не рискнул попробовать в третий раз, вероятно, за неимением третьего глаза.
Остался последний боец. Он долго приноравливался, рассчитывал и, наконец, вероятно сообразив, что самая слабая часть у Ольд-Дикса – это его ноги и что здесь ему непременно удастся снять его с позиции, он решился сделать нападение на нижние оконечности. Одного только он не рассчитал, что для этого ему необходимо нагнуться и подставить противнику затылок. И вот, когда он с мужеством быка, бросающегося на тореро, нагнув голову, налетел на Ольд-Дикса, этот опустил кулак, как секиру, и боец плашмя растянулся у его ног. Мы его подняли. На его искаженном лице выражалось глубокое недоумение: откуда он получил такой сокрушающий бокс?! Тогда вся компания начала неистово кричать и поздравлять Ольд-Дикса с полной победой. Сейчас же подали грог, и торжество продолжалось до второго часа ночи, причем мы все убедились, что Ольд-Дикса также трудно споить, как и сбить с ног. Таким образом он был принять в Иттон. Мы назвали его Ольд-Диксом, так как он несколько напоминал нам старого горбатого сторожа Дикса, и понемногу привыкли к его неуклюжей фигуре. Затем мы убедились, что это оригинал, который желает себя держать в сторону от иттонской жизни и действительно доучиваться. Старые гуляки и коноводы, считающие школу чем-то в роде гимнастической залы, покосились на такое решение; но, испытав силу и твердость кулаков Ольд-Дикса, они только хмурились и почесывали в затылке.
Ольд-Дикс действительно пришел в школу затем, чтобы учиться. Нас удивляла в нем эта неутолимая жажда знание. Он ничего, ни одной буквы не оставлял, не узнав там о ней всего, что было известно человечеству. По целым дням он проводил школьной библиотеке. Туторы даже оставляли его там на ночь, разумеется, за приличное вознаграждение. Утомленный этим занятием, провозившись с книгами неделю, две, три, он тогда обращался к нам, заводил какую-нибудь поездку в Гемпшир или Литльбуль – и здесь отличался удивительными подвигами на поприще буршомании. Если происходило где-нибудь гомерическое побоище и у почтенных граждан Гемпшира глаза были подбиты, скулы сворочены и носы расплюснуты, то в этом подвиге непременно принимал участие Ольд-Дикс. Если в целом местечке были перебиты окна, отрезаны звонки и все собаки искалечены, то это наверно было дело Ольд-Дикса и Ко. Прокутив всю ночь, он смиренно возвращался в школу и опять принимался за свои книги. Это он называл: возбудить движение в организме.
Он не кончил курса в Иттоне, вероятно, убедившись, что больше там ему нечего изучать, что всю древнюю словесность он знает достаточно и может свободно читать всех авторов, что основание математики и физики им усвоены в совершенстве. Он оставил школу, но не оставил занятия. Когда мы встретились с ним в Импшайре, я был поражен его подавляющею начитанностью: не было, кажется, ни одной книги, сколько-нибудь и почему-либо замечательной, которую бы он не прочел; а прочитать для него означало знать. Память его была поистине изумительна. Самые ничтожные события, незначащие факты, года, числа, собственные имена… все это отпечатывалось при чтении в его мозгу, с тем, чтобы никогда не изгладиться. Да! природа отлила Ольд-Дикса в совершенно своеобразную форму!








