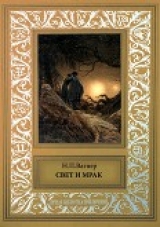
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Оглянулся лысый Михей… Снял шапку, перекрестился.
– Бог милости дает! – говорит.
И все за ним тоже сняли шапки и перекрестились.
Засинели тучки, наползли на небо. Шире, темнее расходятся по небу. И ветерок, словно шальной, сорвется с них, взбороздит реку, поднимет пыль и песок и снова уляжется. И снова знойная тишь, и духота, а тучки плывут, плывут, наплывают, словно свинцовые, тяжело и грозно.
– До дождичка бы добраться нам, – говорят страннички, – к вечеру, чай, придем к перевозу.
– Да, не ближе как к вечеру!
VII
Стоят на перевозе, на устье реки, большие домины двухэтажные, – все заведения для проезжих гостей – с галдареями и балконами, и шумит и гудит народ вокруг них. Место бойкое, проезжее.
– Вишь Бог дождя дает. – говорит купчина, глядя на небо.
– Давно бы надот. Сушь какая! – говорит другой купчина, и пьют они, распивают чай на балконе.
– К праздничку едете, на ярмарку?
– К празднику, – говорит купчина.
А тучки ползут, накрывают небо, и холодком потянуло. Побелела дал. Пылью заволокло все. Наверху на галдарейке оконце хлопнуло.
– Эй! Селифан! – кричат. – Беги, скричи ребятам, чтоб оконце захлопнули! – Вишь гроза идет.
А туча обняла полнеба и запрыгала молния по серому полотну. Что-то гудит и рокочет вдали.
– Град никак будет, – говорит приказчик, – вишь тучи седые… да хлопьями разметались.
– И то град, – говорит купчина: – виш, виш полосы какие!
А молнии так и хлещут. И вдруг прорезала, расчеркнулась яркая полоса – и вслед за ней щелкнуло где-то в вышине и затрещало словно пальба ружейная, загудело словно под землей, гулко и грохотно и раскатилось, улеглось в вышине небесной. Капли дождя, словно сплески воды, то там, то здесь грузно шлепнулись на землю, и всю пыль вскружило, понесло.
Завизжали мальчишки и понеслись, – понеслись, словно ветром их покатило, а впереди их теленок боком, боком, козлом, задрав хвост кверху.
Еще резче, еще ярче расчеркнулась молния, точно над самой доминой упало, грохнуло, затрещало, раскатилось и унеслось.
Задробил, засеменил дождь крупнее, чаще, и вместе с его шумом смешался резкий, шуршащий шум и треск, и град полетел, запрыгал по дороге, по крышам, по доскам, по бревнам, чаще и крупнее, и громче.
– Эге-ге-ге! какой, гляди! – закричал купчина.
– В орех! пра, в орех!
– В какой орех – в яйцо голубино! – И приказчик бойко соскочил с крылечка, закрываясь рукой, подхватил градину и взбежал опять, держа ее на ладони.
– Гляди-ка какой!.. Накось… – И все глядят-дивуются на градину, что срослась тройным сростком.
А град шумит, гудит, щелкает, барабанит. Потемнело небо. Хоть глаз выколи.
Гул, шум, грохот, только молнии сверкают и ветер рвет и мечет, и град, и дождь без конца.
– Эй! эй! Степан! – кричит кто-то сверху. – Назарову-то избушку всю, как есть, разнесло.
– Эка буря! Господи!
И час, и два бушует буря, метет дождем, хлещет молнией…
Наконец, нашумела, нагремела, пронеслась.
По набережной бежит, гудит целый поток, несет дрова, щепы и камни. И мелкий дождичек перепадает.
А по долам везде лежит град, – точно снег выпал.
– Вот так буря была! – говорит купчина, вылезая из горницы.
– У Дерькунова, что лесу поломало! Страсть!
– На мельнице, слышь, человека убило.
В воздухе холодеет. Небо заволоклось тучками, и они несутся хлопками, точно догоняют друг друга.
А солнце садится в тучку, вещает назавтра ненастье.
Вечереет. Показались звездочки.
Наезжают купцы, наезжают господа. Снуют, шлепают по грязи. Шум, гам, что твоя буря. Колокольчики бренчат. Лошади фыркают. Кибитка за кибиткой подъезжают к заведению.
– Хозяин, пусти переночевать…
Смолкает говор, смолкает шум. Свежая, холодная ночь покрывает небо.
И вот вдали показались страннички, богомольцы, прохожие. Идут, ковыляют, шлепают по грязи и тянутся длинной вереницей, а кум Михей и дядя Степан впереди вожаками…
– Матушка-хозяюшка, пусти переночевать! На дворе то мокро, да сиверко. Завтра на зоре пойдем к празднику.
– Некуда, некуда, родимые… проходите, Господь с вами! – И идут страннички, путешествуют.
– Хозяин, а хозяин… пусти переночевать!.. Смерть устали, да и буря измаяла.
– Некуда, некуда, проходите дальше!
Страннички постояли, погуторили, пошли дальше.
– Матушка-хозяюшка!.. пусти, Христа ради! обсушиться! успокоиться. Смерть устали… Христа ради!
– Некуда, родименькие!.. Разве на чердак? Идите нешто на чердак. Только горницу-то вы всю изгадите, – ворчит хозяйка.
– Спасибо, родная, спасибо, матушка. Награди тебя Царица Небесная!
– Да вы лапти-то скиньте, разуйтесь здесь. О, несуразные!..
И страннички скидают лапти, разуваются, посели на крылечко, на балясины, на бревна.
– Ну, ступайте!.. Анютка, покажи им чердак, куда идти. Ступайте! Господь с вами! Эко навалило!
И страннички ползут, лезут на чердак – и трещит под ними лесенка.
– Хозяйка! хозяйка! Что у тебя за шум?
– Ничего! Страннички пришли… на чердак лезут.
И взлезли на чердак, набились, как сельди в бочонке, и хворую тетушку ввели или, вернее, внесли, и отвели ей уголок за печной трубой. Повалилась тетушка на сырую землю – лежит, стонет и охает, и подле посели и Гриша, и Гризли.
Там, направо, в уголке, возятся кум Михей с дядей Степаном. Достал кум Михей восковую свечечку, засветил ее.
– А вы пожару не наделайте, – говорит толстая старушка. Хозяйка, чай, тоже не любит с огнем-то.
– Нет… мы с Господом, – говорит Михей, перекрестясь… мы опасливы.
И достает он большие очки, надевает на нос, и достает маленький требничек в кожаном переплете.
– Во имя Отца и Сына и Св. Духа! – говорит он, положив большой крест. – Господи помилуй, Господи помилуй! – И вслед за ним крестится и молится дядя Степан, а за ним и все страннички, которые еще не спят сном праведным.
Вдруг из-под полу в дверцу, лезет еще народ.
– Куда тут! – говорят.
– Что прете по головам-то! – Вишь нет места!
– Нас хозяйка пустила. Мы добрый человек, тоже устали, с пристани пришли – суда сплавляли!..
– Садись вот, царя, за печной трубой-то, вон в уголку-то!
– Там тетку не раздави! тетка, хворая с ребятенками.
– Э! – брат, фатера важная!.. Что тетка, аль нутро подвело?
– Не трожь ее! Вишь нездорова…
А Гризли все слушает, на все глядит, широко раскрыла глаза, и вот, вот жалобный стон хочет у ней вырваться из груди.
Устали, горят, распухли её ножки, растрескались губы. Внутри все горит. Ко вся эта боль ничто перед тем, что совершается перед ней и о чем так плачет, скорбит её сердце… Нет, это не те образы – чудные, блестящие, что толпились перед ней там, в блестящих залах.
Тут жизнь только-что начинается, только-что выпустила из земли свой первый грязный росток… и темные образы, как черви, ползут в потьмах, без света Божьего. Только там, в уголке, светит маленькая свечечька, и широкия длинные тени ходят под навесом крыши, по балкам и перекладинам…
Вонь, духота – разуваются работнички. От соседей Гризли так сильно пахнет и водкой, и луком, и дегтем, и овчиной, и как раз подле неё улегся толстый парень и прикрылся новеньким нагольным тулупом, храпит во всю ивановскую.
«Бежать бы отсюда вон! вон! Но куда же убежишь? Разве можно убежать от собственного сердца? Ведь оно тянет туда, куда бы и не хотела!
«Мама, хворая мама! И этот Гриша, такой добрый и ласковый. Да и весь этот народ – простой и добрый, ведь прикипело к нему сердце, не оторвешь!
А Гриша положил головку к ней на колени, свернулся клубочком, лежит, дремлет…
И тяжело дышет, страшно дышет, хрипит, бедная мама!
– Камо прииду и возопию Господи! – читает мерно и кротко дядя Михей. – Ты мое прибежище, кого убоюся. Ты моя сила, и враги ада не одолеют мя.
И кажется из глубины сердца идет его дребезжащий голос.
Слушает, слушает Гризли. И легче становится её собственному сердцу. И слезы наплывают, застилают глаза, катятся по смуглым, загорелым щекам.
– Господи! Праведен еси, и верна тебе тварь твоя, – читает Михей… – Милосерд еси, и милостью сердца преклоняемся к Тебе: Отче силы, Спаси и помилуй ны! В грехах рождены есьмы, – очисти ны! Горем спеленаны есьмы – укрепи ны! нуждою повиты есьмы – огради нас.
И кажется Гризли, что кто-то другой сидит, наклонясь к её лицу, и слушает святые слова покорной молитвы.
Она обертывается; но нет никого в темноте темного угла. Храпит парень, что подле лежит; храпят страннички. И только среди спящих и дремлющих мирно и сердечно раздается голос Михея:
– Кровью греха братоубийства заражены есьмы – очисти нас! Взгляни милостью, Богатый милостью! Призри на сокрушение сердца, на печаль души моя! Взалкала душа, возжаждала света Господа моего!
И опять кажется Гризли, что кто-то сидит подле неё и слушает. Она оглядывается на лежащую маму. Храпенье прекратилось.
«Уснула!» – думает Гризли и ощупывает ее руками. – О, как холодны старческие, окостенелые руки мамы!
– Оставь, оставь! – говорит чей-то голос Гризли. – Оставь мертвым хоронить мертвых!
Гризли оглядывается. Перед ней стоит мама. Но не эта мама, лежащая тут, убогая старушка, а другая мама – чудная, молодая, блестящая мама.
– Оставь мертвых хоронить мертвых и – говорит она, – и делай дело живое, великое дело – возрождения, развития, просветления. На твоих коленях лежит чистая душа, невинный агнец, и да будет он братом твоим. Выведи его из тьмы простой, первобытной жизни в высшие, светлые сферы мысли и чувства.
Исчезла мама. Осталась одна Гризли. Одна, среди спящего народа.
Погасла свеча дяди Михея. Замолкло чтение; только храпят странички и бормочут во сне.
Страшно и холодно Гризли. Подле неё лежит холодный мертвец. Улетела отстрадавшая душа.
– Гриша! – говорит Гризли, поднимая его головку с колен.
– Гриша! пойдем, милый!
– Куда? – говорит Гриша спросонья. – Я спать хочу.
– Пойдем, милый, пойдем, брат мой, – и она целует его липнущие от сна глазки. – Пойдем на свет, на чистый воздух. Здесь душно, темно…
Поднялся Гриша. Встали, идут.
Спотыкается сонный Гриша.
– Сюда! сюда! – говорит Гризли, – осторожно обходя спящих и доводя его до выхода. – Постой, я вперед пойду. Обопрись об меня!.. – И они сходят. Идут через горницы без шума и отворяют перед ними двери невидимые руки.
Прояснело. Яркия звездочки мерцают. Дремлет ясная зорька.
– Куда-же мы пойдем? – спрашивает отрезвленный Гриша, протирая глаза. – А мама?
И Гризли обняла его.
– Её нет, Гриша. Она отлетела, – шепчет она.
Совсем встрепенулся Гриша.
– Как отлетела?..
Гризли складывает его ручку, складывает вместе три, пальчика и крестит его большим крестом.
– Приими и упокой, Господи, – говорит она, – новопреставленную рабу Анну!
Гриша посмотрел на нее своими ясными, голубыми глазами, задрожал, затрясся и зарыдал.
– Мамонька моя!.. Родимая!
Гризли обняла его, прижала к груди.
– Гриша!.. Я твоя мама. – Я твоя сестра, я не покину тебя.
– Пусти, пусти меня к ней! Я проститься хочу.
– Не ходи, Гриша, – говорит Гризли, не пуская его, – не ходи, милый, родимый мой! – Оставь мертвым хоронить мертвых. Тебя схватят, сиротинку.
Гризли увлекла его. Упираясь и плача, припав к плечу её, шел он по мокрому песку, по грязным лужам.
И шли они долго, шли мимо спящих заведений, мимо осокорей дупластых.
Насторожив уши, смотрели на них собаки, а в вышине небесной мерцали звездочки. Шли они дальше, дальше, в поле пустынное, и пропали вдали.
А страннички мирно храпели, усталые от далекой путины. Стала заниматься утренняя зорька, и проснулись они, потянулись, стали вставать и креститься, стали толкать, будить маму Гризли… И не добудились. Поднялась суматоха.
– Вишь нехристи оголтелые! – кричала оторопелая хозяйка, чуть не плача, грозно поднимаясь, спеша по лесенке, – каку беду наделали! Мертвое тело навязали! Господи, не попусти!
«Мертвое тело! мертвое тело!» – гудит в ушах у странничков, угрюмо обступивших холодный труп и молча кидавших медные копейки на бедное рубище усопшей.
VIII
Осиротел старый дом. Угрюмо стоит он, погруженный в глубокое горе.
В его парадной зале, в середине её, на черном бархатном катафалке, с серебряными княжескими гербами, стоит серебряный глазетовый гробик, и лежит в этом гробике Гризли, в белом кисейном платье, вся усыпанная цветами, – лежит хозяйка старого дома и спит сном тяжелым. Не могли разбудить её ни няня родимая, ни милая мисс Бат, ни тетка старуха, ни старый доктор.
Завешены зеркала и картины, опущены портьеры и шторы. Мрак и тишина царят в старом доме. Только в парадной зале раздается мерное чтение над гробом усопшей. Да тихо голосить, плачет-заливается старая няня, упав на ступени бархатного катафалка.
В сером тумане стоит, не шелохнется, и сад, и парк– точно грустная дума томит их, и мелкий дождь, угрюмо каплет.
И точно плачут высокие ели и липы, старые вязы и дубы-хранители.
– Все меняется! все меняется!.. – шепчут они: – временная жизнь – мгновение; вечная жизнь – бесконечность.
Полегли, молчат резвые косули. Примолкли куры и сизые гульки, – словно чуют горе старого дома.
Со стоном подымается няня, всходит на ступеньки катафалка и с рыданием падает на гробик.
– Уснула звездочка моя ненаглядная! – плачет она – Уснула, моя радостная, оставила меня сиротинкой на старости лет!.. Господи! сокрушилось сердце мое… – И плачет она разливается.
И тихо идут часы за часами. Выше и выше поднимается солнышко.
Перестал дождь, оседает серый туман; встрепенулись веселые птички; вскочили резвые косули; закричали заахали голосистые куры.
И прорезало солнышко густой туман своим ясным лучом, радостным… И все улыбнулось. Засияли цветы. Громче засвистели птички, заблестели кусты и деревья; все засияли слезинками, точно маленький ребенок, что улыбнулся сквозь слезы.
Упали солнечные лучи в парадную залу, ворвались в окна, – и вся засияла парадная зала; упали они на гробик Гризли, – и весь заблестел глазетовый, гробик… Упали они на Гризли, – и жизнь теплым лучом пробежала по мертвому личику. Тяжело вздохнула Гризли, вздохнула и повернулась.
А нянька замерла, остолбенела; и верит, и не верит она глазам старым, и дрожит, и трясется, и крестится. Повернулась Гризли, подняла ручки, ухватилась за края гробика, и все цветы посыпались с неё.
– Няня! – говорит Гризли. – Он здесь… Идем скорей!
– Кто, матушка? кто, родненькая?
– Он! брат мой! Он там ждет на балконе, он плачет.
И старая няня хочет вынуть ее из гробика и не может; а Гризли сама встала, оперлась на её плечи, спустилась, сошла со ступеней и пошла, шатаясь, по зале.
– Матушка родненькая! – лепечет няня и, сама шатаясь, плетется за Гризли. – Куда ты, ангел мой? дай насмотреться на тебя! – А старые глаза от слез совсем не смотрят!
Ведет Гризли старуху няню на балкон. Там, на широких каменных ступеньках сидит Гриша и тихо плачет.
– Гриша, Гриша! – говорит Гризли, бросаясь к нему.
Гриша вскочил, остолбенел.
Перед ним Гризли, но не та Гризли, что привела его в старый дом, привела издалека. Та Гризли была в худеньком сарафанчике, босоножка. А эта барышня в кружевном платье, в цветах.
– Гриша! что ж ты не узнал меня? – Гриша! – И она обняла его крепко. – Ведь это я, сестра твоя… Пойдем, пойдем ко мне! – И она ведет его мокрого, босоногого.
– Матушка! – шепчет няня. – Родная моя, что это, ясочка моя? – и крестится, и не может надивиться.
А Гризли привела своего брата прямо в свою спальню, сажает его, мокрого, грязного, на бархатный табурет; и Гриша совсем одурел, широко раскрыл рот и руку в него сунул, и не может надивиться на все, что перед его глазами совершается, точно в сказке волшебной.
– Родная ты моя, радостная, княжна моя ненаглядная! – Да откуда этот мальчишка взялся, простой деревенский мальчишка? Чудо Господне! – Да не бес ли это, матушка?.. Да не обнимай ты его! Смотри, он всю тебя перепачкал.
– Ничего, няня, все это снаружи; только внутри было бы чисто.
– Да откуда-же это? – Кто это? Звездочка моя!
– Брат мой, няня, брат мой от Бога! Няня, люби его, целуй его!
– Куда его целовать, – его сперва вымыть надо… Что расселся перед барышней? – Ведь это княжна, дурень, – понимаешь ли ты?
– Ничего, няня, он не понимает. – Не тронь его. – Он младенец невинный, добрый мой, – и Гризли гладит, его, расправляет волосы, что копной торчат на головке Гриши.
– Господи! Господи! Да ты сама-то сядь! Ведь еле движешься, дрожишь вся. Сядь, родненькая! – И няня усаживает Гризли на кроватку. – Господи! не верится все мне: из мертвых восстала!
А Гриша на все смотрит, дивуется – на резной потолок, на бархатные ковры, на золоченые обои.
– Гриша, милый мой, – говорит Гризли. – Садись здесь, садись возле меня.
– Куда его – ужасается няня. – Куда, поганый, на княжескую постельку!.. Матушка родная, ведь его прежде всего вымыть надо. Так-таки просто в корыто да мочалкой, да щелоком; ведь он ровно свинья: весь в грязи!
– Нет, нет, няня; его прежде накормить надо: ведь он целые сутки ничего не ел. Давай нам есть скорее!
– Куда сутки! – ворчит няня. – Целых шесть суток сама не ела, не пила. Ох, Господи!
И идет няня, кричит сенных девушек, лакеев, буфетчиков.
А Гризли смотрит на Гришу и не может насмотреться. Встают в её памяти, выходят одна за другой сцены из их странствования.
Тихое, холодное утро. Солнышко только-что показалось. Идут они мимо длинной деревни. Подходят под каждое окошечко.
– Батюшки, матушки! Царствия Небесного радетели, сотворите милостыньку Христа-ради!
Но молчат окошечки, упорно закрытые, не открываются; не подается милостыня Христа-ради.
– Давая петь! – говорит Гриша. – Мамонька покойная меня научила.
И встают они под окошечко и жалобно раздаются в утреннем воздухе их детские голоса:
Христе Сыне Божия Христе
Милосердый,
Сотвори благое,
Сотвори нам милость!
Праведные Пречистые,
Преблагия, Пресветлый,
Избави от горя,
От нужды великой!
И раскрылось окошечко, вывалилась краюшка. Жадно подхватил ее Гриша.
Перекрестились, пошли.
– На, кушай! – говорить Гриша, отламывая половину краюшки.
И идут, идут птицы Божьи. Идут и день, и два, идут куда? – сами не знают. Но только они верят, крепко верят, что они придут к старому дому, о котором Гризли рассказывает такия чудные сказки.
На третьи сутки обессилела Гризли; устали ноженьки, непривычные к лаптям деревенским, непривычные к ходьбе многодневной.
Сели они около лесочка, подле овражка, места глухого. Вдруг из овражка лезет, щетинится страшная морда. Глаза блестят, рот зубастый раскрыт.
– Это волк, – шепчет Гризли в ужасе.
– Ничего, – говорит Гриша: —ты только перекрестись, он ничего не сделает небоженькам.
И небоженьки перекрестились. Волк порычал, порычал, защелкал зубами, прижал уши и вдруг быстро повернул назад и в три прыжка исчез в овражке.
– Гриша, – говорит Гризли: —это твоя мама нас спасает. Она не дает нас никому в обиду.
– Может быть, мама, – говорит Гриша: – а может быть волк просто испугался, подумал, что его застрелят.
Посидели, отдохнули небоженьки и пошли. И целых пят суток они шли так, побираясь Христа-ради; день идут, а ночь ночуют в поле или в гуменниках, а иногда и в избе, коли пустят переночевать.
– Как же это вы одни идете, сиротливые? – спрашивает какая-нибудь сердобольная бабенка.
– Идем, тётенька, – говорит Гризли – с Господом!
– Куда-ж, мол, вы идете?
– В Архистратигино.
– Это в княжое имение?
– Да!
– Эко чудо! Одни, сиротиночки!
Через две недели показалось Архистратигино. Гризли оживилась; каждое деревцо, каждый кустик теперь ей знакомы.
– Вон видишь, Гриша, – говорит она, вся раскрасневшись: – вон, вон блестит церковь, а вон и парк, а за ним – за ним будет старый наш дом.
И Гриша дивуется, широко раскрыв глаза. Его сердчишко усиленно бьется.
Дружно, бойко идут они. Куда усталость девалась.
Серая мгла стелется кругом них; серые брызги дождя обдают холодом. Ничего не замечают они. Бойко идут, шлепают ноженками по грязи, по лужам и ближе, ближе подвигается; идет навстречу к ним, с открытыми объятиями, край обетованный.
А колокол заунывно, медленно, удар за ударом, перезванивает, точно по покойнике…
IX
Собрался ареопаг в голубую гостиную. Все, что имело голос в семейном совете, все засело.
Седые, дряхлые, в старых токах и фраках, с светлыми пуговицами, в жабо и брыжах, а князь Иван Александрович приехал даже в парике с косой. Впрочем, не сам он приехал, а привезли его, и как засел он в длинное кресло, обложившись подушками, так тотчас и погрузился в сон праведный. И никто не будил его. Все знали, что он проспит себе все совещание и снова отвезут его домой, как дорогую куклу.
Все сидят тихо, говорят вполголоса, точно в старом доме был тяжкий больной. Но не больной, а здоровый стоит за дверьми залы, ожидая решения ареопага. Стоит Гризли и крепко держит за руку своего названного брата, умытого, расчесанного, разодетого в красную шелковую рубашку и черные плисовые шаровары. И таким красавцем смотрит Гриша в этом нарядном костюме, в этой роскошной пародии на простой наряд деревенского парня, что невольно хочется на него любоваться.
А Гризли перед ним такая худенькая, изжелта-бледная; только чудные, черные кудри красят её миловидное личико, на котором теперь упрямство, решимость и сила горят в черных больших глазах.
Тихо шушукает, шумит, гуторит ареопаг, шепчет, переговаривает.
Все ждут старую тетку. Без неё никто ничего решить не может. И княгиня Ненила Дмитриевна, и княжна Мэри, и граф Вадим, и графиня Д’Ивличь, и князь Петр Петрович, и генеральша Друсса-Любавская – все ждут старую тетку.
– Чу! – говорят, кажется, подъехала.
И, действительно, подъехала, в громадной карете, четверней, с форейтором, двумя лакеями и тремя компаньонками. Другого экипажа никогда не знала «старая тетка». И никто не представлял и не мог представить ее иначе, как едущую в старой карете с форейторами и двумя лакеями на запятках. В ней она ездила в церковь и во дворец. И входила в него во всякое время прямо, без доклада.
Никто не знал, сколько ей было лет и всякий, кто знал ее лет 20–30, жил, старелся и умирал, оставляя ее такою же. «Старая тетка» не старелась. Вставала она в пять часов, ложилась в одиннадцать; целый день деньской на ногах, творит суд и расправу, шлет приказы и распоряжения во все свои ближние и дальние земли. А земель этих было не мало, – в одной Перми великой, на Сибирской стороне, не одна сотня тысяч десятин и не один завод плавил и ковал в её казну медь, свинец и железо.
Говорят, сами Государь покойный не раз бывал у старой тетки и называл ее «делец-баба».
Встал, поднялся ареопаг со своих мест. Все встали для встречи старой тетки. Одного только князя Ивана Александровича не могли добудиться в его перинном кресле. Вошла старая тетка, громко стуча своей палкой и на всех смотря строго и гордо из-под своих черных, как сибирский соболь, бровей. Тёмно-серые глаза её бегали и светились острым, холодным блеском. Громадные седые букли обкладывали всю голову, и только на самой макушке поднимался высокий шиньон, из желтых брюссельских кружев, что наплела еще в прошлом столетии известная кружевница Фанни Фан-Верт.
Все поклонились низко старой тетке. Всем она кивнула милостиво головой. Князю Петру Петровичу дала поцеловать свою старую, выхоленную разными парижскими косметиками руку, в черной ажурной митэнке. При этом промолвила:
– Не бегай за бабами, – старый кобель – и погрозила пальцем. – Слышу твои шашни – вся Москва говорит о них. – А на князя Илью Сергеича застучала палкой.
– Ты что это, старый греховодник, – закричала она: – на старости лет пустился в кляузы, да ябеды, крючком крапивным сделался. Брось! брось! брось, сударь! Не княжеское это дело, – отбивать хлеб-соль у сирот. Чтобы завтра же дело было покончено. Завтра же, завтра же!
И желтый, лысый князь еще больше пожелтел он этих слов и молча низко поклонился. При чем длинное лицо его еще сильнее вытянулось.
Уселись все около маленького круглого стола, за который села сама старая тетка, – села в то самое старое маленькое кресло покойного князя, на котором он работал. И кто бы теперь взглянул на нее, сидящую на кресле покойного, на её большой нос, на её оттопыренную нижнюю губу – не сказал бы, что это сестра старого князя.
Княжна Анна Тимофеевна, которой было вверено специально воспитание Гризли, встала, подошла к столику, за которым сидела старая тетка, и обстоятельно доложила обо всей истории.
– Не знаю, как быть – добавила она. – Явился неведомо откуда, словно бес, прости Господи, просто деревенский мальчишка – и ухватилась за него, и знать ничего не хочет.
Но старая тетка прервала ее.
– Приведете их сюда! – приказала она.
И Гризли с Гришей вошли, держась за руки. Гризли вела, гордо подняв голову, своего названного брата. Она чувствовала и знала очень хорошо, что никакие силы не могут отнять от неё её Гриши.
Подошли к старой тетке. Милостиво дала она поцеловать им свою руку. Потом взяла Гришу и поставила его прямо против себя. Она долго, прямо, улыбаясь все больше и больше, смотрела на его умное, открытое личико, в его ясные, большие глаза.
А Гриша думал, соображал в это время. Думал: что за кудри большие, ровно кудель, наверчены у старой тетки на голове и ровно полотенце кружевное собрано у неё на макушке; а руки… но не знал Гриша, даже как придумать название тому, что было надето на руках старой тетки. Нравилась ему большая золотая цепь, что висела у неё на шее, и невольно посмотрел он на золотую пуговку его красной рубахи.
– У меня така же запонка-то, – сказал он, слегка дотрагиваясь до золотой цепи.
Многие из ареопага всплеснули руками и покачали головой; многие улыбнулись при этой ребячьей выходке маленького дикаря.
Старая тетка также улыбнулась и потрепала по щеке Гришу.
Потом тихонько указательным пальцем, на котором были надеты дорогие перстни, супиры и сувениры, – поманила к себе Гризли.
– Он люб тебе? – спросила она ее почти шепотом.
– Он брат мой, тетя, – сказала прямо и гордо Гризли.
– Ты хочешь, чтобы он жил здесь – в доме князя Ивана Аполлоновича?
– Хочу, – сказала Гризли, также гордо и непреклонно.
И старая тетка быстрым движением руки поставила ее в середину круга.
– Читай завещание князя Ивана Аполлоновича, – приказала она, – громко читай завещание – повторила она.
– «Во имя Отца и Сына и Св. Духа», – начала Гризли громко и отчетливо…
– Пропусти начало – поправила тетка. – Читай дальше.
– «Завещаю я мою вотчину, княжего рода, в род мой…»
– Пропусти, – опять прервала старая тетка. – Читай с этих пор: «и да будет её воля нерушима».
Гризли быстро подхватила:
– «И да будет воля её нерушима, и все, что она пожелает да будет исполнено по её желанию – и никто вопреки оного, ее ни к чему приневолить не может».
– Остановись! – прервала старая тетка. – Хочешь ли ты, княжна Гризельда Аполлоновна, – начала она громко и торжественно, – чтобы твой приемыш и названный брат, Григорий Бестяглый, жил здесь, в твоем родовом доме, вместе с тобою?
– Хочу! – сказала Гризли, также гордо и непреклонно, как прежде.
– «И все, что ты пожелаешь, – прибавила старая тетка, – да будет исполнено по твоему желанию, и никто вопреки оного ни к чему тебя приневолить не может».
– Слышали вы? – обратилась она ко всему ареопагу. Все молчали.
– Слышали вы, – повторила она вопрос, – последнюю волю брата моего, князя Иоанна Аполлоновича?
– Слышали, матушка княгиня, – сказал старый князь Лев Спиридонович и, встав с своего бархатного кресла, поклонился старой тетке. А за ним и все встали и поклонились ей, кто просто кивком головы, как бы в подтверждение правды её слов, а кто, отвесив низкий поклон, чуть не до земли в пояс. И все подумали при этом: как же нам прежде это в голову не пришло? а все это напутала княжна Анна Тимофеевна. И что тут в самом деле важного такого, что девочка хочет взять к себе приемыша холопа? Что же тут особенного? и зачем надо было нас всех собирать? беспокоит!
И все они, при этом забыли свое прежнее распоряжение: «ни под каким видом не пускать Гришу в барские покои».
У всех точно гора с плеч свалилась. Все начали рассуждать, говорить, о чем в голову пришло и о чем не успели наговориться у себя, в своих хоромах и княжеских палатах.
А Гризли, довольная, сияющая с пылающими щеками, с сверкающими глазами, увлекла Гришу в дальний угол комнаты, туда, где на пьедестале из ляпис-лазури стояла раззолоченная ваза, которой знатоки и цены не находили.
– Гриша! – говорит она полушепотом, крепко сжимая руку названного брата. – Гриша! теперь мы с тобою не расстанемся. Тебя не прогонят от меня. Ты рад?!
Гриша посмотрел на нее рассеянно и ничего не ответил. Его занимали все эти бары– в париках и манжетах, – занимали звезды, которые сияли на груди князя Петра Алексеевича, занимала старая моська княжны Мавры Степановны, и, в особенности, её арапка. Он с изумлением и страхом смотрел на её черное лоснящееся лицо, толстые губы, на сверкавшие ослепительной белизной белки черных, блестящих глаз и на её вышитое золотом красное платье…
X
Раннее утро. Радостное солнце играет в старом доме. Оно играет, на золоте и мраморе, на хрустале и фарфоре. Оно сверкает радужными огнями в гранях стеклянных подвесок, стелется мягким блеском на штофных обоях. Косой луч его упал в голубую гостиную, и расцвела и заиграла вся голубая гостиная. Поползли теплые отсветы по голубому штофу и светлые блики засверкали на золоченой мебели, на раззолоченных вазах.
Радостный луч сверкает и в сердце Гризли.
Все трепещет внутри её и каждый нерв её дрожит и поет радостную песню.
И вся она сияет, как нарядная лютня, и не замечает, как сильно натянуты все её струны, и чутко отзывается в ней каждый луч радостно сверкающего солнца. Она знакомит маленького дикаря со старым домом. Она все показывает и обо всем рассказывает Грише. И так полно, переполнено её сердце, – так много ей надо передать, с самого начала, другому ответному сердцу, – что нет у неё слов. Да и что значат слова, когда само сердце просится говорить и слиться с другим, – милым, родным сердцем?!
– Вот это наша зала, – показывает она Грише.
– Эка большуща, ровно церковь, – замечает Гриша. – А нешто меряно – сколько в ней саженев? – И он меряет глазами, и на его детские глаза зала кажется неизмеримой. – А это что? – спрашивает он, указывая на статуи света, несущие канделябры, – это анделы?
– Нет, это гении света – объясняет Гризли. – Они всюду вносят жизнь и свет, всюду!
И не может понять Гриша, как неподвижный статуи могут вносить свет. Он подходит к ним и проводит ручкой по ножке статуи.
– Ишь – пылища-то, – говорит он, показывая запачканную руку. – Из лебастру, чай, сделаны?
– Нет, Гриша. Из мрамора. Есть такой камень как известка, только твердый такой, знаешь слегка прозрачный…
– А там это больши раззолочены палати? – спрашивает Гриша, показывая на хоры.
А Гризли смеется и объясняет ему, что там, на этих палатях, играют музыканты, когда внизу, в зале, танцуют. Идут дальше, в желтую гостиную.








