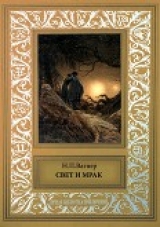
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
– Вздор и ничтожество все человеческие науки!.. Есть одна наука – великая, глубокая – таинственная. Люди нанесли в нее всякого вздора и грязи собственных личных мнений и тщеславия. Надо очистить ее и глубже, глубже проникнут в её тайники. Эта наука великая, наука всею. Наука механизма природы, наука тайников человеческой души, познания чего-то, что, говорят, не постижимо для человека и висит в воздухе вечной, недосягаемой тайной…
И он проникнет в эту тайну. Он чувствует в себе достаточно силы, гордости его ума, чтобы снизойти с высоты его в глубокие тайники этой науки…
Он видел явления этой природной силы в его Гризли. Эти явления в первый раз открыли ему таинственный мир, и он с тех пор стремится в него всей душой и отдает ему все свои силы.
Он чувствует, что такого существа, как его Гризли, он не найдет вторично. Он бережет ее, как святыню. Он дорожит её жизнью больше собственной жизни. Он удаляет от неё все, что может влиять на чистоту и полное спокойствие, безмятежие её души. И все это делается не ради любви к ней, не из глубокого братского чувства, а только как потребность его гордого, независимого ума.
Он дорожит ею, как дорожат научным инструментом, как доктор дорожит интересным больным, над которым он может производить свои исследования. И он не скрывает от неё этих отношений… А она… она – любит его так глубоко и беззаветно.
Порой в редкие минуты душевного просветления она спрашивает себя:
– Да что же она любит в нем? Какая неведомая сила влечет ее к нему?… – И ничего не может объяснить, как ни старается.
Перед ней проходили длинные вереницы блестящих молодых людей и талантов.
Она вспомнила поэтов, ученых, художников, с которыми встречалась в чужих землях… Она увлекалась силой их таланта, поклонялась глубине их мысли, любовалась их произведениями, заслушивалась их вдохновенной музыки… Но достаточно было кому-нибудь из них бросить на нее нескромный взгляд страсти, почувствовать к ней влечение в глубине сердца… и тотчас же неприязненное чувство отвращения являлось в её сердце…
Она сравнивала его чуть не с каждым из этих талантливых людей… Но при этом сравнения тотчас же неодолимый страх сжимал её сердце. Ей было тяжело поднимать нож холодного анализа, рассудочного сравнения над тем, к уму которого она относилась с такой беззаветной верой, с таким твердым упованьем… Она с ужасом отворачивалась от своей мысли и старалась заглушить ее…
XI
Проснулась Гризли. Вернулась к тяжелой, земной жизни… и вернул ее не Гриша, а малый ребенок.
Ушел Гриша, и мало-помалу спальня Гризли опять наполнилась.
Вошли в нее убогие и немощные старики и старухи. Внесли и ввели бабушки своих внуков и внучек. Все они молятся, крестятся.
– Создай, Боже, милость!.. Верни к жизни нашу барышню, княжну благодетельницу!..
Тихий, сдержанный стон и рыдания носятся в роскошной княжеской спальне.
Старухи глядят и дивуются невиданной роскоши.
– Господи! Господи! – думают они. – Всюду золотой Бархат и шелк… Всюду кружева, да зеркала!!
Не дивуется одна девочка. Грустно стоит она у самой постели Гризли и неподвижно, с ужасом смотрит на мертвенное лицо доброй барышни. И ей жаль эту барышню, эту княжну, добрую и милую… Она держит в руках богатую и нарядную куклу… Эту куклу подарила ей Гризли. И все сердце её теперь сжато от ужаса… «Спит она, – думает она, – спит милая добрая княжна… И что такое смерть?..»
А бабушка стоит перед ней на коленях и молится, и плачет.
Встала она с колен. Встала, подняла она девочку на руки.
– Поди, Машуточка! – шепчет она сквозь слезы. – Поди простись с ней… С нашей княженькой благостной…
И подносит она ее к Гризли.
– Поди! – шепчет она, – поцелуй её ручки…
В ужасе замерли все, стоявшие в спальне. Думают: «какая старуха дерзостная!».
А Машутка горько плачет. Вдруг прихлынули к её сердцу эти слезы жалости… И рыдает она, и целует похолоделые руки Гризли. Тянется поцеловать личико доброй, любимей барышни.
С рыданием припадает она к груди Гризли, и под её поцелуями вернулась к ней жизнь.
Вздрогнула Гризли, вздрогнула как от электрического удара и открыла глаза: смотрит, припоминает, что с ней, где она?.. А перед ней маленькая девочка и вся она в слезах радости лепечет, протягивая к ней ручки.
– Княжинька наша!.. Милая!.. Проснулась!
И душевным, светлым, любовным движением обхватила ее Гризли, прижала к груди и поцеловала крепким поцелуем. Слезы брызнули у ней из глаз одним мощным порывом поднялась она с постели и перекрестилась большим крестом.
– Господи! Слава Тебе!
А перед ней на коленях стоят и старцы, и дети, и убогие старушки, и все плачут, и все молятся, крестятся.
– Господи! Слава Тебе!
XII
Сияет жаркий, летний день в ясном голубом небе и ярко трепещет жизнь кругом, в благодатной стране, под жарким солнцем красивого юга.
И Гризли, невидимая, вся одетая этим голубым, ласковым воздухом, летит, несется над голубым, спокойным морем… Она любуется чудной картиной гармонии, которая развернулась перед ней, как радужный спектр, в чудном, согласном сочетании красивых, нежащих глаз красок.
Она любуется и не знает, что вся эта картина уже не существует в настоящем, что она вызвана из далекого древнего мира.
Летит Гризли и чудные горы, погруженные в голубой, прозрачный туман, встают перед ней. Они и теперь стоят, неизменные, спустя десять столетий. Темнеют кипарисовые и миртовые рощи, сереют серой зеленью оливковые сады. Всюду сила красоты, и люди дополняют эту красоту своим творчеством. Всюду высятся белые, мраморные, многоколонные общественные здания и храмы. Всюду бросается в глаза невиданная красота нагого человеческого тела, в белых мраморных статуях. Гордые пальмы качают свои роскошные, ажурные, страусовые вершины над белыми портиками и храмами, а голубое море, тихо, с ласковым шумом, плещет в красивый берег.
Подлетает Гризли к длинному величественному зданию, перед которым высится большая статуя змея, из черного мрамора; этот змей всполз на дерево, а красивая молодая женщина стоить на коленях и поит этого змея из большой мраморной чаши.
Из этой чаши подается благодатное исцеление всем страждущим немощами и тяжелыми недугами.
Гризли входит в длинное здание, перистиль которого поддерживают красивые, солидные, величавые мраморные колонны. И над самым входом высится бюст старика, с умным, думающим лицом, бюст обвитый также змеями. Гризли знает чей это бюст, и что все здание посвящено излечению больных, что в нем царствует благодетельная врачующая сила.
Она тихо, невидимкой, влетает в высокие просторные залы, потолок которых поддерживают красивые колонны. В этих залах не слышно стенаний, не слышно криков больных. Все совершается молча, таинственно. Молча ходят врачи и прислужники. Молча подходят они к больному. Врач простирает над ним руки, из которых выходит врачующая сила, и больной засыпает благодатным целительным сном. Гризли хорошо знаком этот сон. Она и теперь объята им и спит там, далеко в её старом княжеском доме. Она вполне понимает и сознает, что этого сильного и верного лечения недостает теперь людям, что оно давно заброшено, как сумасбродное, заброшено вместе с красивым мраморным античным миром. Люди оставили от этого мира только эту красоту и пренебрегли всем полезным.
Тихо вылетает она из мраморных зал, наполненных больными. Голубой воздух, яркий солнечный свет и темная зелень окружают ее. Как хороши далёкие дали и эти беломраморные домики среди олив, олеандров и лавров. Вся эта страна, как красивая сказка, как музыка моря и неба ласкает человека…
Летит Гризли над дорогой и видит, как целая толпа людей везет прекрасную, колоссальную мраморную статую. Они впряглись вместе с волами, буйволами и ослами в длинные крепкия дроги на толстых колесах кругах. Все эти люди оборванные, грязные, почти голые нацепили на себя веревки и лямки и тянут громадную тяжесть в несколько сотен пудов, тянут в гору, под жарким южным солнцем, на его немилосердном припеке; а суровые распорядители погоняют их, бьют длинными ремнями из крепкой буйволовой кожи и громко щелкают бичи по голым, окровавленным, облитым потом спинам. И каждый удар их с болью отзывается в сердце Гризли.
– Не бейте их! – силится она сказать. – Ведь это люди! братья ваши! Зачем же вы их употребляется на непосильную, скотскую работу!
Но не слышат люди этого голоса сердца, и тянется медленно в гору вся эта процессия. Мотают головами волы и буйволы, гремят, звенят тяжелые медные цепи, которыми скреплены дроги.
Кучка людей стоит в стороне от дороги.
– Это везут, – говорит один, – новую статую Афродиты к патрицию Галикарху… в его новую виллу.
– Вот там, на этой вилле, – говорит молодой курчавый парен, – собраны дива разные… Там статуи и бронза невиданный, и занавеси из пурпура, и везде блестит акалийский, бледно-розовый мрамор, и золото – много золота.
– Да! – говорит старик: – у сатрапа Галикарха много золота и много рабов…
– Мама! – говорит маленький ребенок матери: – зачем же их так бьют?.. Посмотри! У этого кровь течет по спине… Ведь им больно…
– Так надо! – говорит мать. – Если бы хорошо работали, то не били бы их…
И тускнеет перед Гризли вес этот чудный мир красоты и гармонии.
– Там, где сердце бесчеловечно, там нет гармонии! – шепчет она и летит дальше, дальше от этих голубых гор, от этого синего моря, от чудных белых мраморов, роз, олеандров и азалий…
Ей представляются все эти несчастные илоты-рабы, которые устраивают этот дивный мир гармонии. – Он куплен их слезами и кровью…
И видит она, как все эти забитые и задавленные молятся Богу-освободителю, молятся, в темных тайниках, в катакомбах, в подземных расщелинах и пещерах… Они молятся всем жаром души, всем пылом сердца…
И, тихий, неведомый голос повелительно и властно шепчет над ухом Гризли, шепчет, твердит одно и тоже.
– Тяжелы страданья!.. Сладостно освобождение!.. Не вкусишь горького, не узнаешь сладкого!
И тихо, но повелительно в вышинах надзвездных звучит призывный, любящий голос:
«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы!»…
И незаметно влетает она в другие широты, далёкие от красивого жаркого юга… Везде кишат люди… ползают, копошатся…
Подлетает она к многолюдному городу. Как громадный муравейник разлегся он на многие версты и весь он окутан сизым дымом и черной копотью. Валит дым клубами из высоких труб. Небольшие, но высокие домики стоят, как кирпичные ящики, и всюду трубы, трубы, мириады труб… Черные закопчённые проволоки тянутся во все стороны, длинные, черные хлопья копоти висят с них. И солнце не светит сквозь облака черного дыма…
«Здесь нет красоты!» – думает Гризли. – «Здесь жизнь упорного труда»… И летит она по главной широкой улице города. – Ярко освещена улица электрическим светом. Ярко горят его лампы в роскошных салонах и магазинах… И блестят в них бриллиантовыми огнями граненый хрусталь, бронза и золото, серебро и алюминий – дорогия, нарядные ткани таких нежных, приятных цветов.
Но отчего же сквозь грохот экипажей звучит какая-то жалобная нота, откуда долетают эти крики страдания?…
Гризли поворачивает в сторону, за несколько домов от этой нарядной роскоши и блеска, и сразу, резко изменяется картина. В высоких домах и грязь, и вонь, и бедная тяжелая жизнь в непосильном труде… И дети. – бедные дети! – худые, оборванные, грязные… обвернутые в лохмотья…
Господи! – думает Гризли: – ведь для них только начинается жизнь!..
И летит она дальше, прочь от этого грязного золота, от этого фальшивого света большего города… Туда на простор загородной жизни… Но и там, за городом, дымят, коптят длинные трубы и в длинных, длинных многоэтажных зданиях стонут и надрываются дети от непосильного труда… Они выходят из этих зданий: грязные, закопчённые, худые… их выпустили отдохнуть, погулять, поиграть. Но ни отдых, ни игры, не соблазняют душу измученных тяжелым трудом… Молча стоят они, опустив головы…
Дальше! Прочь от этой тяжелой картины. Дальше летит Гризли, на простор сельской жизни, нетронутой природы… Вот прекрасные коттеджи, красивые загородные дома и дворцы, чудные парки, блестящие экипажи… Но рядом с этими дворцами и парками, убогие, полуразвалившиеся лачуги и в этих лачугах живут всё те же– бедные, убогие, не имеющие ни угла, ни куска хлеба, – над ростом, которого они так трудятся усердно… Стоны раздаются из этих убогих лачуг… И не доходят эти стоны до раззолоченных дворцов, до прекрасных, красивых коттеджей……
Дальше, дальше от этой тяжелой, несправедливой жизни летит Гризли… Туда в горы. «На горах свобода!..» сказал он, – великий поэт Германии.
Но и в этих горах, работает человек, стучат кирки, звенят лопаты… Громадная труба поднимается кверху, огромное колесо вертится и опускает бадью глубоко, глубоко в подземную шахту. И вся ладья полна бедными, исхудалыми, бледными детьми…
При взгляде на них, на их осунувшиеся, испитые лица– на их почти голое тело – худое, как у скелета – все сердце Гризли перевертывается от жалости… и слезы сами собою бегут из её больших, черных глаз.
– Господи! – всплескивает она руками… Для чего же! – Почему Ты, милосердый, осуждаешь на непосильный, грязный труд этих малых, тех, которых Ты так любишь?!!
И невольно, незаметно опускается она вместе с бадьей, спускается в глубь каменной горы, в недра земли, спускается на несколько десятков сажень… Чем ниже спускается бадья, тем душнее становится воздух… Его мало, его не хватает ни для детей, ни для ламп, которые горят у их поясов.
Спустилась бадья…
И выползают из темных узеньких нор другие, дети, на смену тем, которых спустила бадья. Вылезают они, как длинноногие, исхудалые, черные пауки… Нет в них ни образа, ни подобия человека… Идут, шатаются…
А на место их в темные, грязные, вонючие и сырые норы полезли другие дети… Вот один мальчик совсем худенький, тщедушный, маленький – влез он в подземный душный коридорчик, всполз на четвереньках, обернулся, лег на спинку и принялся колотить свод киркой. Однообразно, монотонно стучит кирка… И кажется Гризли, что говорит она одно и то же… Одно и тоже…
«Трудись, чтобы жить,
«Живи, чтобы трудиться».
Что-то тяжелое, страшное, налегает на душу и сердце… Ей кажется, что живой мертвец лежит в гробу и выстукивает ужасную песню:
«Живи, чтобы трудиться,
«Трудись, чтобы жить».
…Воздуху! Свету!.. – вскрикивает она всеми силами души… – И… просыпается.
Просыпается в её роскошной, княжеской спальне… Где повсюду золото и мрамор, шелк и бархат…
Просыпается она вся в слезах и плачет и рыдает и одного не может припомнить: отчего сжималось во сне её сердце такой страшной надрывающей жалостью?!
XIII
Тихо, уныло спускаются сумерки… И на бедное измученное сердце Гризли ложатся вечерние тени. Розовым светом окрашивается далекий горизонт, поля и леса и тихий воздух шепчет Гризли.
– Земное страдает!.. Небесное вкушает покой и радость!..
Спит она или не спит?! – Она сама не знает. Она видит себя… Вот лежит она, в белом платье, на широком диване… И в то же время она чувствует, что она здесь, высоко над диваном стоит на воздухе… И не знает, как и чем она держится. Она стоит в том же белом платье и также заплаканы её глаза… и так же смутно её сердце… Ей хочется рассмотреть вторую себя… ту которая, бледная, лежит на диване. Но какой, то повелительный голос, внутри её сердца, говорит ей…
– Иди!..
И она, послушная ему, поднимается выше, летит, летит в мягком вечернем воздухе и видит, как от всей земли поднимается легкий пар… Он тихо стелется над водами, над прудами, озерами и болотами… И видит Гризли, как в этом легком тумане носятся, снуют, маленькия прозрачные существа… Ими пропитан, ими кишит весь воздух и воды, и вся грязь земная… Безобразные злые существа… Что они делают? думает Гризли… И какая масса их!!.
И смутно чувствует Гризли, что эти существа не добрые гении, а разрушители жизни всего земного… И человек борется с ними всеми силами его ума…
И слышит Гризли особенный тяжелый запах, запах земли, сырости, запах болот и всего гниющего… убийственный запах!..
«Это работают они – злые существа», – думает Гризли.
И видит она, как люди гибнут, миллионами, от этих злых существ, гибнут по всей земле и не могут победить их разрушающую силу… Они трудятся насколько могут и умеют, а все эти крохотные микроскопические существа – эти злые атомы – смеются над их усилиями и поют одно и то же, одно и то же…
Живи, чтобы трудиться
Трудись, чтобы жить…
Тяжелый, заразный воздух окружает Гризли… Дышать нечем. Везде, куда ни обернись, невыносимый запах… Это гниют, разлагаются тысячи трупов… разбросанные в мельчайших атомах земли. Смерть всюду борется с жизнью и побеждает ее, несмотря на все её усилия…
Но и самая жизнь, каждая её работа, издает тяжелый, убийственный запах… Пахнут рыбы, пахнут птицы, пахнут звери… Каждая плоть и каждое дыхание увеличивают смрад тяжелого воздуха земли и болот…
Гризли летит на простор цветущих лугов, в рощи, полные сладким, чарующим запахом лип… на холмы, покрытые розами… Но во всех этих запахах она чует тленное и преходящее… Все эти ароматы усиливаются, принимают острый ароматический запах и переходят в тяжелый смрад разлагающегося трупа…
– Бренное проходит!.. Вечное остается!.. – шепчут все цветы лип и роз.
«Все обман! Обман! думает Гризли. Тяжелый обман?!»
И кажется ей, что все эти запахи превращаются во что-то липкое, тягучее, что пристает к ней, обволакивает слизью все её тело… И вся земля в рощах и на лугах, на горах и долинах становится липкой, скользкой трясиной…
Всюду тянется что-то отвратительное, какие-то осклизлые лохмотья.
Господи! Где же спасенье… от земной грязи!..
– Оно внутри тебя! – шепчет ей строгий голос: —оно в детской простоте невинного сердца. В любви к чистому и возвышенному!..
И Гризли чувствует, как радостны эти слова, как твердое и тихое успокоение вливается с ними в душу… С неё спадает тяжесть плоти, грязь, горе. Она стала ребенком, маленькой девочкой… Вот тысячи маленьких головок смотрят из всех цветов… расплетаются венками, блестят звездочками.
– Выше Гризли! Выше! говорят они; полетим выше от земли в чистые высоты, где нет ничего земного… Ни стремлений, ни запаха земли.
И она летит, поднимается выше и выше… Она чувствует, что тяжесть и грязь земли спадает с неё; она чувствует, как рвутся гнилые нити, привязывавшие ее к этой земле, полной всяких гадостей… Она летит к свету, который всех любящих греет с такой великой неземной силой и любовью… Он блестит над ней, своими ласковыми притягивающими лучами – и в этих лучах исчезают все узы земные, тают все помыслы и стремления плоти…
Она видит, как незаметно спускается, окружает ее красота небесная…
И она понимает, что эта красота полна гармонии, что она часть великого света, блещущего в высотах недостижимых.
Кругом её невиданные, непостижимые цветы и деревья… Это не красота земная. Нет! Это что-то высшее, недостижимое и неописуемое… Это сад, в котором все стройно, прекрасно, на что можно вечно смотреть и не налюбоваться…
И чудный нежащий свет, и чудный нежный ласкающий запах, святое благоухание…
– Господи! Вот дети!.. Много детей. Она слышит их радостный лепет… Их говор, веселые крики и детские песни… Они все взялись за руки, составили громадный круг и запели славу… Славу Ему – славному и сильному, доброму и любящему… Ему – источнику света, любви и всякой красоты, и гармонии!
И в слезах от сильного душевного порыва, Гризли вся приникла долу.
– Иди! Пора! – шепчет ей строгий голос… – Иди назад.
– Куда же идти!?..
Но она чувствует, как тихо, тихо, незаметно она опускается долу… Закрывается, меркнет красота небесная, меркнет свет нежный и ласковый!.. Сердце снова сжимается земной тоской и страданием…
– Господи! – простирает она руки к небу. – Господи! Отец мой небесный!.. Смилуйся над твоей дочерью… Не дай мне снова погрузиться в тьму земную.
– Иди!.. – твердит ей повелительный голос…
И чувствует она, что уже окружает ее надземный воздух, тяжелая убийственная атмосфера и опять этот невыносимый, тлетворный запах, запах плоти, пота и крови… земных трудов и страданий. Опять окружает ее грязь земли – жидкая, зловонная… Грязь и пыль… Опять носятся в воздухе те же злые крохотные существа… Много их, целые мириады!
Вот она опять в её спальне и видит, как перед ней на диване лежит опять она… в мертвой неподвижности…
Вся душа её замирает от страха и горя…
– Иди! – твердит могучий, повелительный голос…
И остановилась она над этим страшным мертвым телом.
– «В нем нет духа жизни и оттого оно так безобразно… – думает она. – В нем точно в темной, душной темнице».
И она наклоняется над ним, смотрит… Как страшно глядит этот белый полуоткрытый, закатившийся глаз… И эти космы волос, грубых, точно проволоки… И вся эта мертвая плоть, покрытая холодным, липким, вонючим потом… При одной мысли, что она должна войди в нее… во все эти кровавые органы и фибры, в эти отвратительные слизистые оболочки и поры… При одной этой мысли у ней сжимается сердце, кружится голова…
– Господи! – шепчет она: – Спаси!.. Избави!..
– Иди!! – твердит могучий, неумолимый голос.
И она сама, не зная, как, с слезами отчаяния, бросается в это мертвое тело и в то же время оно все проникается жизнью…
Забилось сердце, вздохнула грудь, втянула убийственный тяжелый смрадный воздух земли… приподнялась Гризли… очнулась… Только смутные, тоскующие тени проходят в её сознании, и тяжело и больно ей… и слезы сами льются из глаз.
XIV
Тяжелые дни спустились на старый дом. Дождь и непогода пируют в старом саду, точно поздней осенью. Неслышно пения птичек, присмирели, запрятались, даже, юркие воробьи; попрятались все насекомые.
Тяжело, противно Гризли это скучное – уныние старого сада; но еще противнее ей унылые стены старого дома, – запачканные, осыпающиеся; противна ей запыленная, душная зала и почернелая позолота рам на картинах и самые картины, потрескавшиеся и выцветшие.
– Все рушится!.. Все тлен!.. наследие червей и могилы, – шепчет она.
Но где же это вечное… недосягаемое, что наполняло таким сладким трепетом её детские грезы… когда жизнь манила ее в даль неведомого и смутно желанного?!
– Все вздор! Все бабья сказка! – слышится Гризли смущающий голос старых стен, мраморов, бронзы и картин.
И постоянно чудится Гризли тяжелый смрадный запах… точно запах старых, тлеющих костей.
Воздуху нет!.. этого тяжелого, губительного, разрушающего воздуха, этого верного помощника времени… крылатого, дряхлого старика с косой…
– Это все дело кислорода и озона – говорит Гриша… – это зуб времени!..
И она закутывается теплой шалью… Ей холодно; лихорадка в её теле, в её костях… Но она должна идти… Там, в её больнице лежат страждущие и немощные… Каждое утро навещает их Гризли… Иногда она проводит даже ночи у постели больной, которая нуждается в утешении…
– Вот! – думает Гризли – здесь нет тяжелых мучительных вопросов, здесь нет красоты… нет неопределенных стремлений к таинственным неизвестным областям… Но отчего же сердце все-таки бьется любовью к этим страждущим и немощным?…
– Что? – спрашивает Гризли, наклоняясь над больной, еще не старой, но страшно исхудавшей женщиной. – Лучше ли тебе, Агафья?
– Матушка наша, – шепчет Агафья: – ангел наш… деточек моих… крохотных не оставь!
И слезы текут из её глаз.
– Не оставлю… милая… не оставлю… будь покойна!..
– Болезная наша, – говорит баба: – сама-то ты наша благодетельница… кака худая, испитая, болезная… лихоманка с тобой?… что ли?.. дрожишь ты вся.
– Это пройдет! ничего! – говорит Гризли.
И действительно, она чувствует, как по временам это проходит. Лихорадка оставляет ее, и она полна молодых сил и жизни… И ей хотелось бы, страстно хотелось, отдать эти молодые крепкия силы всем этим, хворым, болезным, умирающим.
– На что они мне?! – думает Гризли – на что они этому бренному телу, хлипкому, этому праху земному… пускай разрушается!., если нет другой светлой жизни, жизни полной красоты, гармонии, света истины и благости… Зачем же жить?!
Живи чтобы, трудиться,
Трудись, чтобы жить.
Шепчет несмолкаемый, однообразный дождь и унылый ветер.
– О! я знаю эту лукавую песню!.. Я не верю ей!.. Я верю в то высшее, что над нами, что выше бренного земного и сияет там… за этими плачущими небесами…
И она смотрит наверх, на серое небо и с этого неба каплют ей на лицо мелкие дождевые капли.
– Это слезинки Господни!.. – думает она. – Это слезы людского горя, земной тяготы и неволи.
И идёт она домой, кутаясь в шаль… Но и сквозь теплую шаль долит ее внутренний холод…
Вот уже несколько дней, почти каждую ночь и каждый день является этот нестерпимый холод, от которого дрожит, душа ее и сердце…
Напрасно её Гриша старается победить её лихорадку и слабость. Его сила оказывается бессильна. Натура Гризли уже не поддается ему, не засыпает, как прежде, от одного его прикосновения, от одного взгляда, от одной мысли…
– Гриша! – говорит Гризли: – мне страшно за тебя, за твое сердце, за твои убеждения и верования.
Он пожимает плечами.
– Верований у меня, нет – говорит он: —а мои убеждения все вытекают из неумолимой логики фактов… Я не могу, как ты, ставить выше всего чувство… Не могу отдать себя служению прихотей глупого сердца.
– Гриша! – сказала она, приподнявшись с постели, и схватила его за руку… – Гриша! Не разрушай этой жизни, которой ты не можешь сочувствовать, не тронь этой веры, которую ты не понимаешь! Скажи мне: неужели же все человечество ошибалось до сих пор…
Он медленно кивнул головой и сказал задумчиво:
– Все развивается. Глупое сменяется умным, одностороннее – многосторонним. Страсти и животные посягания – стремлением к истине. Фанатизм – рассудочностью и человечностью…
– Но ведь человечность, Гриша… это любовь! Любовь к брату моему, к человеку?
– Нет, это рассудок… Я один не могу ничего сделать, но чем больше нас и чем энергичнее мы работаем, тем успешнее и крупнее результаты – плоды нашей работы… Чтобы работать, я должен быть сыт, одет, свободен и доволен жизнью – так же, как и всякий другой работник… Вот в этом и лежит вся человечность. А остальное все извращение, бабьи бредни, прихоть пленного ума, разврат мозга, который ведет к истерике и к фанатизму…
И с этими словами что-то холодное, тяжелое, словно скользкий холодный гад, наползает на сердце Гризли…
– Гриша! – вскричала она, вся замирая от ужаса. – Страшна!.. Тяжела эта холодная жизнь!.. В истине лежит любовь… Это её душа… Необходимо, чтобы знание было полезно для меньших страждущих братий наших.
И она вся трепещет. Дрожат её руки и ноги от нестерпимого внутреннего холода. Зубы сталкиваются Язык не слушается…
Она закрывает голову и старается ни о чем не думать, ничего не чувствовать и желает одного – полного всепоглощающего забвения.
Долго сидит Гриша, сидит целый час по временам взглядывая на нее, и наконец тихо, неслышно, встает, уходит и притворяет двери…
XV
Светает!.. Темные тучи бродят по небу… Холодный ветер гудит в поле.
Очнулась Гризли. Тихо привстала и села на постель. Все ноет внутри неё… и все, что перед глазами, смотрит как во сне, пустом и тягостном…
И какой-то внутренний ласковый голос твердит Гризли одно и то же.
– Успокойся, беспокойная душа!.. Усни, сострадательное сердце!..
Серый свет крадется в окно. Серые тени волнуются вокруг Гризли. Клубятся, слетаются… сходятся, расходятся и вновь тают, исчезают.
– Ты наша, наша Гризли! – говорят эти тени… – Ты ветка нашего старинного рода…
– Ты наша, наша Гризли! – говорят светлые детские головки… – И сколько их – этих головок!! точно на Сикстинской Мадонне… Весь воздух наполнен этими чудными головками.
– Ты наша, наша Гризли, – шепчут какие-то таинственные голоса… которые там, где-то в недосягаемой вышине, звучат окруженные дивным, неприступным сиянием любви…
Дрема и грёзы, сны и мечты долят Гризли… Она точно во сне встает.
Утро или вечер вокруг неё? Какой-то туман, хаос! А не все ли равно?! Она чувствует и не чувствует свое тело.
И туман в голове, и звон в ушах и, при всяком малейшем движении… вся комната перед ней вертится, вертится и рябит в глазах.
Но собирает она всю крепость, всю мощь её духа… И выходит она из спальни, идет по залам старого дома… По мертвым, пыльным, разрушающимся залам…
О! Теперь она знает: нет в них красоты, нет в них гармонии… Она там… в недосягаемой вышине… в светлых порывах человеческого духа… А здесь сусальная подделка её… Мертвые образы, в которых человек думал воспроизвести нетленную красоту неба мрамором, бронзой и кистью.
– Там, красота – шепчет она: – где благо!.. Там… в недосягаемых высотах… далеких от всего земного, бранного.
И больно и противно ей смотреть на все, что окружает ее теперь в старом доме… И кажется ей, что все это должно сгореть в огне очищения…
– Не оживет, аще не умрет!.. – шепчут ей и стены, и мрамор, и картины, и все атомы старого дряхлого дома…
И какие-то звуки дрожат в её душе и сердце. Чудные сладостные звуки, от которых так отрадно замирает сердце… и так легко, свободно во всем существе её…
О! Она чувствует, что эти звуки… призывные звуки… Что она поднимается по их дрожащим, протянутым струнам… Не звуки это, а какие-то токи… теченья, таинственные и влекущие…
В сердце светло… покойно. – Звуки поют чудную мелодию… Свет тихий, ласковый, окружает ее… Она плывет, она поднимается… выше, выше… выше…
Все сердце её полно радостью и трепетом.
– Господи! – думает она, достойна ли я?..
Но кругом её светлые чистые создания и кто-то ведет, несет ее на крыльях могучих…
– Ты делала добро!., говорить его голос, строгий и ласковый. – Ты стремилась к благу. Ты облеклась любовью. Ты просветилась! – Земное исчезло – эфирное одело тебя… Воля Великого исполнилась!!
XVI
Старый Дормидоныч, истопник старого княжего дома, проснулся ни свет, ни заря. Голова у него болит и кружится; всего его разломило. Дрожат, трясутся руки и ноги. Туман и мрак в голове, звон в ушах.
Вчера он был пьян; в первый и, может быть, в последний раз в его жизни он напился…
Да и как же было устоять ему, когда тяжелое горе сломило его?
Захворала его княжна. Двадцать пять лет был он истопником старого дома. Двадцать пять лет не видал и не слыхал он такой смуты, какая идет теперь в старом княжом доме.
Заболела княжна, тяжко заболела. Он сам видел ее в спальне: лежит она, бедная, как пласт, и тихо стонет.
Сказал ему старый дворовый, седой Архип, что в вине забвенье. И выпил Дормидоныч. Болит, кружится его голова.
Но по-прежнему несет он тяжелую вязанку дров в княжие покои. И топит старик массивные, нарядные печи и камины. Но не слушаются его старые, пьяные, дрожащие руки. Не слушаются его ни лучины, ни береста. Натолкает он много в печь, а ему кажется все мало, и подбавляет он еще и еще. Зажжет – и пойдет дым. Идет дым, валит. «Эка беда! – шепчет старик, – забыл, знать, отдушники закрыть и зачем топить!? Среди лета!»…








